"Три войны Бенито Хуареса" - читать интересную книгу автора (Гордин Яков Аркадьевич)
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
Первые дни после приезда в Мехико слились для Хуареса в пеструю и однообразную череду выслушанных донесений и отданных приказаний. Задача, которую он сразу же по вступлении в должность объявил своим подчиненным как первую, была очистить дороги от консерваторов и просто бандитов. Речь шла, разумеется, прежде всего о дорогах федерального округа. Забота о спокойствии штатов лежала на губернаторах. Федеральный округ — центр страны, подступы к столице — должен был подать пример закона и порядка. Точного числа бандитов министр внутренних дел установить, разумеется, не мог. Но, обдумывая сведения из разных штатов, он не сомневался, что речь идет о десятках тысяч… Это значило, что количество вооруженных и весьма решительных людей, кочевавших по дорогам и бездорожью республики и не признававших никакой власти, в несколько раз превышало численность регулярной армии и Национальной гвардии, состоящей в распоряжении правительства…
Он понимал, что не в силах решить эту задачу радикально, а может только отвечать на отдельные удары и контролировать главные пути.
Он понимал, что эта малая война будет бесконечной, пока не изменится положение в республике, пока правительство не убедит каждого мексиканца — или хотя бы большинство, — что оно творит справедливость и законность. Не законность вообще, а именно справедливую законность.
Он понимал этих людей, потерявших веру в любую администрацию и решивших изъять свою судьбу из судьбы государства, решивших самостоятельно — при помощи ружья, пистолета и мачете — отстаивать справедливость для себя, и только для себя. Этих людей невозможно и не нужно было уничтожать. Их нужно было убедить. Убеждать словами было поздно. Слова теряли в Мексике всякий кредит. Их было сказано слишком много. Нужны были дела, дела и дела. Новые дела. Нужны были радикальные реформы. А для этого сама ситуация в стране должна была стать новой и невиданной, что-то должно было сдвинуться, произойти… Он чувствовал, что не может вырваться из круга мелких дел, что его дела уже не соответствуют его новому ощущению жизни. Это мучило его. Но выход был неясен, непонятен…
— Они сражались с невиданным ожесточением, — говорил молоденький лейтенант Национальной гвардии, только что вернувшийся из-под Толуки, где его отряд окружил и разгромил полсотни герильерос. — Все молодые. Только двое стариков.
— Пленные?
— Всего четверо.
— Что они сказали?
— Я спросил, почему они бросили свои дома и пошли на дорогу. Они не могли этого объяснить… Они захватили селение и жили там три дня. Они обесчестили всех женщин, кроме старых. Если мужья сопротивлялись — убивали. Отбирали все ценное — женские украшения, оружие, серебряную посуду, у кого была. Но больше всего меня поразило не это. Так всегда бывает. Но они убили священника. Он отказался благословить их оружие, когда начался бой. И они зарезали его. Не хотели тратить патрон. Это удивительно. Так раньше не было — поднять руку на священника! Я спросил одного, почему они решились. На это он ответил быстро и уверенно, что господь захотел вознаградить их за все лишения и дал право радоваться жизни, любить всех женщин и брать лучшую пищу. А священник пошел против воли божьей. Он был недостойным священником. И они наказали его. Такова была воля господа. Я никогда раньше не слышал таких разговоров. Священника звали Андреас Хименес. Он был новым в этом селении. Жители говорят — очень добрый и справедливый. Оружие мы сдали в арсенал. Пленные пытались бежать ночью и были убиты.
Министр внутренних дел дон Бенито Хуарес похвалил лейтенанта и отпустил его.
Он сидел за столом в просторном кабинете. Куда более просторном, чем его губернаторский кабинет в Оахаке или кабинет домашний, с дверью в спальню. Он сидел, перебирая записи, которые делал при каждом докладе, и стоило ему повернуть голову влево, как ему открывалась в окне большая площадь, полная пешего и конного народа, веселых оборванных леперос и надменных креольских щеголей, медлительных, спокойных индейцев в пончо, глазевших на президентский дворец, и посыльных, устремленно бегущих куда-то. В движении толпы, коней и экипажей не было системы и смысла.
Министр внутренних дел дышал очень ровно, короткими точными движениями раскладывая листки с записями. Он прекрасно помнил священника Андреаса Хименеса. Он помнил этого тучного больного старика, которого выслал из штата Оахака за то, что тот отказал в исповеди алькальду какого-то маленького городка, алькальду, присягнувшему правительству президента Комонфорта. Священник приходил к нему и пытался объяснить, просил оставить его в городе, где он служил много лет, почти всю жизнь…
Сеньор Матиас Ромеро, личный секретарь министра, вошел к нему в кабинет, как всегда строгий и сосредоточенный, и положил перед ним клочок бумаги. Хуарес успел заметить бледную худобу его руки.
Хуарес смотрел в записку долго, как бы не видя того, что было написано на этом истертом клочке.
— Вы уверены, мой друг, что это правда?
— Нет, разумеется, но легко проверить. Послать гвардейцев…
— Нет. Сеньор Бас еще исполняет свои обязанности?
— Да, но он уже передает дела.
— Попросите его прийти ко мне. Немедленно.
Через полчаса Хуан Бас скакал по улицам Мехико в сопровождении десяти национальных гвардейцев и двухместной черной кареты.
Способы внезапного ареста были разработаны Басом тщательно. И в этом случае он оставил свой отряд за углом, а сам, пеший, быстро подошел к двухэтажному дому сеньора Марио Сервантеса, отставного капитана, и стукнул бронзовым молотком. Оттолкнув слугу, открывшего дверь, он взбежал по лестнице. Где находится нужная комната, он знал из записки, прочитанной в кабинете Хуареса.
Через две минуты после того как губернатор федерального округа исчез в темном, тут же закрывшемся проеме, национальные гвардейцы окружили дом…
Ни страха, ни гнева, только досаду испытал полковник Мирамон, увидав Хуана Баса, входящего в комнату. Он собирался на следующий день покинуть столицу. Его ждали две сотни отчаянных молодцов, разбивших лагерь в горном ущелье к северу от Мехико. И вот тебе!
После бегства из разрушенной Пуэблы, после долгих скитаний во главе кавалерийского отряда по центральным штатам, после отчаянных боев и неизменных побед над правительственными частями, побед, не приносящих ничего, кроме горечи от их ненужности и бессмысленности, после того как его отряд стали неуклонно теснить к границам штата Герреро, где он неизбежно попал бы в руки старого Альвареса, полковник Мирамон был тяжело ранен в ногу под селением Сультепек. Ему грозила ампутация, но друзья сумели переправить раненого в столицу, где опытные врачи и прекрасный уход совершили чудо. Нога уже почти не болела, он был уверен, что может сесть на коня. И вот тебе!
Раздраженным, капризным жестом Мирамон бросил на стол томик Ксенофонта и встал.
Бас выставил худую ногу и положил ладонь на расстегнутую кобуру.
Мирамон презрительно пожал плечами и отошел к окну. Кепи национальных гвардейцев ярко белели на солнце.
Бас молчал.
Мирамон надел мундир и стал медленно застегивать крупные медные пуговицы.
Вошел хозяин дома.
— В чем дело, сеньор? Мой гость болен…
Бас остановил его движением руки.
— Не отягощайте свою совесть ложью, сеньор Сервантес. Я подумаю, как быть с вами.
Сервантес прижался прямой офицерской спиной к косяку.
— Я найду доносчика и убью его.
— И будете расстреляны, — сказал Бас, не поворачивая к нему головы. Рука лежала на кобуре.
Мирамон взял под мышку книгу и пошел к двери. Они с Сервантесом коротко поклонились друг другу. Бас спускался по лестнице вплотную за Мирамоном, глядя на его выступающий юношеский затылок и ложбинку на шее — над мундирным твердым воротником.
Двухместная черная карета ждала их у подъезда. Бас и Мирамон сели в нее. Гвардейцы окружили карету.
Карета тронулась. Мирамон, насколько это было возможно, отодвинулся от Баса, прижавшись к дверце.
— Терпеть не могу столь близкое соседство либерала, — сказал он с брезгливой усмешкой. — Обычно я держал их на дистанции выстрела или — в худшем случае — клинка.
— Потерпите. Надеюсь, это ваша последняя прогулка в карете. Пора ответить за пролитую кровь.
— Вы имеете в виду мою рану? — Мирамон насмешливо скосил на губернатора круглый глаз.
— Я имею в виду кровь честных граждан, которых вы убивали. И кровь тех обманутых глупцов, которых вы вовлекли в убийства.
— Крови пролито много, — согласился Мирамон и простучал ногтями по кожаному переплету Ксенофонта, лежавшего на его коленях, сигнал конной атаки. — Крови много… Но вы, сеньор Бас, с вашим плебейским сознанием не можете понять — дело не в самой крови, а в том — за что она пролита. В пролитой крови можно испачкаться, но ею можно и очиститься. Вас пролитая вами кровь грязнит. Нас — очищает. Мы сражаемся за святое дело, а не расстреливаем порядочных людей в тюремных дворах.
— Святое дело! Темная, угнетенная страна, ошалевшие от чванства и безнаказанности генералы, бессовестные и корыстные священники, спекулирующие именем господним…
— Все верно, — Мирамон с удовольствием смотрел на худую дергающуюся щеку Баса. — Все верно. И если бы такие сумасшедшие дилетанты, как вы, не путались у нас под ногами, мы очистили бы Мексику и вернули ей идеал веры и долга. Мы проливаем кровь за идеал, сеньор либерал. А вы — за то, чтобы запутать души в унылую паутину вашей липкой демократии. Бр-р-р! Когда я думаю об этом, мне хочется вымыться с головы до ног!
— Кровью сограждан?
— Нет, теплой водой. Вам, очевидно, незнакома процедура умывания водой? Еще бы! Ведь ваш идол — этот Хуарес — совсем недавно слез с дерева и сразу же, без всякого перехода, облачился в адвокатский сюртук. Неужели он отучил мыться всех своих последователей?
Карету тряхнуло, и их бросило друг на друга.
— Вот Мексика ваших мечтаний, сеньор либерал, — душная теснота, и чтоб при каждом толчке вас кидало на сомнительного соседа. Или его на вас. И чтоб деться было некуда.
Бас засмеялся.
— Я много слышал о вас, дон Мигель, но не предполагал, что вы такой весельчак. Вы что, этим потоком болтовни заглушаете страх перед судом и приговором? Не смею вам мешать — продолжайте!
Мирамон замолчал.
Первое, что увидел Мирамон, когда его ввели в дежурное помещение тюрьмы Ла Акордада, было растерянное лицо лейтенанта Трехо, его бывшего ординарца по XI бригаде…
Дон Бенито Хуарес приказал сеньору Ромеро никого не впускать в кабинет. Он курил, сильно вдыхая дым. Он не умел мыслить абстракциями. Борение идей, борьба политических партий, экономические процессы — что это? Невозможно представить себе всех этих людей — дерущихся, плачущих, копающих землю… Огромный круглый омут лежал по ту сторону большого министерского стола. Вода в нем медленно бурлила, темные мощные струи подымались из глубины, ударялись о черные камни берега и снова уходили в глубину. Медленное, неопределенное круговое движение… Иногда поверхность омута вздувалась, становилась гладкой и выпуклой, со стеклянным вулканическим блеском. И тогда казалось, что вот-вот произойдет что-то, что нарушит это бессмысленное кружение воды, но замутненные полосы быстро проступали на поверхности, она пузырилась, распадалась на мелкие хаотические течения, снова поднимались из глубины могучие бесплодные потоки…
Что-то должно произойти. Страна устанет от однообразия этих мелких политических дрязг, наступит самое страшное для революции — равнодушие народа, у нас самих начнут вяло кружиться головы, бесконечное похмелье после веселого и жестокого праздника с танцами и резней, противно смотреть на мачете, неохота смывать с них шершавые пятна, похожие на ржавчину, неохота работать и противно думать о будущих праздниках… Все так знакомо и не сулит перемен.
Что-то должно произойти. Революция не позволит себе иссякнуть в этой рутине.
Ромеро заглянул в дверь.
— Да, да. Заходите, мой друг. Я отдохнул.
Ромеро своей расслабленной неслышной походкой подошел к столу и положил перед министром тонкую пачку исписанных листов.
— Я суммировал все сведения, поступившие с момента вашего приезда, дон Бенито… Речь идет об антиконституционном движении.
— Хорошо, мой друг.
Ромеро опустил бледное сосредоточенное лицо с непомерно высоким от ранних залысин лбом.
— Все очень странно и очень серьезно, дон Бенито.
— Хорошо, мой друг. Я посмотрю.
Ромеро вышел.
Хуарес медленно перебирал листы. Он и так догадывался… Ах, господин президент, милый Игнасио, с нежными выпуклыми глазами, так часто обращенными внутрь себя, слабый человек, желающий казаться собственным памятником, неплохой генерал и плохой политик, понимаешь ли ты, чем рискуешь?
А ты, Хуарес, мальчишка из Гелатао, понимаешь ли, чем рискуешь ты? Не только своей честью и головой, не только жизнью Маргариты и детей… Понимаю… Но время пришло. Не для меня — для Мексики. Я должен рискнуть. В этой игре уже нельзя играть по правилам. Я, законник Хуарес, юрист по преимуществу, я, закованный в черный сюртук и белый крахмал, я должен разорвать этот круг. Прости, Игнасио, ты идешь к пропасти, ты взялся не за свое дело. Я не могу спасти тебя. Я не пойду с тобой. Я останусь и начну истинную революцию… Простите меня все, кто еще погибнет… Быть может, я — первый… Так не должно продолжаться. Иначе взрыв уничтожит Мексику… Я должен рискнуть! Для того я пришел из Гелатао, для того я не погиб от укуса змеи, не умер от голода, все для того!
Министр внутренних дел лисенсиат дон Бенито Хуарес дернул шнурок. Вошел бледный Ромеро. Хуарес раскуривал сигару. Он бросил спичку и левой рукой протянул секретарю листы.
— Возьмите, мой друг, — спокойно сказал он. — Странного много. Но все еще неясно. Посмотрим…
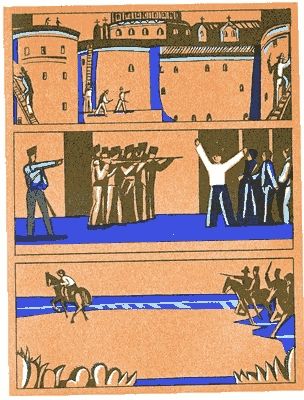 |
Ромеро с изумлением, столь редким у него, смотрел на неподвижное смуглое лицо. Вежливое и сочувственное внимание выражали глаза Хуареса. Больше ничего.
— Позаботьтесь, чтоб эти заметки не попали в чужие руки. Они могут быть слишком вольно истолкованы. В приемной есть кто-нибудь?
— Да, дон Бенито. Капитан Национальной гвардии из Оахаки.
— Я готов принять его.
Ромеро, не спуская глаз с Хуареса, сделал шаг назад.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |