"Образ врага. Расология и политическая антропология" - читать интересную книгу автора (Савельев Андрей Николаевич)
Глава 1. От биологии к политологии
В современной российской политологии понятие «образ врага» чаще всего используется в качестве метафоры, за которой стоит желание представить идеальную политику без отношений «друг-враг», свести любые конфронтационные отношения к минимуму или вовсе их устранить. Такой подход более всего свойственен тем, кто явно или неявно исходит из мифа эпохи Просвещения о том, что «человек по своей природе добр». Соответственно, снижение уровня любой конфронтационности возможно и необходимо.
Второй способ устранения «образа врага» состоит в том, чтобы лишить его конкретной оппозиции, которая извечно существует в истории как борьба между народами или борьба между государствами. Тогда во главу угла ставится гуманистический принцип «плохих народов нет, а только есть плохие люди», появляются добронравные, но абсолютно нежизнеспособные доктрины, типа горбачевского «нового мышления».
Внешне альтернативный, но в действительности практически совпадающий с предыдущими, философский подход строится на представлении о «первородном грехе», который, тем не менее относится не к сфере общественной жизни, а к духовным переживаниям, которые переносятся в сферу саморефлексии. «Образ врага» теряет черты человеческого лица и превращается в набор иносказательных сюжетов или притч, в которых Зло лишается ясного облика. В социальной проекции в этом случае все снова сводится к тому, что бороться надо не с людьми, а с их грехами. В реальной политической практике данный подход просто невозможен, и, как будет показано ниже, прямо противоречит самому понятию политического.
Достаточно очевидно, что все указанные подходы фактически запрещают всякую возможность выстраивать политическую стратегию как на макроуровне (в межгосударственных отношениях, где представление о «вероятном противнике» является стержневым элементом любой оборонной доктрины), так и на микроуровне (в условиях внутрипартийной конкуренции, в борьбе за лидерство в политических группах и т. п.). В связи с этим, следует рассматривать присутствие «образа врага» в качестве фундаментального признака социальных процессов, который невозможно устранить никакими гуманистическими соображениями.
Россию год за годом терзают кампании по борьбе с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом, а также фашизмом и нацизмом. Усердные усилия русофобствующих «правозащитников», за хорошее вознаграждение исполняющих заказы зарубежных врагов России, были защищены правоохранительными органами от законных преследований. Несмотря на то, что Президент Российской Федерации инициировал закон, ставящий под контроль деятельность неправительственных организаций — о чем много шумели в России, а Конгресс США даже выносил специальную резолюцию по этому поводу. В действительности ни Генеральная прокуратура, ни спецслужбы с агентурой информационных диверсантов бороться не собирались — их не волновала перспектива превращения России в образ врага для всего остального мира, а в самой России — насаждение враждебности к патриотам нашей страны. Может быть, благодаря этому тема сохранения и сбережения русского народа оказалась одной из достаточно заметных в шквале либеральной политической публицистики. Обвинения в расизме вызвали интерес публики, а на этот интерес откликнулись массовые издания и информационные агентства, которые ранее подобными темами пренебрегали.
Оказалось, что антропологией и генетикой человека в России занимаются не только те, кого еврейские экстремисты обзывают «расистами». Но среди тех, кто не чужд расовой мысли, очутились лица, весьма близкие к Кремлю и совсем не оппозиционеры. Так, в парламентском журнале «Российская Федерация — сегодня» (№ 24, 2005) с расовыми темами отметились два члена Совета Федерации. Бывший президент Саха-Якутии, привел слова Вернадского, отнесенные к кризисному состоянию русского народа после гражданской войны: «Я боялся больше, чем теперь, биологического вырождения. Раса достаточно здорова и очень талантлива. Может быть, выдержит». Представитель Хабаровского края, судя по опубликованному интервью, признался к симпатиях к Хаустону Стюарту Чемберлену, о взглядах которого, как поведано читателю, он пишет статью, относя этого автора к кругу серьезных мыслителей, оказавших существенное на мысль и культуру ХХ века. Тот факт, что Чемберлен является одним из основоположников «арийской теории» философа из Совета Федерации не смутил, а, напротив, заинтересовал.
Пример мышления, который можно было бы назвать «расологическим», продемонстрировал либеральный эксперт-аналитик, в прошлом соратник организаторов приватизации национального достояния России, прошедший госслужбу на многих высших должностях и утвердившийся как председатель «круглого стола «Бизнес России». Он заявил: «Воинское сословие, как и вообще правящее, господствующее сословие — это реликт иной этнической группы, завоевавшей и присвоившей себе некую территорию со всем ее население. Принадлежность к аристократии потоми и наследственный статус, что она вообще-то «народ», только другой» (Главная тема, ноябрь 2005, с. 10). И в этом случае интеллектуал не смутился, что его взгляд на историю объявят расистским. Возможно, в данном случае проявилась скрытая доктрина, с помощью которой русское большинство современной России было превращено в бесправную бедноту. Потому «правозащитники» обнаружили здесь «своего» и не бросились обвинять автора в «расизме».
Заметной публикацией расологического направления, показавшей, что русская наука продолжает любопытствовать по поводу человеческой природы — как бы кому-то ни хотелось объявить антропологию лженаукой, а генетику — «продажной девкой» гитлеризма, — оказался обзор в популярном журнале «Коммерсантъ-власть» с шоковым заголовком «Лицо русской национальности» (26 сентября 2005). В этом обзоре журналисты пытались излагать результаты антропологических исследований, переврав все, что только можно. Увы, попытка антропологов и генетиков указать на грубые ошибки и подтасовки при использовании их материалов не дала результатов. Напротив, публикация широко распространилась в сети Интернет и даже была воспроизведена рядом патриотических изданий. Содержание публикации и некоторые данные из нее все же стоит обсудить как образец искаженного восприятия научных фактов, за которым следуют всплески новых этнических фобий.
В силу неосведомленности корреспондентов, большая часть материала изуродована различными глупостями. Например, утверждением, что американский белый англосакс «стал генетически негром на 30 %». Или, что наложением фотографий можно создать «облик типичного русского человека» или даже «эталонного человека». Корреспондентам невдомек, что изменчивость может быть столь же характерной, как и неизменные черты. Остается только шокировать читателя домыслами о том, что классический европеоид может в тайне быть своеобразным генетическим диверсантом — полунегроидом.
Разумеется, журналу очень хотелось первенствовать в публикации фотороботов «абсолютно русских людей». И это было сделано. Правда, под областными типажами, как это совершенно очевидно (а также известно из данных соответствующих исследований), на страницах журнала оказались обобщенные фотопортреты чуть ли не одной и той же деревни — в каждом фотопортрете в действительности были обобщены не более 50 лиц с явно родственными чертами. При этом собственная гордость публикаторов разогрелась от утверждения, что французам не удалось составить обобщенный портрет француза — в них получилось только размытое пятно. В то же время, любому ученому и не очень ученому человеку должно быть ясно и без всяких фототехнологий, что усредненного портрета представителя какого-то народа получить невозможно в принципе. Мы по своим близким знакомым, достоверно принадлежащим к одному с нами народу, можем видеть такое разнообразие, которое никак не усреднить. И в то же время мы хорошо отличаем представителей своего собственного народа от других, расово отличных от нашего народов.
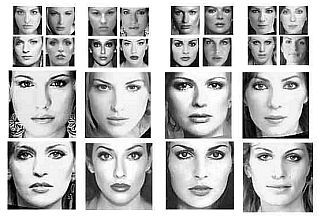 |
 |
Еще одно утверждение публикаторов — предложение размещать высокотехнологичные сборочные производства на юге России, где пальцы у людей более тонки и чувствительны. Как будто сложные изделия и высокую культуру производства создают пальцами, а не рассудком, волей и духом.
Замечательно, что популярное издание приходит не только к антропологии, но и к генетике. Геногеографические карты, как выяснили журналисты у ученых, очень неплохо совмещаются с картами распространенности русских фамилий. Правда, авторы исследования позднее написали, что и карты не те, и Кемерово публикаторы превратили в Кубань, и допустили много других ошибок. Например, карта, воспроизведенная невежественными журналистами, была просто обозначением зоны надежности результатов, то есть просто изученной территорией. Публикаций настоящих карт «русской генетики» и обсуждение корреляции с антропологическими данными и картами фамилий — еще впереди.
Занятным оказался результат изучения русских фамилий — особенно для власть имущих. Из 15 тысяч русских фамилий президент Путин занял по частоте упоминаний почетное место в середине пятнадцатой тысячи, а Ельцин в список русских фамилий вообще не попал. Ближе к русскому ядру были Андропов (в конце 9-й тысячи как носитель южнорусской фамилии), Черненко (в конце 5-й тысячи как южнорусский), Хрущев (в 5-й тысяче, северорусский регион), Брежнев (в 4-й тысяче, южный регион). И только Горбачев попал в список 257 общерусский фамилий на 158 место.
Журналисты попытались освоить научные представления о «генетических расстояниях» между различными народами. Так, центр тяжести русской генетической общности, как было сообщено, отстоит от финно-угорской на 2–3 условные единицы, от финнов русские находятся на расстоянии 30 условных единиц. Русские от татар отстоят на 30 единиц, а львовские украинцы от татар — всего на 10 единиц. Левобережные малороссы практически идентичны великороссам. Эти данные, очевидно, касались только результатов, полученных исследованием мтДНК, но публикаторы и здесь все перепутали. Разумеется, в такомизложении видны нелепицы — отсутствие упоминаний методики определения «русского генотипа», с которым сравниваются остальные, сравнение несравнимого — генетических «расстояний», исчисленных в разных пространствах переменных и т. д. Но в целом можно понять, что учеными ведется серьезная работа.
Отрадно, что журналисты передают слова ученых о том, что нынешние мегаполисы — уничтожители русского генофонда и нужны значительные государственные инвестиции в спасение русского генофонда от деградации. Симптоматично, что о том же говорится в одной из публикаций интернет-издания «Росбалт»: «Ученые пришли к выводу, что в недалеком будущем такое понятие, как "белый человек", будет равносильно современному восприятию снежного человека: кто-то его видел, но всерьез никто не верит в его существование. На земле останутся лишь чернокожие, китайцы и арабы» (ИА Росбалт, 02.10.2005, http://www.rosbalt.ru/2005/10/02/228745.html).
Конечно, журналистам еще многое нужно понять. Как, например, одному сверхпопулярному телеведущему, который (в частном разговоре, но при свидетелях) без тени несерьезности пытался уверить меня, что все русские происходят от некоей еврейской Сары (вероятно, имелась в виду жена Авраама). Или что наука установила нашу всеобщую связь с Адамом и Евой — нашими общечеловеческими прародителями. Разумеется, еврею хочется все человечество произвести от евреев. Ему неудобно вспоминать, что даже по христианским хроникам славяне (как и все европейцы) — иафетиты, потомки Иафета, сына Ноя. И привязаны вовсе не к Палестине, не к семито-хамитской истории, не к «сарацинам».
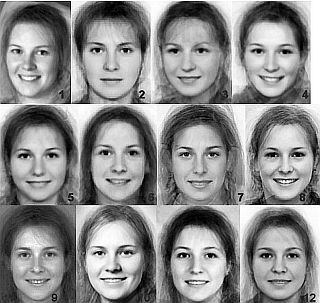 |
Журналисту трудно вместить в голову, что генетические исследования дают родство женщин с некоей «Евой»-прародительницей, а родство мужчин — вовсе не с ее мужем, а с очень отдаленным потомком — наш генетический «Адам» жил много позже «Евы». И результат этот не случаен: он связан с методикой исследования и природой человеческих различий. Женщины в некотором смысле происходят только от женщин (у мужчин через мтДНК наследственные признаки не передаются), а мужчины — от мужчин (у женщин нет Y-хромосомы).
Простой мысленный эксперимент позволяет установить еще одну особенность: генетический «Адам» и генетическая «Ева» не могли быть мужем и женой. Представим себе племя размером в 50 нуклеарных семей (в составе: муж, жена, дети) со стабилизированным режимом воспроизводства: в каждой семье по двое детей достигают половой зрелости и передают наследственные признаки следующему поколению. Тогда по статистическому закону в следующем поколении половина семей будет иметь однополых детей, что означает утрату либо мужской, либо женской генетической особенности в данной родовой ветке. Таким образом, через 6–7 поколений станет понятно, кто в исходном составе племени является генетическим прародителем. Причем «Адамом» станет отец в одной семье, а «Евой» — мать из другой семьи. При более сложной ситуации с периодами роста и спада численности, со сложной системой браков, с распадом племени на обособленные группы и т. д. не будет удивительным, что генетические «Адам» и «Ева» оказываются в разных поколениях человеческого рода и даже в разных племенах. При нарушении закона равновероятного рождения мальчиков и девочек очевидно разведение «Адама» и «Евы» по разным поколениям. Если распределение вероятности рождения мальчиков и девочек известно, то можно даже посчитать, сколько поколений необходимо, чтобы в рамках мысленного эксперимента развести «Адама» и «Еву», скажем, на 10.000 лет — примерно на столько их разводит во времени современная наука.
Простые соображения иногда вводят в заблуждение самих генетиков. Как-то в радиобеседе мне довелось услышать про то, что у каждого из нас — миллиарды предков, а генетические «Адам» и «Ева» — всего лишь одна пара из невероятно огромного перечня предков. Это конечно же не так. Если считать механически, каждый раз удваивая число своих предков в каждом поколении, то предковая популяция численностью в миллиард возникает где-то на 30 поколении. А это всего-то 600–700 лет. Еще немного вглубь предыстории человечества, и мы уже сможем говорить о триллионах предков! Такой численности человечество не имело. Абсурдность указанного подхода как раз очевидно доказывает, что люди жили эндогамными общинами в течение огромных промежутков времени при крайне незначительном их численном росте. Предков у каждого из нас совсем не так много. Может быть тысячи или десятки тысяч, но никак не миллиарды.
Другое утверждение профессионального генетика — о том, что «коренных народов не существует» по той причине, что прошли масштабные миграции. Это конечно же не так. Популяция, как только она начинает вести оседлый образ жизни, очень быстро приобретает собственное лицо — в ней все становятся родственниками. Скажем, деревня в 200 дворов за 200 лет будет настолько коренной, что в ней будут жить люди, очевидно схожие чертами лица. Любой пришелец будет явно заметен по внешним признакам, не говоря уже о генетических. Выше уже говорилось, что за 6–7 поколений 50 семей при простом воспроизводстве станут обладателями одних и тех же признаков по XY-хромосомам, которые останутся только от одной пары исходной популяции. Не говоря уже о том, что геногеографические карты ясно показывают наличие определенных ареалов, где антропологические черты и генотипы происходят от определенного народа, который и следует считать коренным. Этногенез после известных нам масштабных миграций завершился. Даже переселение миллионов людей во время мировых войн ХХ века изменило границы расселения народов, но ядра этих расселений оставили прежними.
Можно ли совместить веру в ветхозаветную историю Адама и Евы с данными науки? Сверхпопулярный шоумен надеется поставить христиан в тупик, противопоставляя науку и предание. Христианину же, да и любому приверженцу традиционной этики, положено именно совмещать, а не разделять. Данные науки позволяют нам домысливать то, что опущено в Писании как нечто второстепенное, напрямую религии не касающееся (там нет, к примеру, основ математики или физики и т. п. — как, скажем, в древнеиндийском эпосе). Например, человекоподобие для христиан не может означать заведомой принадлежности к людям. Так, собственно, дело обстояло во все века человеческой истории — чужак не сразу признавался в качестве человека или вообще не признавался. Душа богодухновенна, телесная оболочка может быть ее лишена и человекоподобие скрывает зверство. При этом плодотворный брак человека с человекоподобным существом возможен — от него может родиться человек. Но может и нечеловек. Для совмещения научного и религиозного взгляда требуется расологический подход: среди «первочеловеков» было, как минимум, два племени — людей и человекоподобных. Об этом писал известный советский историк и антрополог Б.Поршнев. Что «нечеловеческое» сидит в нас, вряд ли стоит сомневаться. Вопрос, даем ли мы ему ход или стремимся быть людьми? Стремимся ли мы к тому, чтобы и наше потомство оставалось человеческим, а не человекоподобным?
Еще один заметный (с некоторых пор) телеведущий также вступил со мной в спор по близкому поводу, объявив, что русские государи все генетически были немцами. Это уже был прямой эфир, а не частная беседа. В условиях шабаша русофобов, царящего в шоу-передаче, что-то втолковать ведущему, который вовсе не хотел ничего понимать, было невозможно. Попробую осветить эту тему для тех, кто видел эту передачу и хотел бы разобраться в проблеме.
Популярной идеей всех ненавистников русской государственности была идея «нерусскости» правящей династии Романовых. С большим удовольствием в либеральных кругах начала XX века передавали демонстративный «опыт» историка С.М. Соловьева, который предлагал смешивать воду с вином так же как, по его представлению, смешиваются крови. Исходно Петр I — русский, его жена — немка. Значит, рассуждал Соловьев, в их дочери Анне — пополам той и другой крови. И смешивал вино с водой в равной пропорции. Муж Анны принц Голштинский — немец. Значит, в стакане остается только на четверть вина, остальное — немецкая «вода». Продолжая рассуждения в том же духе и смешивая вино с водой, либеральный историк заключает, что в крови Государя Николая II содержится лишь 1/128 часть русской крови, остальное — немецкая. Русского «вина» в стакане к концу «эксперимента» почти не заметно.
Понятна игра ума историка, ищущего популярности. Но даже уровень знаний XIX века не позволяет принимать эту игру всерьез. Ведь генеалогические исследования очевидным образом показывали глубокое родство русских и немецких аристократических фамилий. Если бы историк Соловьев вел добросовестный эксперимент, то ему пришлось бы смешивать красное вино с другим красным вином, отличным от первого лишь некоторым неуловимым оттенком. И в результате смешения он получил бы простой результат: оттенок вовсе не стал бы яснее. Кроме того, честная «игра» потребовала бы проследить, действительно ли немецкие принцессы были стопроцентными немками (или датчанками) по крови.
Начнем с того, что Рюриковичи — династия, происходящая от рода прибалтийских вендов — промежуточного племени между славянами и германцами, которое не было в те времена антропологически и культурно обособлено и принадлежало к одной из волн арийских миграций, «материалом» которых были также германцы и славяне. Германская экспансия оттеснила вендов на восток, в том числе и на русский север (точно как и англов — на Британские острова, а галлов — к югу). Из вендского рода (варяго-русского, «от рода варяжска») происходит основатель русской великокняжеской династии Рюрик, который «взял роды свои» и переселился к своим ближайшим по культуре и антропологии соседям — в район Старой Ладоги (где уже проживало немало русских переселенцев, оттеснивших или поглотивших финно-угров), а затем основал Новгород — в противовес Старграду-Рерику, откуда сам был родом. Русскими (при малом смешении с инородцами) были все великие князья Руси. Романовы — «природные цари», ближайшие родственники угасшей ветви Рюриков, также — русы, русские. По мужской линии большинство русской знати восходит к вендским династиям, которые себя ни к немцам, ни к скандинавам не относили и «звались Русью».
Разрыв наследования по мужской линии в династии Романовых произошел после Петра I, когда, как указывалось, его дочь вышла замуж за герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского. Родословная последнего по прямой мужской линии восходит к датско-норвежскому (а одно время и шведскому) королю Христиану I. Его же родовое древо — вовсе не скандинавское. Оно связано с ольденбургской фамилией. Династия герцогов Ольденбургских прослеживается от начала XII века — от того момента, когда разделение славян и германцев было условным, и они скорее представляли языковые общности с близкими антропологическими чертами. Равно близкие вендские корни немцев и русов присутствуют в герцогстве Мекленбург, откуда ведут свой род множество аристократических фамилий русской и немецкой знати. В род Романовых Мекленбург регулярно «поставлял» своих принцесс. В «скандинавскую» кровь (если таковая вообще была у Ольденбургов) вливались крови континентальных династий южной Балтики — прежде всего, мекленбургских фамилий, тесно связанных с варягами и вендами и, очевидно, родственных Рюриковичам. Карл-Фридрих, таким образом, был наследником, с одной стороны, германо-скандинавских, а с другой — русских кровей. В значительной мере он возвращал династии русских царей их исходный генотип.
Таким образом, династия Романовых вовсе не была немецкой, как невежественно утверждают по сей день многие публичные лица, мнящие себя просвещенными. Аристократия не знала жесткого кровного деления на русских, вендов и немцев. В противном случае никакие династические браки не были бы возможными. Напротив, русско-немецкие династические переплетения отделены от многих прочих, которые не считались родственными и равнородными. Русские аристократы в массе своей, например, не роднились с южно-европейскими и западноевропейскими фамилиями. Романовы и вовсе предпочитали родниться с наименее смешанными северогерманцами.
Формальная сторона династической преемственности Романовых по крови, бесспорно, дает однородную картину кровного родства. В то же время неформальная история не позволяет определить точную этническую принадлежность жены Петра I Екатерины, действительное отцовство Карла-Фридриха по отношению к Петру III, действительное отцовство Петра III по отношению к Павлу I. Но даже если наследовали престол внебрачные дети, рождались они, безусловно, от славяно-германских браков. Смешивались крови очень близких «оттенков». Родовое древо Романовых в целом восходит к прусской знати. Увы, мало кто знает, что прусы — вовсе не германцы, а древние арийцы (возможно, попадающие в сообщество кельтских племен), мало смешанные с доарийским населением Европы.
Если допустить, что генеалогия соответствует кровному родству, то мужской генотип Романовых восходит к Ольденбургской северо-германской (то есть, исконно арийской) аристократии. По женской линии в династию поступали гены от восточно-германских фамилий, включая те, что сложились на вендских и прусских землях.
Разумеется, «сомнения» телеведущих вовсе не значат, что их интересует истина. Но эти сомнения тиражируются и смущают умы. Поэтому требуют ответов — именно потому, что затрагивают судьбу русского народа.
Еще один пример либеральных недоумений. Один из уважаемых членов Общественной палаты при Президенте РФ написал (Русский Журнал, 17 января 2005 г.): «Никакой иной России, кроме агломерата славянских, угрофинских, тюркских племен с инкрустацией из немецких, еврейских (далее по списку в полторы сотни) генеалогических рощ, никогда не было, нет и быть не может». Несколько ранее в том же издании тот же автор, мягко переходя на личность оппонента (спасибо, что удержался от прямого хамства, которое стало правилом практически у всех либералов), писал: «Но когда я слышу некий лепет о мужских и женских хромосомах от доктора политических наук депутата Савельева — человека интеллигентной внешности и с прочным навыком интеллигентной речи, — должен признаться: уши слышат, но промыслить это не удается». Беда, что не удается. Не желающего «промыслить» к приобретению непривычных для него знаний не обратить. Для желающих мы предложили некий материал, изложенный выше.
Теперь об «агломерате». Вероятно, член Общественной палаты имел в виду некое «спеченное» единство большого количества малых частиц, составивших нечто целое, но так и оставшихся обособленными. Или, если пользоваться поэтическим определением «роща» по отношению к народу, то имеется в виду, что наш «лес» составлен из отдельных пучков растительности, каждый из которых, не выходя из состава леса («агломерата»), остается сам по себе. Или же, наконец, имеется в виду, что народы спеклись в агломерат, но в нем же есть украшающие «древесные фрагменты» полутора сотен народов. Иными словами, как ни крути вычурную фразу, она говорит об одном: племена были и есть, а народ как целостность — дело десятое; главное — часть, а не целое.
Начиная с древних греков, мы знаем, что целое всегда значительнее включенной в него части. Теперь нашлось много охотников, намеренных нас в этом переубедить. Что же до сути утверждения об «агломерате», то лежащее в его основе недоумение прямо противоречит истории — как новейшей, так и стародавней. Из стародавней истории доподлинно известно, что Восточная Европа представлена антропологически едиными населением с весьма незначительными по европейским меркам различиями. Средневековые славянские племена — типичные среднеевропейцы. Славяне от момента их появления в истории и до сих пор — однородны и одновременно разнообразны своим отличительным разнообразием (напомним, что разнообразность может быть не менее специфичной, чем сходство). Никакого влияния на славянскую (русскую) антропологию не оказали ни пресловутые финно-угры (от которых антропологически в России не осталось и следа), ни тюрки, нашествие которых коснулось лишь южнорусских пространств, но не оставило в русской антропологии совершенно ничего. И самих древних тюрок как антропологического типа не осталось. Они растворились в евразийских степях и нагорьях. Автор из Общественной палаты, вероятно, забыл про «монгольскую примесь» (эту тему любят мусолить интеллектуалы). Так вот, и монголоидной примеси у русских нет. За «примесь» часто принимают ассимилированных и обрусевших потомков татаро-монгол (которые также были чрезвычайно разнообразны). Что касается «инкрустаций», то еврейской в славянах нет вообще, а немецкая примесь антропологически и генетически не может быть выявлена из славянам, поскольку чрезвычайно им близка (о чем говорилось выше в связи с родом Романовых).
В целом славяне представляют достаточно однородный русский антропологический массив, разнообразный на периферии не столько от смешения, сколько от действия законов диффузии генов. Знать все это «не промыслившим» научную информацию о прошлом наших предков очень неудобно. Поскольку либеральная догматика никак не может согласиться с единством русской нации — не только культурным, но и биологическим. Им важно выискивать мнимые признаки агломерации в русском народном организме. И ничего иного для них «быть не может». То есть, «не может быть, потому что не может быть никогда». Это позиция невежественная. Если гуманитарий не желает разобраться с «лепетом про хромосомы» и антропологией собственного народа, значит, с его интеллектом что-то произошло. Недоумения по этой части лишь подтверждают правило: неуважение к научным данным или попытка упрятать социальные аспекты научного знания под покров «академичности» демонстрируют болезненное состояние людей, умеющих писать ученые или литературные тексты, но не утруждающих себя помнить при этом об истине и пользе Отечества.
От недоумения до мракобесия — один шаг. И такой шаг делают сегодня средства массовой информации, призванные доказать, что смешение народов и рас — процесс позитивный. Так, в одной из передач «Постскриптум», выходящих в эфир усилиями талантливого журналиста-международника, были проиллюстрированы данные неких безымянных британских ученых, утверждавших, что смешение рас выправляет асимметрию лиц, а женским образам придают ту яркость, которая всегда привлекает мужчин. Чередой были выставлены звезды американского шоу-бизнеса, рожденные от смешанных (в основном европеоидов с негроидами) браков. Утверждалось: вытеснение блондинок из хит-парадов показывает, что расы в ближайшее время будут интенсивно смешиваться, и межрасовые границы будут стерты.
Жанр телепередачи, разумеется, калечит любые попытки здравой политической аналитики. Но подпущенная «клубничка» — явное свидетельство пропагандистской установки, которая встречается постоянно. Она призвана сломать простую способность к суждению. Например, к заключению, что повышенный интерес к мулаткам в американском обществе (точнее, в среде шоу-бизнеса) вовсе не означает никаких симптомов смешения рас. Он не означает стремления вступать в брак именно с такого рода типажами, назначенными шоу-бизнесом растравливать страсть, но вовсе не заводить семью и воспитывать детей. Если быть логичным, то свидетельством расширения психологической установки на смешение рас была бы заинтересованность как раз в расово чистых типажах — одна раса очарована другой и наоборот. А в данном примере есть прямо противоположное: представители чистых рас, увлекаясь метисами, стремятся «перетащить» их потомство в собственное расовое сообщество. Это в самом «оптимистичном» варианте. В реальности сверх наблюдения за ужимками этих «экспериментальных моделей» мало чего происходит.
Погружение в мракобесие проистекает от неуемного увлечения политикой — особенно в гуманитарном сегменте интеллигенции. Политизированная интеллигенция чаще всего берет на вооружение самый отчаянный антинаучный бред. Вот что написали в открытом обращении к Президенту России ленинградские гуманитарии, требующие изъять из книжной торговли целый ряд изданий: «Излишне напоминать, сколь взрывоопасны подобные рассуждения в стране, где значительная часть населения относится к монголоидной расе (тувинцы, буряты, калмыки, якуты, хакасы и др.) или к этническим группам Восточной Европы с более или менее выраженной степенью монголоидности, говорящим на славянских, финских, тюркских и других языках (татары, удмурты, подавляющее большинство русских и др.)». Это утверждение родилось в ответ на строчку из книги В.Б.Авдеева, где указывалось, что нельзя вести речь о самобытном значении культуры монголоидной расы.
Интеллигенты, не давшие себе труда прочесть то, что они критикуют, разумеется, никак не в состоянии сопоставить расу в целом, отдельные народы, составляющие эту расу, и, наконец, народы-носители расовой примеси. В данном случае ленинградские либералы, высказав свою расовую концепцию, вряд ли возьмут в толк, что противоположная концепция исходно (даже в самых общих подступах к размышлениям на данную тему) имеет не меньше прав на существование, чем и их собственная. В противовес научной публикации, новоявленные либеральные «расологи» выдвигают политический манифест, лишенный каких-либо оснований и призывающий власть предпринять полицейские меры против расологических исследований. Либеральный расизм проявляется в новой интерпретации пресловутого предложения «потереть русского и найти татарина» — подавляющему большинству русских приписывается монгольская примесь. Делается это с той же «основательностью», с которой Гитлер и его приспешники считали русских — азиатской ордой.
Вся суть расхождений в позициях сводится к оценке расового смешения. Либералы считают смешение заведомо благотворным. Возникает вопрос, откуда такая уверенность, если подписавшие петицию персоны в большинстве своем в поднятых вопросах совершенные профаны? Ясно, что она происходит из рассуждений эгоиста: если я рожден от смешанного брака, значит смешанный брак — всегда благотворен. Ненависть к русскому народу, воспитанная в интеллигентских семьях советского периода, где собственный творческий потенциал всегда считали недооцененным, с материальной точки зрения, переместился в новую эпоху и стал политической установкой русофобов. Чувство ущемленности было отнесено именно к вопросу «крови» — несть числа примерам жалоб постсоветской интеллигенции именно на этот аспект своих жизненных неудач при советском строе.
Кратко обсудив некоторые примеры, демонстрирующие как осторожное недоумение, так и заносчивое невежество противников расологии, мы до времени оставим тему анализа уже не расологических, а прямо расистских этюдов в русофобской публицистике, где первую скрипку играют евроэкстремисты. Это отдельная тема, способная фигурно высветить образ врага, который в современной политике все больше связывается с расовыми понятиями.
Расология дает нам ответы, противоположные тем, которые бросают в публику досужие журналисты и недобросовестные ученые. Именно поэтому столь важна деятельность творческой группы, сложившейся вокруг В.Б.Авдеева, чьими подвижническими усилиями продолжают выходить серии книг «Библиотека расовой мысли» и «Русская расовая теория до 1917 года».
Нет сомнений в том, что расизм может быть изжит только с помощью знания — расологических исследований, дающих верное представление о природе человеческих различий, степени родства народов, степени комплиментарности народов в рамках одного государства или в межгосударственных отношениях.
Для России расология особенно важна, поскольку русский народ и многие народы, способные выжить только под русским покровительством, находятся на грани вымирания. Бесспорность этой истины должна утвердиться, прежде всего, в русской интеллектуальной среде, где должна вызреть идея спасения русского народа не бесплотной духовной иллюзией, а земной «телесной» стратегией сбережения и умножения русского племени. Тело, как известно, — дом души, а бессмертие Небесное обретается в земной жизни.
Расовая проблематика имеет глубинные религиозные и социальные корни. Достаточно ярко они представлены, например, в современной Индии, где кастовая система сохранила древний порядок раздельного проживания рас. Расовый конфликт древности в Индии был замещен своеобразной социальной и даже религиозной расологией.
Древнеиндийский трактат «Натьяшастра», созданный в период II–IV вв. содержит учение о «расе», получившее позднее широкое распространение. Расой называлось создание некоего внутреннего «сока» — иначе говоря, настроя, который возникал при наблюдении за искусством актеров. Актер должен был уметь вызывать в группе зрителей или слушателей определенную расу. При этом расы проявлялись как через телесную субстанцию, так и через дух. Расы возникают также в качестве религиозного чувства или экстатического состояния. У кришнаитов «раса» означает ощущение сближения с Кришной и страсть, желание — вплоть до религиозного эротизма.
Некоторый аналог учению о «расе» можно усмотреть в протестантских сектах, рассматривающих кровь как материальный носитель души. В связи с этим представлением до сих пор приверженцы сект запрещают своим адептам переливание крови. Религиозный эротизм также встречается в западноевропейском христианстве, где чувственные мотивы очевидны и в религиозных сюжетах живописи, и в религиозной практике.
На расовую чуткость указывает тот факт, что древнеиндийский канон изображения богов был очень строг. Под страхом навлечь на себя разного рода беды мастера тщательно повторяли некогда возникшие каноны внешности того или иного бога — вплоть до формы и размера черт лица и пропорций тела. Отступление от этих канонов, как считалось, грозило болезнями и разного рода несчастьями.
Расовая чуткость в традиционном поведении индусов особенно очевидна при заключении брака. Родители жениха и невесты собирают сведения о семье будущих родственников — о физических и духовных качествах: болезни, моральное поведение, присущее своей касте (дхарма), отношение к алкоголю и азартным играм.
Неудивительно, что социальный порядок оказывался принципиально различным, разъединял различные касты. Так, в высших кастах распространено приданое, а в низших — выкуп за невесту. В «Законах Ману» по этому поводу говорится, что «человек, берущий по жадности вознаграждение, является продавцом потомства». В тех же законах относительно неприкасаемых сказано, что их местожительства — вне селения, их утварью не могут пользоваться другие люди, их имуществом могут быть только собаки и ослы, а одеждой — одеяния мертвых. Поселения индусов до сих пор строго регламентированы — так, чтобы касты не перемешивались и имели между собой четкие границы в рамках поселения.
Таким образом, мы имеем пример религиозного зарождения представлений о том, что народ связан с некоей не всегда уловимой внешне «расой», имеющей в то же время телесный «носитель». В богах он выражен в чертах лица и атрибутах, в людях — в определенном «настрое», духовном состоянии, особом социальном порядке.
Современные европейцы также неравнодушны к расовым исследованиям. Такие исследования широко использовались антропологами, вовсе не собиравшимися в порядке денацификации отрицать методики, тщательно разработанные германскими расологами. Антропология привлекала эти методики как для исследования археологического материала, так и для криминологии.
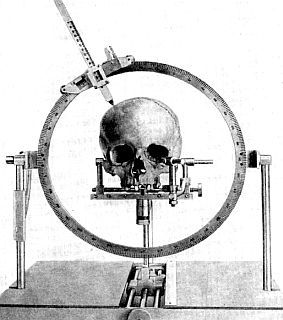 |
Современные западные исследования, использующие и создающие расологические знания, маскируются под изучение этнической специфики лечения болезней, а также под волнующую тему красоты — прежде всего, красоты человеческого лица.
Разумеется, исследователи не могут пройти мимо такого заметного явления, как человеческий череп — в его строении содержится разгадка многих вопросов, удовлетворяющих как научный, так и обывательский интерес.
Череп, как оказывается, у разных народов устроен весьма различно. И это отмечается даже в поверхностных постановках исследовательской задачи — когда традиционные, тщательно отработанные методики антропологов заменяются очень примитивными. Скажем, американская антропология как будто начинает все исследования с нуля, не обращая внимания на уже достигнутые результаты.
На рисунках мы приводим некоторые данные, полученные в таких исследованиях.
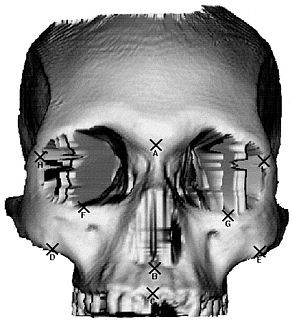 |
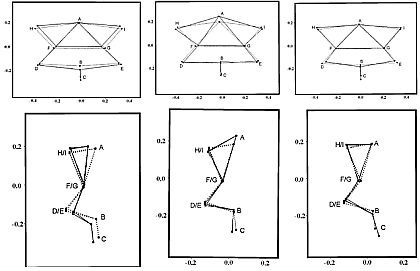 |
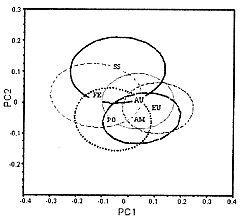 |
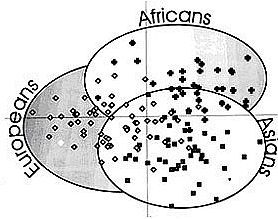 |
Современные американские исследователи указывают на достаточно очевидные вещи, давно известные антропологам: белые европеоиды имеют меньшую по размеру челюсть в сравнении с негроидами и монголоидами. Выступание челюсти наименьшее у европеоидов, наибольшее — у негроидов. Хотя нижняя челюсть у европеоидов наименьшая среди мегарас, способность к членораздельной речи у них более развита, чем у других мегарас. Это также очевидное следствие, поскольку более легкой челюстью труднее жевать, но легче манипулировать для издавания звуков.
Краниология не исчерпывает расовое разнообразие, поскольку при сходных соотношениях краниологических указателей, мы без труда отличим представителей различных рас по цвету кожи, глаз и волос. Даже в смешанных расовых типах мы всегда заметим нечто «иное» — отличное от расового типа, присущего собственному народу.
Мир разнолик, и это надо признать. В случае конфликтов эта разноликость всегда будет представлять собой значимое дополнение к форме мундира противостоящих армий. Разумеется, незначительные различия как в мундире, так и в расовых чертах, могут приводить и приводят к ошибкам. Однако в общем и среднем ошибки незначительны — история не знает примеров полного забвения народами своих родовых связей и тотального смешения с другими столь же забывчивыми народами.
 |
Задачи глобальной олигархии, стремящейся к унификации культурных стандартов во всем мире и универсальным средствам «промывания мозгов» стандартной рекламой и пропагандой, вызывают к жизни исследования, связанные со стандартами красоты. Исследователям, действительно, иногда кажется, что в мире есть универсальные представления о красоте. Такие представления порождают произвольные трактовки красоты, будто бы приемлемые для всех народов, рас и культур. Лицо человека в таких представлениях должно быть мертвой маской — без соответствующих данной культуре и уместных в определенных ситуациях мимических реакций.
Недавние исследователи ученых университета Хайфы подтвердили то, что в культуре зафиксировано в течение всей человеческой истории — родовой характер передачи эмоциональных состояний через мимику. При изучении выражения лиц людей, слепых от рождения, установлено, что мимические выражения лица передаются по наследству, а не копируются от родителей и знакомых. Выражение лиц слепых людей при реакции на одинаковую ситуацию совпадало с мимикой их родственников в 80 % случаев. Очевидно, гены определяют мышечное и нервное строение лица, а с ними — и мимические реакции. А поскольку гены находятся во взаимодействии друг с другом, мимические реакции могут многое сказать и о прочих наследственных реакциях человека на жизненные ситуации.
Ясно, что универсализм в походе к вопросу о различении в лице человека «иного», «другого», «чужого» и «врага» не уместен. Внедрить представления о красоте одной культуры в другую не представляется возможным без ущерба для последней. И даже если удастся доказать, что параметры «золотого сечения» в лицах людей привлекательны во всех мировых культурах (а это можно сделать только масштабными социологическими исследованиями), то наверняка множество мелких черточек, которые различает человеческий глаз, не будут замечены в обобщенных показателях, рисующих лицевые параметры.
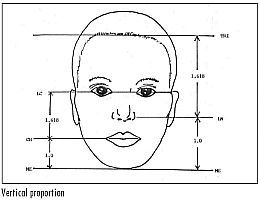 |
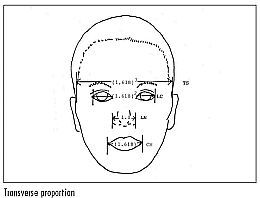 |
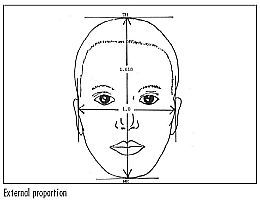 |
В декабре 2003 года известный американский журнал «Scientific American» опубликовал статью «Действительно ли существуют расы?», в которой давно решенный наукой вопрос был засыпан разнообразной технологической шелухой. Доказательством того, что расы не определяются генетическими отличиями, объявлена возможность создания «расовой машины» — компьютерной программы, гримирующей исходный образ человека под любую расу. Игра ума компьютерной художницы, увлекшей обывателей экспериментированием с чертами собственного лица, вдруг обратилась в научное доказательство. Компьютерный макияж превратился в своего рода догмат — элемент либеральной расовой теории.
 |
Попытка подкрепить расово равнодушный подход американских компьютерных технологов генетическими исследованиями оказывается явно неудачным. Генетики с уверенностью могут сказать только о том, что гена расы не существует. Что раса может определяться набором генов, даже американцы не рискнули отвергнуть.
Для оценки степени родства между группами людей генетики используют различия (полиморфизмы) в структуре ДНК (например, различия в последовательности пар нуклеотидов). Некоторые полиморфизмы затрагивают гены и могут усилить индивидуальные различия, способствующие расовой диагностике.
Так, в указанной публикации американских ученых, описывается изучение 100 различных полиморфизмов Alu у 565 человек, родившихся в Азии, Европе и тропической Африке. По объективным данным массив исследованных генотипов разделился на четыре группы, две из которых целиком состояли из африканцев (одна — только из пигмеев мбути), третья включала европейцев, четвертая — уроженцев Восточной Азии. При этом достаточно данных о 60 полиморфизмах Alu, чтобы установить с точностью до 90 %, на каком континенте родился человек, а 100 полиморфизмов дают точность до 100 %. При достаточно низком уровне расового смешения эта методика действует и для более точной дифференциации популяций. Так, она достаточно хорошо выявила особенность жителей Южной Индии, показавших генетическое сходство либо с европейцами, либо с азиатами. Столь же эффективна расовая диагностика по данной методике и при определении расовой принадлежности афро-американцев, у которых западноафриканские полиморфизмы сильно варьируют — при средней доле западноафриканских геномов 80 %, отдельные афро-американцы незаметно для себя оказываются генетически весьма далеки от своих предков и имеют всего лишь 20 % соответствующих полиморфизмов. В генах белых американцев также накапливаются расово инородные элементы. Считается, что около трети американцев имеют менее 90 % генов европейского происхождения.
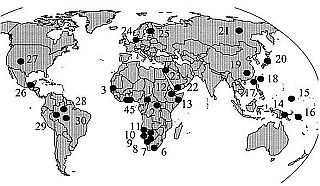 |
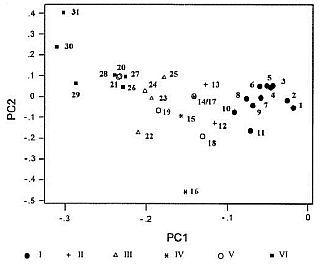 |
Все эти данные американские ученые трактуют весьма превратно, поскольку предпочитают «политкорректные» выводы. Чтобы исследования не были квалифицированы как «расизм», приходится постоянно возвращаться к доводу о том, что внутрипопуляционное разнообразие значительнее, чем межпопуляционное. Это означает только одно: далеко не все генетические данные могут быть использованы в качестве расово дифференцирующих. Ученым же приходится приводить оговорки, фактически скрывая истинное положение дел за уклончивыми формулировками. В частности, сводить генетические различия лишь к медицинским проблемам — группированию людей по признаку общности особенностей организма, которые, якобы, с расой вовсе не связаны.
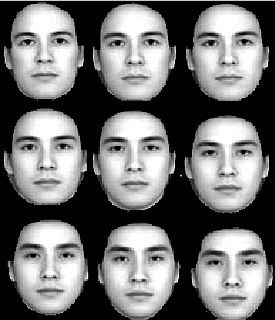 |
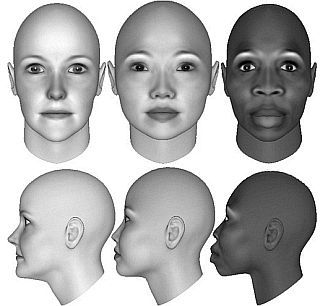 |
Уклонение от изучения расовых различий и игнорирование очевидного расового конфликта (к примеру, в той же Америке) превращает науку в фикцию — в бесплодное умствование. Напротив, научная честность обещает не только понимание природы расового конфликта, но и определение возможного способа его разрешения. Причем такого, который не склонял бы людей к смешению всех культур и народов, чреватому утратой биологического и культурного разнообразия человечества.
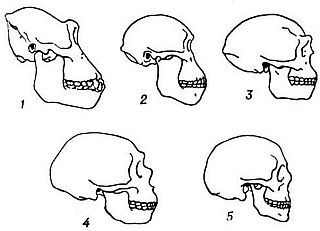 |
Ушедшие исторические эпохи имели свои представления об образе врага. Поэтому восстановление облика человека различных исторических эпох и различных народов может многое приоткрыть в причинах истрических катаклизмов, которые до сих пор толком не установлены или определены ошибочно.
 |
Агрессивность, проявляемая либеральными интеллигентами в расовых вопросах, как и политическая агрессивность, имеют свою биологическую природу. Агрессивность естественна. Противоестественно лишь требовать отсутствия ответной агрессивности — оборонительных реакций. Тем более, что они продиктованы самой природой живого существа, которому предписано биологическим законом вступать в борьбу за существование. Как и в вопросе физического выживания, в обществе ответ на политическую агрессию обязательно связан с оборонительной реакцией.
Мы лишь кратко затронем вопрос о природе биологической агрессии, черты которой, вне всякого сомнения, мы можем усмотреть как в деятельности современных русофобов, так и в русском общественном движении.
Как показывает в своих работах Конрад Лоренц, инстинктивное поведение животных контролируется целой системой торможения агрессивности. В то же время, изменение условий существования вида может привести к срыву этой системы регулирования внутривидового отбора. «В неестественных условиях неволи, где побежденный не может спастись бегством, постоянно происходит одно и то же: победитель старательно добивает его — медленно и ужасно». Агрессор побуждает жертву к бегству, а той некуда деваться. «Образ врага» не устраняется из поля зрения и его приходится изничтожать или гибнуть. Полная атрофия способности к сопротивлению не оставляет жертве шансов. Значит, выше вероятность выживания особей, способных к сопротивлению — именно их природа отбирает для производства потомства. Их же снабжает более острым распознаванием источников агрессии.
Механизмы распознавания «своих» и «чужих» основаны на формировании стереотипов, которые присущи живым существам на всех уровнях биологической эволюции. Бактерия классифицирует химические компоненты среды на аттрактанты и репеленты и реализует по отношению к ним две стереотипные поведенческие реакции; гуси знают, что «все рыжее, большое и пушистое очень опасно» (К.Лоренц) и т. д.
С другой стороны, Лоренц описывает поведение самцов рыб, которые в случае отсутствия внешнего соперника, посягающего на контролируемую территорию, могут перенести свою агрессию на собственную семью и уничтожить ее. Таким образом, присутствие внешнего врага, «чужого» (зачастую очень напоминающего «своего») необходимо для устойчивого существования простейших сообществ. Так и в человеческом обществе — без врага оно загнивает и разрушается внутренними конфликтами.
Стереотип в распознавании «чужого» в живой природе может носить социальный характер. Например, в стабильной волчьей стае присутствует ритуал подчинения-доминирования, поддерживающий сложившуюся иерархию и избавляющий от внутренних конфликтов. Но чужак, как бы ни был он искусен в ритуале подчинения, будет растерзан, потому что ему нет места в сложившейся иерархии. Для иерархически организованной социальности всякое внешнее вторжение в нее воспринимается как происки «чужого».
Аналогичным образом биологические механизмы защиты иерархии присутствуют и в этническом организме. В своем фундаментальном труде «Этногенез и биосфера Земли» Л.Н.Гумилев подчеркивает, что родоплеменное и корпоративное структурирование этноса обеспечивает внутреннее разделение функций, а значит — укрепляет его стабильность. Причиной упадка этноса всегда является появление в системе новых этнических групп, не связанных с ландшафтами региона и свободных от запретов на экзогамные браки. Эти запреты, поддерживая этническую пестроту региона, ведут к сохранению ландшафтов, вмещающих мелкие этнические группы (выполняющие определенные функции в этнической иерархии). В отличие от животных сообществ, в этносах позиции на иерархической лестнице занимают не особи, а субэтносы. Нарушение этой иерархии опасно для существования этноса.
В межвидовом отборе неволя (или пространственное ограничение) разрушает естественную иерархию и методы устранения «чужого», что приводит к неадекватной агрессивности, в которой нет ориентира на выживание особи или стаи. Заложенная от природы агрессивность в неестественных условиях регулируется иными биологическими мотивами. Тогда побеждает сильнейший физически и простейший — экземпляр, который в природных условиях совершенно не пригоден для целей видового выживания.
В условиях свободы перемещения, напротив, возникают коллективные формы выживания, когда все решает не только сила мышц и мощь клыков, но и стайный (стадный) инстинкт, то есть, единство «образа врага» для целой группы особей. Это правило предопределило историю человечества, в которой кочевые племена демонстрировали единство, а оседлое население (вплоть до создания территориального государства) — антропологическую дифференцированность и политическую разобщенность между поселениями.
Для стада хищник чаще всего персонифицирован. Последний же, напротив, воспринимает как «образ врага» стадную массу, в то время как жертва для него персонифицирована (например, своей слабостью). Врага надо избегать, жертву — атаковать. Мы видим различие в стратегиях выживания и прообразы различных типов «образа врага».
По мысли Лоренца, в современной организации общества природный инстинкт агрессивности не находит адекватного выхода, человек страдает от недостаточной разрядки природных инстинктивных побуждений (не может избежать присутствия врага, не может атаковать его ввиду опасности стадного наказания). Подавленная агрессивность порождает те неврозы, которые реализуются, с одной стороны, в форме гипертрофированно агрессивных политических теорий (снятие запрета на атаку жертвы, несмотря на присутствие стадного врага), с другой — в форме «гуманистических» мечтаний, подталкивающих к превращению социума в разбредшееся стадо, забывшее образ врага, утратившее представление об опасности. Именно поэтому либерализм беспомощен перед авторитарным режимом или внешней агрессией (хищник хватает беззащитную жертву), а возгордившийся тиран гибнет под ударами копыт сплотившегося стада, не желающего быть жертвой.
Фрейд писал о механизме внутреннего обезвреживания агрессии: «Агрессия интроецируется, переносится внутрь, иначе говоря, возвращается туда, откуда она возникла, и направляется против собственного «Я». Там она перехватывается той частью «Я», которая противостоит остальным частям как «Сверх-Я», и теперь в виде совести использует против «Я» ту же готовность к агрессии, которую «Я» охотно удовлетворило бы на других чуждых ему индивидах. Напряжение между усилившимся «Сверх-Я» и подчиненным ему «Я» мы называем сознанием вины, которое проявляется как потребность в наказании. Так культура преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов — она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе».
Здесь налицо перемещение образа врага в собственную психику, страдающую от неизбывной конфликтности. Именно таким образом нарушается стадный оборонительный инстинкт — вне «Я» врага больше нет, зато есть вина, разъедающая личность, как проказа.
По нашему мнению, механизм психологического торможения агрессии описывает именно стадную форму организации «Я», когда внутри сообщества «образ врага» исчезает. Но это не значит, что этот образ теряет очертания в случае стайной организации, к которой социум переходил и переходит по самым разным причинам (от примитивного материального интереса до предчувствий конца света). Именно это и есть особое качество человека: он может быстро переходить от обороны (жертва) к нападению (хищник), что в природе, как правило, не может быть — зверь связан инстинктом и не способен к стратегическим изменениям в линии поведения. Очевидно, что пищевая цепь в природе не замыкается в минимальном круге «днем они меня едят, ночью я их ем» ввиду ее энергетической невозможности. У людей, имеющих иные источники для поддержания своего существования, такие отношения возможны. Именно в связи с этим происходит деление на «мы» и «они». В отношении первых действуют этические нормы, в отношении вторых формируется «образ врага».
Стереотипы, связанные с «образом врага», экономят время и энергию на выработку новой информации и позволяют быстро, по немногим решающим критериям распознавать опасность. Дело вовсе не в опрощении информации о внешнем мире, а в систематизации воздействий среды, в построении иерархии этих воздействий. В человеческом сообществе символизация информации о среде позволяет составить иерархическую пирамиду ценностей, связанную не только с индивидуальным выживанием, но и с социумом в целом. Именно поэтому у людей стереотипизация врага, формирование его образа приводит не только к выделению разного рода этнических статусов (по внешнему облику, образу поведения и т. п.), но и к обозначению врага через определенный тезаурус, применяемый им в полемике по поводу конфликтных для данного общества вопросов.
Враждебность в человеческом сообществе связывается, прежде всего, с чужеродностью (принадлежностью к иной стае). Чужак — заведомый источник опасности, страха. Его стаю ищут, чтобы снискать «себе чести, а князю славы» (стайная агрессия) или отгораживаются от него крепостными стенами (стадная оборона). В пределах этих стен все определяются как «свои» (мы), независимо от частных качеств, за пределами — все «чужие» (они). Пока оборона слабее нападения, стая побеждает — кочевники одолевают. Когда крепости создают союз, образуют постоянное войско — одолевают они. Кочевники берут массой, оседлый народ — индивидуальной выучкой, кочевники — нахрапом, их противник — стойкостью.
Враждебность, конкуренция оформляют любую субъектность, о чем писал В.В.Розанов: «Закон антагонизма как выражение жизненности сохраняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отдельные роды и, наконец, личности, в пределах общего для всех их национального типа — борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличивание и слитие было бы выражением угасания целого, заменою разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося трупа».
Человеческая психика еще до всякой истории моделирует эти закономерности, выделяя врага по признакам, уловленным инстинктом, а не рассудком. Касаясь причин происхождения и значимости феномена «они», Борис Поршнев пишет: «Насколько генетически древним является это переживание, можно судить по психике ребенка. У маленьких детей налицо очень четкое отличение всех “чужих”, причем, разумеется, весьма случайное, без различения чужих опасных и неопасных и т. п. Но включается сразу очень сильный психический механизм: на “чужого” при попытке контакта возникает комплекс специфических реакций, включая плач, рев — призыв к “своим”».
В младенчестве граница между «Я» и «они» размыта и проведена наугад. Лишь биологическая зависимость от матери утверждает представление о том, что есть «мы» — граница оформляется более отчетливо и отдаляется, по мере освоения физического и социального пространства. В социальном младенчестве ужасное «Оно» — вероятно, первое впечатление просыпающегося рассудка. Именно из «Оно» проглядывает ужасный двойник, нерасчлененный монстр «своего» и «чужого», «Я» и «Иного». И только разграничение действительности, прояснение социальной и физической дистанции («близкие» и «далекие») дает обществу шанс выжить.
Случайность границы между «мы» и «они» возникает в связи с невозможностью дифференциации различных элементов картины мира. Тотемизм — явная попытка человека сначала создать суррогатный объект притяжения для «мы», научиться самому принципу различения, а потому заменить данный объект на какие-то более рациональные признаки (например, по признаку родства, которое осознается первоначально как родство «культурное», тотемическое).
Но поначалу все-таки появляются «они» — враждебные духи, творящие зло. Именно для того, чтобы предупреждать это зло, обособиться он него, и возникает потребность в закреплении «мы». Сами же духи имеют образы чужаков — человеческие или тотемические, присущие иному племени и составляющие их обобщенный образ.
Большая определенность «они» в сравнении с «мы» обусловлена тем, что традиционная культура оценивает любые изменения не столько на соответствие сложившейся норме, сколько на отступление от нее, социализация основана на запретах и негативных смыслах. Поэтому и в рационально построенном обществе политическая полемика всегда связана с критикой отступления от определенной нормы.
Поршнев пишет: «“Они” на первых порах куда конкретнее, реальнее, несут с собой те или иные определенные свойства — бедствия от вторжений “их” орд, непонимание “ими” “человеческой” речи (“немые”, “немцы”). Для того чтобы представить себе, что есть “они”, не требуется персонифицировать “их” в образе какого-либо вождя, какой-либо возглавляющей группы лиц или организации. “Они” могут представляться как весьма многообразные, не как общность в точном смысле слова».
«Они», таким образом, связываются с духами Зла, колдунами-оборотнями иных племен. Они не вполне люди или совсем не люди — нечеловеки даже если человекоподобны. Не случайно перевод названий многих народов и племен, как отмечает Поршнев, означает просто «люди». Именно «они» сдерживали «мы» от распада, закрепляли стадный инстинкт, который значительно позднее был дополнен инстинктом стаи, перенесенным в социальные отношения из чисто «производственной» деятельности по добыванию пропитания. «Они» чрезвычайно ценны, но только в том случае, если имеется «зона контакта» — враг ценен не сам по себе, а тем, что его можно растерзать.
Массовое общество действует как стая — оно ищет аргументов «против», определяющих признаки общности «они». И только развитые формы социальности конкретизируют и стабилизируют общность «мы». Тогда конкретные «они», отступившие за «горизонт событий», снова вызывают к жизни страхи, образы и символы Зла. В этом проблема взросления духа — врага надо обнаружить, когда его еще нет в поле зрения. Враг — не фрейдистский «чужой» в собственной психике, а зло в собственной душе, способное разорвать общность «мы» или ослабить его перед схваткой с реальным врагом или в конкуренции с «чужим».
Если животный мир характеризуется стремлением к избеганию врага или к безрассудному нападению, то человек отличается «срединной» реакцией, подмеченной еще Аристотелем, который считал мужество — состоянием между трусостью и безрассудством.
П.Тиллих, посвятив проблеме мужества целую книгу (и виртуозно обойдя при этом проблему героизма), подметил другую важную функцию мужества — готовность принять на себя отрицания, о которых предупреждает страх. Иными словами, принятие «образа врага» становится чисто человеческой чертой, отличающей его от животного. Более того, мужество — человеческая функция витальности. Лишаясь ее, человек лишается одновременно и надежд на чисто биологическое выживание.
Расовая проблематика затрагивает вопросы формирования «образа врага», выявляя в нем антропологические признаки, которые осознанно или неосознанно формируют человеческие отношения дружбы и вражды. Научное мужество состоит в том, чтобы признать акту-альность межрасовых отношений, которые существуют помимо нашей воли. И даже при наличии воли подавить расовый инстинкт, они все равно обнаруживаются при более пристальном анализе социальных процессов. Ради любви к истине стоит принять те отрицания, кото-рые невежественный агрессор, разлагающий способность родной страны к сопротивлению разрушительным воздействиям, готов обрушить на голову расолога.
«Противоестественность» человека в сравнении с животным требует для его выживания особого коллективного механизма, который присутствует в животных стаях, но распадается в неволе. Аналогом биосоциального регулирования в древних родовых общинах становится механизм учредительного насилия, который во всех своих элементах демонстрирует дихотомию «своего» и «чужого», благотворного и враждебного. Члены общины совместно вырабатывают механизм различения «своих» и угадывания «чужого» по определенному набору признаков. Одновременно возникает социальная иерархия, поскольку дифференцирующие признаки только и способны удержать общину от внутреннего насилия и непрекращающейся мести, возникающей в процессе конкуренции за общезначимые предметы вожделения (пища, сексуальные отношения и т. д.).
Как отмечает Рене Жирар, наличие внешнего врага, который обнаруживается как тайно внедрившийся в общину, жизненно необходимо для выживания общества. Если нет внешнего врага, если границы группы непроницаемы для «чужого», то начинается разгул насилия, которое не может быть перенесено на врага. Если в настоящий момент внешний враг отсутствует, общество должно придумать его для себя и держать на случай забвения социальной иерархии. Тогда этот суррогатный «враг» становится своеобразным магнитом, который должен притянуть к себе насилие и освободить от него общину. Так формируется религиозный ритуал очистительного жертвоприношения.
Известно, что Афины содержали фармаков, которые умерщвлялись или изгонялись в случае каких-либо бедствий или распрей. Фармака водили по городу, предоставляя гражданам для проявления всех возможных форм оскорблений и издевательств. Затем проходила церемония избавления от фармака. Очистительная жертва умиротворяла и объединяла общество, превращаясь в священную. Отсюда идет греческое слово фармакон, которое обозначало (в зависимости от дозы) яд и противоядие, болезнь и лекарство. Расовая «фармакология» предписана уже тем, что она может быть рациональной — выделать фармака по признакам вырождения, а не наугад.
Важно, что жертва должна быть не совершенно посторонней и не совершенно чужой общине. Только тогда миссия объединения в религиозном ритуале будет исполнена: «Ритуальные жертвы потому выбираются вне общины или сам факт их выбора потому сообщает им известную посторонность, что жертва отпущения уже не кажется такой, какой была в действительности: она перестала быть таким же, как другие, членом общины. (…) Однако из вышесказанного не следует делать вывод, будто жертва отпущения должна восприниматься как просто посторонняя общине. Она есть не что иное, как чудовищный двойник. Она впитала в себя все различия, и в частности различие между внутренним и внешним; кажется, что она свободно циркулирует изнутри наружу и обратно. Таким образом, она образует между общиной и священным сразу и соединительную и разделительную черту. Чтобы исполнить роль этой необычайной жертвы, ритуальная жертва, в идеальном случае, должна бы принадлежать сразу и общине, и священному. Теперь мы понимаем, почему ритуальные жертвы почти всегда выбираются из категорий не откровенно внешних, а маргинальных — из числа рабов, детей, скота и пр. (…)…нужно, иными словами, иметь жертву не чересчур постороннюю этой общине, но и не чересчур близкую. (…) Ритуальная мысль хочет принести в жертву существо максимально похожее на чудовищного двойника. Маргинальные категории, откуда часто вербуются жертвы, соответствуют этому требованию не идеально, но они составляют наилучшее к нему приближение. Их, размещенных между «внутри» и «снаружи», можно счесть принадлежащими сразу и тому и другому».
Чудовищное «Оно» (двойник) в ритуале должно быть выявлено как «чужое» и изгнано. То есть, ритуал повторяет процесс взросления, формирующий способность к различению социальной иерархии и чувства родного. Пограничное состояние для учредительной жертвы является обязательным.
Даже если жертва отпущения берется из общины, сам факт выбора есть способ отделить ее от общины и специальными средствами превратить в удобоваримую — насилие над этой жертвой коллективно признается священным и не подлежащим отмщению: «…жертвенная подготовка в широком смысле предстает в двух весьма несхожих формах: первая пытается сделать жертву более внешней, то есть пропитать священным жертву, слишком включенную в общину; вторая, напротив, пытается теснее включить в общину жертву, слишком постороннюю. (…) И, чтобы устранить имеющийся в нем [чудовищном двойнике] избыток человеческого, чтобы удалить его от общины, его заставляют совершить инцест и пропитаться пагубным священным во всех мыслимых формах». «Жертвенная подготовка делает жертву достаточно похожей на «естественные» и непосредственные мишени насилия, то есть на соплеменников, чтобы обеспечить перенос агрессивных тенденций, чтобы, одним словом, сделать жертву “привлекательным” объектом, но в то же время эта жертва остается достаточно чуждой и отличной, чтобы ее смерть не угрожала вовлечь общину в цикл мести».
Таким образом, налицо симбиоз с «чужим». Учредительная жертва объявляется в принципе чужой, а в случае отсутствия удобного «чужого», вместо него либо используется маргинал из «своих», либо такой маргинал специально приготовляется. Мы видим, что чувство рода — главный мотив общества, намеренного выжить. А сохраниться это чувство может только в том случае, если ритуал постоянно напоминает общепризнанные черты чужого. Как только общество становится по-настоящему «толерантным», его гибель неизбежна. Это закон не только древних обществ, но и современных.
Рене Жирар отмечает ничтожество философских концепций «общественного договора» будто бы основанного на разуме, здравом смысле, взаимном расположении, правильно понятых интересах и т. д. Эти концепции в конечном итоге есть мифологическое утаивание (в смысле современных политических мифов) роли учредительного насилия над «чужим» и попытка обойти вопрос о том, как складывается родовая общность и насколько она важна, чтобы современная социальность не рассыпалась в результате внезапных всплесков нерегламентированного (внеритуального), а потому и неостановимого насилия. «Толерантность» — прямой путь к хаотическому насилию, поскольку ведет к ликвидации насилия регламентированного, государственного, а также насилия, обусловленного традицией и подчиняющего общество единому культурному эталону.
Утрата чувства рода означает возврат к нерасчлененности бытия иерархией, к неразличению «своего» и «чужого» — то есть, к животному ограничению разнообразия элементов сознания. Утрата представления о «чужом» срывает общество в жертвенный кризис, в котором все члены общины становятся врагами-близнецами, действующими как животные, лишенные естественной среды обитания. Чтобы не впасть в животный мимесис (инстинктивное всеподражание), требуется «вечное возвращение» — уничтожение чудовищ собственного бессознательного, в которых слиты вместе «свой» и «чужой». Это и есть героизм, который вместе с врагом убивает зверочеловека в самом себе и в собственном роде.
Гумилев указывает на причину возникновения персистентных (переживших себя) этносов — отсутствие частого общения с иноплеменниками. В этом случае образ врага забывается, этнос теряет волю к сопротивлению, его структура упрощается за счет утраты оборонных функций и жизнеспособность этноса падает. Гумилев, основываясь на работе Дж. Холдена «Факторы эволюции», пишет, что естественный отбор действует в направлении вырождения вида, утраты сложности и деградации. Деградирующие виды вытесняются более совершенными. Распространяя это правило на этнос, Гумилев утверждает, что конкурентоспособность этноса поддерживается микромутациями, меняющими психофизический настрой, стереотип поведения, не затрагивая социальные и физиологические факторы. С нашей точки зрения, эти «микромутации» в действительности есть целенаправленное воспитательное воздействие социума, который настаивает на том, чтобы потенциальные «эгоисты» вырастали все-таки «альтруистами» — гражданами, ставящими интересы коллектива выше индивидуальных. Заложенный от природы образ врага должен подновляться социальными механизмами, чтобы этнос жил, не взирая на смену эпох и изменения ландшафтов. Если бы такие механизмы не существовали, городская жизнь (единый для разных народов ландшафт) смела бы различия между народами, которые ныне никуда не исчезли.
Если древность не ведала смущения перед расовым конфликтом, а в иных случаях — и перед расовым смешением (когда этнический кризис разрушал понятие о традиции, а вместе с ним — и о стыде), то современность изгоняет чужого, вытесняя из культурного ядра нации разного рода творческие «мутации». В утверждении незыблемости культурной классики и недопущении пародий на нее нация реализует расовую программу и ритуально устраняет «чужого». Напротив, подорванная жизнеспособность общества всегда означает атаку на национальную классику со стороны культурных «мутантов», доводящих свою ненависть к нации до клинических образцов и заражающих своей болезнью духовно ослабленную нацию.
В современном обществе средства массовой информации становятся главным «экспериментатором» — насильником над национальным культурным достоянием. Это они подвергают ритуальному остракизму все, что пытается отстоять национальную идентичность. Замахнувшиеся на нацию мутанты плодятся от информационных эпидемий и требуют уже не ритуального насилия, а системного истребления — подобно прорвавшимся за крепостную ограду отрядам врага.
Принято считать, что изменчивость антропологических черт этноса и этнического менталитета (вместе с ним и культуры хозяйства и духовной жизни) происходят в порядке смешения племен. Проблема заключается в том, что такое смешение порой рассматривается как нечто естественное, само собой разумеющееся — либо жившие по соседству племена тесно сотрудничали, либо завоеватели (или более активные переселенцы) ассимилировали коренное население.
Такой подход невозможно признать удовлетворительным по ряду причин. Прежде всего, племенная психология не признавала за чужаками человеческих черт. С ними не могло быть никаких тесных отношений. Даже на уровне родов, которые обмениваются женщинами, чтобы избежать внутриродового конфликта, существуют отношения «свой-чужой». Если между родами «чужой» может быть просто воплощением «другого» в человеческом облике, то иной этнос воспринимается просто как нелюди. Малейшее культурное различие означает попрание сакрального, которое в древних сообществах было мерилом человеческого. Поэтому иной этнос — это не просто «нелюди», а еще и существа похуже самых кровожадных или самых нечистых животных.
Мирное сосуществование двух этносов, находящихся в стабильном состоянии следует признать невозможным. Даже два близкородственных этноса (а таковые могут образоваться просто в процессе отделения одной из этнических групп в силу роста численности этноса и выхода его части за пределы исконного вмещающего ландшафта), находящиеся в стабильном состоянии, принципиально не смешиваются. Этническое смешение может быть связано только с нестабильностью, кризисом сакрального, наступающими в случае внезапных катаклизмов (смерть вождя, голодомор и т. п.). Ослабленный этнос лишается веры в своих жрецов и спасительную силу религиозных ритуалов. Возникает всеобщее недоверие и крушение иерархии социальных статусов. Сакральность иного стабильного этноса в случае кризиса собственного может быть признана действительной, а родная — ложной. Тогда «не совсем людьми» для остатков родовой аристократии (например, сохранившихся после междоусобицы в одном из родов) оказывается большинство собственного этноса. Именно в этом случае «чужак» может быть избран вождем, отвечающим за преодоление сакрального кризиса и берущим на себя функцию учреждения новой сакральности. Если функция выполнена, возникает новая социальность, если нет — чужак становится ритуальной жертвой и социальность формируется без него, с другим вождем.
Определенное смешение в такой модели этнической нестабильности возможно, но не способно серьезным образом изменить антропологические признаки этноса, поскольку «чужаки» составляют ничтожное меньшинство. Меняется культурная парадигма, но генофонд остается прежним. Более того, новая культурная парадигма приспосабливается к законам этнического менталитета и вмещающего ландшафта — только в этом случае доказательство жизненности новой сакральности может состояться.
Нестабильность может возникнуть и в другой ситуации — в условиях дефицита ресурсов, порожденного либо изменившимися природными условиями, либо хозяйственным прогрессом, повлекшим за собой рост численности этноса. В обоих случаях часть этноса покидает вмещающий ландшафт и образует завоевательную армию. Но тогда эта армия со своими представлениями о священном не может принимать за людей представителей другого этноса, встретившегося у нее на пути. Смешение здесь может быть лишь частичным, за счет браков с иноплеменницами. Но эти браки не ведут к устойчивой заботе о потомстве со стороны завоевателей. Численность поглощаемого этноса катастрофически падает и за счет разгрома хозяйства, и за счет уничтожения «нелюдей», каковыми кажутся завоевателям коренные жители. Таким образом, в случае успеха завоевателей этническое смешение также остается малосущественным.
Древняя Греция дает нам образец родового определения дихотомии «свой-чужой», причем более сложной, чем простое разделение на друзей и врагов. За внебрачную связь с чужеродцем у древних греков полагалась смерть. Поиск чужого кидоса (божественная субстанция, проникающая во все, что принадлежит человеку и обеспечивающая его успех и величие) означал бесчестие для Родины. Род для древнего грека был священен. Единичное «Я», индивид для него были бессмысленным, человек без рода, «без закона, без очага» просто не имеет кидоса и олбоса (мистическое вместилище благословения богов, славы в человека) — то есть, не является человеком как таковым.
В то же время, как пишет немецкий исследователь мифологии Курт Хюбнер, в гомеровской «Илиаде» прослеживается почти родственная связь, возникающая через подарки. Вместе с подарками происходит обмен субстанциями родов, границы между семейством и близкими друзьями расплываются — их объединяет мифическая связь. Мифические и кровнородственные связи перетекают друг в друга. «Семейство — это постоянная мифическая субстанция, которая однажды перелилась от божественного существа (бога, героя) в человека и теперь передается из поколение в поколение. К поколению, по мнению греков, принадлежат не только родственники и их владения, но нередко и все то, что стоит в тесной связи с ними, особенно через обмен подарками. Мифическая первосубстанция семейства присутствует у священного домашнего огня, поэтому возвращающийся домой победитель кладет туда своей венец, чтобы число олбос и кидос предков увеличилось на олбос и кидос побежденного. Владение семьи защищается как жизнь, потому что члены семьи идентифицируются с ним».
Таким образом, «свой» не всегда был кровным родственником, но соединялся с родовой общностью через мифическое. Точно также «своими» образовывался союз государств или полис, наполняемые некоей мифической субстанцией — обычно приписанной к очагу какого-либо божества. Жесткая родовая конструкция через миф дополняется переходной формой, которая допускает превращение «чужого» в «своего», отбирая из множества «чужих» только тех, кто комплементарен роду, союзу родов, городу и т. д. Такому отбору служит и особая функция Зевса, который в одной из своих ипостасей мог выступать в роли защитника чужаков (Hikesios).
В данной модели смешения мы видим крайне незначительные возможности для метисации. Они остаются только в том случае, если налицо общая культурная идентичность (мифология) и психологическое сродство (дружба), которые никак не могут миновать расовых аргументов, применяемых, скорее всего, безотчетно.
Остается единственная возможность для существенного этнического смешения — маргинальные зоны этнического расселения. В этих маргинальных зонах представление о священном размыто. Здесь завоевания могут носить нетотальный характер, а характер разбоя (например, с похищением женщин). Здесь возможен обмен, поскольку предметы быта не настолько нагружены сакральными функциями, как в сердцевине этноса. Но как раз остатки этой сакральности могут вести к сближению и даже породнению представителей разных этносов — фактически к образованию нового этноса из отщепенцев.
И все-таки новая сакральность на данной территории (например, новый тип захоронений) может быть связана либо с полным уничтожением прежнего этноса, либо с его сохранением после кризиса прежней сакральности и заимствованием у соседей нового ритуала и отчасти — родовой аристократии. Никакого этнического смешения новая сакральность не означает. То есть, и в данном случае имеются ограничения для расовой метисации, а этнос либо погибает, либо трансформируется в другой этнос — рождается заново в своей этнокультурной компоненте.
Реальное этническое смешение наступает только тогда, когда два этноса испытывают общий кризис и сливаются на одной территории как беженцы. Это возможно лишь в связи с экологической катастрофой, происшедшей в течение короткого времени (скажем, наступление ледника к таковым не относится), или нашествием, которое сметает один этнос за другим, превращая их в перемешанную бегущую массу. Тогда беженцы, остановившись, наконец, и заняв какой-то ландшафт, могут образовать новый этнический организм. Возможно такой механизм сработал, когда орды Чингисхана разоряли на своем пути одно государство за другим. Но, к примеру, в империи Александра Македонского или в Римской Империи этого не было — этносы сохраняли свои ареалы и ограничивались лишь культурными заимствованиями друг у друга.
Интенсивное смешение, казалось бы, становится возможным лишь в условиях перехода от городов-государств к территориальным государствам. Но и здесь имеется сложный момент. Новый тип нашествия (наиболее ярко зафиксированный в истории войн Александра Македонского) предполагает замену племенной элиты или ее подчинение имперским планам завоевателя. Имперский принцип формирования государственности полностью отрицает какую-либо массовую ассимиляцию, лишь приоткрывая двери в общеимперскую элиту для инородческих элит. То есть, речи об этническом смешении снова нет. Именно поэтому империи распадаются по границам этнических ареалов, которые существенным образом, как правило, не меняются. (В этом смысле Советский Союз — не империя, в нем ареалы сдвинулись и сакральности разрушились. По этой причине этнократические режимы, возникшие на развалинах великой державы, оказались особенно жестокими не только к этническим меньшинствам, но и к титульным народам).
«Зоной смешения» можно было бы считать рабство, где встречались представители завоеванных народов. Но предел смешению здесь задает как низкая плодовитость рабов, так и все та же неизбывная склонность к бракам с единоплеменниками. Лишь один эксперимент смешения можно считать в некоторой мере состоявшимся — рабская семья латиноамериканских плантаций. При этом результат смешения в сравнении с массами несмешанного населения все равно остается ничтожным. Как, к примеру, и в Занзибаре, где насильственно переженили огромное количество арабов с неграми. Или же на Кубе, где большинство жителей — метисы. Результат смешения носит исключительно локальный характер даже в таких случаях, не получая распространения вне замкнутого островного пространства. Правило же остается незыблемым: при расовом смешении прежние этносы исчезают, им на смену приходит новая этнокультурная общность, способность которой к выживанию история еще будет проверять.
Запрет на межэтническое насилие и насильственное совместное проживание разных этносов в территориальном государстве вовсе не означает их смешивание. Даже в средневековых «космополисах» (в основном на периферии культурных ареалов) различные этносы жили слободами и цехами, обособленными друг от друга не только в бытовом, но и в культурном отношении.
Гумилев показывает, что смешение двух этносов может быть только противоестественным, химерным. «Если этносы — процессы, то при столкновении двух несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая каждую из исходных частот. Складывающиеся объединения химерны, а значит не стойки перед посторонними воздействиями, недолговечны. Гибель химерной системы влечет за собой аннигиляцию ее компонентов и вымирание людей в эту систему вовлеченных. Таков механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключения. Именно неустойчивость исходных ритмов является условием возникновения нового ритма, то есть нового этногенетического инерционного процесса».
Прилив инородцев, который разрешается чисто культурной причастностью к этносу (подчинился султану и исламу — уже турок) калечит стереотип поведения и ослабляет этнос. Правда, Гумилев видит и другой вариант развития метисации за счет притока инородцев — случай Китая, где такой процесс просто приводил к распространению понятия «этнос» на более широкую общность. Но здесь тоже имеются свои проблемы — «внутренний враг» становится особенно агрессивным и беспощадным. Гумилев приводит пример восстания «желтых повязок» (III в.), когда население Китая сократилось с 50 млн. человек до 7,5 млн.
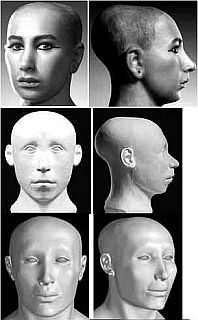 |
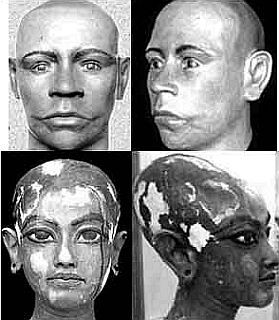 |
 |
Гумилев указывает на особое значение эндогамных браков: «…для сохранения этнических традиций необходима эндогамия, потому что эндогамная семья передает ребенку отработанный стереотип поведения, а экзогамная семья передает ему два стереотипа, взаимно погашающих друг друга». Природу и культуру, замечает Гумилев, губят свободное общение и свободная любовь.
Таким образом, устойчивый этнос может возникнуть только из неустойчивых компонентов. Здоровые этносы, смешиваясь, погибают, образуя лишь на время химерную систему. Иначе говоря, жизнеспособный этнос либо погибает под воздействием непреодолимого внешнего воздействия, либо отказывается от смешения с другими этносами. Смешение возможно лишь в маргинальных слоях, на периферии ареала обитания. Существенное же смешение возможно только в ослабленном этносе, где культурные и родственные связи распадаются и возникает возможность принять «чужого» за «своего», а точнее — вырабатывается новый образ «своего», неизменно сопровождающийся снижением культурного уровня и забвением прежних родовых уз.
С этой точки зрения, идея «субстратного» синтеза в этногенезе различных ветвей восточных славян — финно-угорского для русских, восточно-балтийского для белорусов (на самом деле кривичей, радимичей и дреговичей) и индо-иранского для украинцев (о чем писал В.В.Седов) выглядит совершенно несостоятельной. Субстрат должен был полностью погибнуть. На примере славян какие-то надежды на его выживание могут быть связаны с тем, что славяне выселялись со своих традиционных мест обитания нашествиями кельтов и германцев, а также были дестабилизированы резким ужесточением климата в V в. Но жизнеспособность славянских племен, в сравнении с «коренным» населением, говорит о том, что от субстрата могли остаться лишь культурные следы, но никак не антропологические — точно также, как не могли славяне смешаться с надвигающимися на них кельтами и германцами.
Методы археологии не могут установить антропологических изменений и доказать факт смешения с субстратом, потому что в Европе тех времен существовал обычай трупосожжения. Наличие предметов быта и культуры якобы слившихся вместе этносов ни о чем не говорит. Культурное заимствование естественно со стороны завоевателей, присваивающих себе все лучшее, что оставил этнос-субстрат. И только культурологический аспект древней истории может дать ответ на вопрос о взаимоотношениях соседствующих этносов. А культурология (исследование сакрального, мифологии и ритуалов) дает однозначный запрет на мало-мальски масштабное этническое смешение. И только властная элита может позволить себе смешение «своего» и «чужого», но только на уровне кровного родства, при сохранении всех культурных ограничений, включая политическую культуру и принцип лояльности подданного.
Этническое смешение — достояние нового и новейшего времени, то есть того периода, когда религиозный запрет на этническое смешение отступил перед натиском секуляризации. Но и здесь возникает масса барьеров на пути смешения — прежде всего, языковые и культурные. Только номадическая Америка, созданная кочевой частью европейских наций (и, кстати, полностью изничтожившей индейский «субстрат») может в будущем стать примером иного рода — последовательно осуществляемого этнического и столь же последовательного, но в меньших масштабах, расового смешения. Пока же и в США «чужой» угрожает несмешанной массе белого населения как в повседневной жизни — из негритянских и латиноаме-риканских кварталов, так и в перспективе — через численное доминирование и «черный расизм». В последнее время образ врага формируется за счет выходцев из арабских стран. Пожалуй, «толерантной» Америке придется пережить потоп расового насилия, от которого она так «политкорректно» стремится уклониться.
Ницше пишет: «Вот источник возникновения знаменитого противопоставления добра и зла: — в понятие “зло” включается могущество, опасность, сила, на которую не подымется презрение. Согласно морали рабов, “злой” внушает страх; согласно морали господ именно “хороший” внушает страх, желает внушать страх, тогда как “дурной” вызывает презрение. Эта противоположность доходит до своего апогея, сообразно с выводами морали рабов, когда на “доброго” тоже начинает падать тень пренебрежения — хотя бы незначительного и благосклонного, — так как “добрый”, согласно рабскому образу мыслей, должен быть во всяком случае неопасным, он благодушен, легко поддается обману, немножко простоват, быть может, ип bonhотте».
«Злой» ясен, его образ сложился, с ним можно «иметь дело», вести переговоры или сражаться, избегать или охотиться на него. Именно в этой связи возникают такие, на первый взгляд, странные симпатии между воинами воюющих сторон. А вот «добрый» опасен своей непроясненностью. Он может быть и другом, и врагом. «Он» — это еще не «ты», не соратник. От «доброго» можно ожидать удара в спину. Возможно это одна из причин, почему волки уничтожают пришлого чужака, даже готового занять самую низшую ступень в стайной иерархии.
Поршнев отмечает, что «враждебность и отчужденность встречаются не только к отдаленным культурам или общностям, но и к наиболее близким, к почти тождественным «нашей» культуре. Может быть даже в отношении этих предполагаемых замаскированных «они» социально-психологическая оппозиция «мы и они» особенно остра и активна».
Сама политика основана на различении «образа врага» в партнере по общению. С древних времен вождем мог стать тот, кто выделяется из стада, например, своим инородством, или приходит в нестабильную стаю со стороны. В стабильной стае, напротив, вожаком становится только кто-то из своих, выделяющийся особой силой и ловкостью и превратившийся, таким образом, во внутреннего хищника, способного уничтожить жертву, даже несмотря на явные признаки «своего».
Поршнев пишет: «“Он” еще в основном принадлежит кругу “они”, хотя бы и вступившему во взаимодействие с “мы”. Но та же точка принадлежит к кругу “мы”, и тогда это уже “ты”. Если с этим единичным обособленным от других человеком все же можно общаться, если он хоть в чем-то ровня другим, значит один круг уже врезался в другой. Это — важный этап формирования личности. Правда, и от “ты” еще далеко до “я”. Но “он” и “ты” — это уже достаточно для социально-психологического определения положения того или иного авторитета, вождя, лидера внутри общности. (…) Впрочем, вожди, государи, правители в историческом прошлом очень часто как раз были иноплеменниками. Но они, далее, почти всегда были прикрыты, защищены от психических контактов и общения с подавляющим большинством людей мощными стенами дворцов, замков или храмов, непроницаемым окружением свиты и стражи. Их отсекали от мира неодолимые рубежи. Оружие языка им заменял язык оружия».
Даже правитель, связанный родовыми узами с подвластными, зачастую собирал вокруг себя вовсе не членов своей семьи. Кровнородственная связь с ближайшим окружением означала опасность обоснованных претензий на власть. Именно поэтому в Оттоманской империи было введено правило умерщвления братьев султана сразу по его восшествии на престол. В древнем Египте власть также, как правило, не делегировалась членам царской семьи. Удаление от верховной власти тех, кто принадлежит к роду правителя, могло заходить и еще дальше. Так, в античной Ассирии высшие чиновники были одновременно и рабами. В империях древнего Востока иностранцы, в особенности перешедшие в ислам христиане, получали доступ к высшим должностям. В империи Ахеменидов высшими управленцами были часто греки, а не «титульные» персы и мидяне. В Монгольской империи высшие управленческие функции исполнялись почти исключительно иностранцами.
Вопреки расхожему мнению, это вовсе не подрывало стабильности общностей, таким образом использовавших инородцев. Напротив, управленческое сословие под властью родового вождя было особенно послушным и «патриотичным», ибо всегда находилось под угрозой самой безжалостной расправы. В случае привлечения в чиновное сословие представителей народа, о котором властитель должен был заботиться, он лишался бы такой возможности. Кроме того, как отмечает Пьер Бурдье, в ряде случаев формировалась система: близкие к власти лишались возможности воспроизводства, близкие по крови — во избежание конкуренции за корону — становились политическими импотентами.
Следует оговориться, что стабильность государства и общества, активно применяющего в системе управления инородцев, определяется жесткостью монархической традиции — прежде всего, преследуемой со стороны монарха и его ближней свиты. И обеспечение этой традиции было делом многих столетий во всех известных истории государствах древности. Ее основа — живой миф, который располагал правителя среди богов.
Страшные боги древних народов становились прообразами страшных вождей и государей, которые могут попирать или менять принятый порядок жизни — то есть, быть суверенами. Первоначально «Они» — это злые боги «Иного», которые постепенно поселяются в самом человеческом стаде и узнаются в некоторых его представителях, выделяющихся своими особенности как «внутренние чужаки». Именно «Он» — внутренний хищник — на стыке «мы» и «они» реализуется в стаде как личность и становится первым источником власти, нерасчлененно слитой с личностью. Иначе говоря, личность возникает в оппозиции стада и его внутреннего хищника.
Представления древних часто объявляют тотемное животное или монстра — первопредком, основателем общины, ставшим в мифе жертвой этой общины или своих родственников и товарищей. Ритуальный характер жертвы, коей в мифологии является первопредок, указывает на него, как на «чужого» в том сюжете, который обозначает создание общины. То есть «чужой» играет в определенных случаях не роль фармакапарии, а роль главы рода. С этого «чужого» заканчивается прежняя история и начинается «своя» история.
Рене Жирар пишет: «Гипотеза то взаимного, то единодушного и учредительного насилия — первая, по-настоящему объясняющая двойственность всякого первобытного божества, сочетание пагубного и благого, характерное для всех мифологических сущностей во всех человеческих обществах. Дионис — и “ужаснейший”, и “сладчайший” из всех богов. Точно так же есть Зевс, разящий молнией, и Зевс, “сладкий как мед”. Любое античное божество двулико; римский Янус обращает к своим почитателям лицо поочередно миротворное и воинственное потому, что и он — знак динамики насилия; в конце концов, он становится символом внешней войны потому, что и она — всего лишь частный модус жертвенного насилия». «Подобно Эдипу, король — и чужеземец, и законный сын, человек из самого серединного центра и с самой далекой окраины, образец и несравненной кротости, и предельного варварства. Преступный и инцестуальный, он стоит и ниже и выше всех правил, которые сам учреждает и заставляет уважать. Он самый мудрый и самый безумный, самый слепой и самый проницательный из людей».
Примитивное сообщество, руководимое внутренним хищником, малоэффективно в сравнении с сообществом, разделяющим особи по функциональным задачам и направляющим агрессию преимущественно вовне. Однако задача формирования такого порядка становится разрешимой только в связи с выделением разного рода охранительных сословий, в которых образ врага становится не только следствием природных инстинктов, но и системы воспитания, общественной морали.
Ницше писал об аристократической природе высших форм морали, в которых образ врага присутствует как неизменный атрибут: «Способность и обязанность к долгой благодарности и продолжительной мести — все это лишь по отношению к равным себе, — изысканность в возмездии, утонченность в дружбе, известная потребность иметь врагов (в качестве отвлекающего для аффектов зависти, сварливости, заносчивости — для того, чтобы быть способным к доброй дружбе): все эти типичные признаки благородной морали…».
Следуя классификации Юлиуса Эволы, агрессию внутреннего хищника следовало бы назвать титанической, агрессию охранительную (а значит, связанную с высшими формами морали) — героической. В подходе к этому вопросу русского философа С.Булгакова необходимо различать героизм интеллигентский, обусловленный страстью к переустройству мира на основе одной из политических утопий «светлого будущего», и героизм, связанный с подвижничеством. Подвижнический героизм отличается подвигом не во имя свое, а во имя Божие. Но все ж таки, враг здесь присутствует вполне конкретный, вне зависимости от мотивов подвижника. Лишь только сам подвижник видит в этом конкретном враге воплощенное мировое Зло.
Стоит привести к этому суждение К.Шмитта: «…в тысячелетней борьбе между христианством и исламом ни одному христианину никогда и в голову не приходило, что надо не защищать Европу, а, из любви к сарацинам или туркам, сдать ее исламу. Врага в политическом смысле не требуется лично ненавидеть, и лишь в сфере приватного имеет смысл любить "врага своего", т. е. своего противника».
Кроме того, образ врага также видится в самом себе — собственная трусость, компромиссность, слабость духовная и физическая. Последнее, впрочем, есть акт рефлексии, не совместимый с самим моментом подвига, в котором перед взором есть только враг, которого необходимо сокрушить, и одухотворение силами небесными, окрыляющими героя.
Общество издревле находит врага в самом себе. Из истории древней Спарты известен факт, когда эфоры наложили штраф на царя Агесилая за излишнюю благожелательность к своим сторонникам и к своим политическим врагам. Причиной такого решения, пишет Плутарх, было мнение, что спор и вражда есть причина всякого рождения и движения. Соперничество рассматривалось как средство воспитания добродетели среди достойных граждан, а благожелательство, достигнутое без борьбы — как проявление вялости и робости. Заметим, что здесь речь идет именно о достойных гражданах, то есть уже имеющих определенную репутацию и родословную. Именно соперничество между ними формирует личность государственного мужа, достойного защитника отечества.
Сословная структура общества требует специализации, иерархии различных «мы»—групп, слитые в единое «Мы». В этом случае для отдельной «мы»-группы другие группы единого «Мы» характеризуются как участники дружелюбного диалога — «вы». «“Вы” — это не “мы”, ибо это нечто внешнее, но в то же время и не «они», поскольку здесь царит не противопоставление, а известное взаимной притяжение. “Вы” это как бы признание, что “они” — не абсолютно “они”, но могут частично составлять с “нами” новую общность. Следовательно, — какое-то другое, более обширное и сложное “мы”. Но это новое “мы” разделено на “мы и вы”. Каждая сторона видит в другой — “вы”. Иначе говоря, каждая сторона видит в другой одновременно и “чужих” (“они”) и “своих” (“мы”)».
Титанический героизм соответствует предличности, которая расходует жизненные силы социума, рушит «мы», самообожествляясь и обожествляя свой хищнический инстинкт. Для него нет ничего, кроме образов врагов, для него нет «вы», а значит нет развитого социума. Подвижнический героизм связывает темный инстинкт и просветляет личность надмирным авторитетом — божественной Личностью, которая дает ему видение «ты», то есть иных личностей, комбинирующихся в различные «вы».
В порядке политкорректности нормативные акты современных государств старательно избавляются от установок на сверхусилия, которые всегда требуются особенно на войне, а в общем — всегда и повсеместно, но всегда и повсеместно бывают неудобны для деятельности бюрократического аппарата. На войне душа нации востребуется бюрократией ради собственного спасения — так поступил Сталин, воззвав к «братьям и сестрам», вернув Церкви возможность окормлять идущих на смерть граждан. Но окончание войны связано с иными запросами бюрократии — с унижением личности воина, раскрывшейся при защите Отечества. Проблема послевоенного развития связана с тем, сумеет ли нации сохранить эту личность от давящего воздействия бюрократии.
Бердяев писал: «Не случайно великие добродетели человеческого характера выковывались в войнах. С войнами связана выработка мужества, храбрости, самопожертвования, героизма, рыцарства. Рыцарства и рыцарского закала характера не было бы в мире, если бы не было войн. С войнами связано героическое в истории. Я видел лица молодых людей, добровольцами шедших на войну. Они шли в ударные батальоны, почти на верную смерть. Я никогда не забуду их лиц. И я знаю, что война обращена не к низшим только, а и к высшим инстинктам человеческой природы, к инстинктам самопожертвования, любви к родине, она требует бесстрашного отношения к смерти».
Опасность отталкивается бюргерским и бюрократическим самосознанием, опасное положение объявляется безнравственным и старательно избегается, а реальное столкновение со злом наблюдается даже не со стороны, а как бы из-за угла. Героизм, напротив, принимает на себя отрицания, о которых предупреждает страх — вплоть до отрицания собственной жизни. Дегероизированное общество возникает именно в связи с тем, что оно не может ужиться со страхом, преодолеть его.
Эрнст Юнгер, видевший перед собой виновника унижения Германии веймарским капитулянтским режимом, писал: «…опасное предстает в лучах [бюргерского] разума как бессмысленное и тем самым утрачивает свое притязание на действительность. В этом мире важно воспринимать опасное как бессмысленное, и оно будет преодолено в тот самый момент, когда отразится в зеркале разума как некая ошибка». Бюргерское государство «заявляет о себе во всеохватной структуре системы страхования, благодаря которой не только риск во внешней и внутренней политике, но и риск в частной жизни должен быть равномерно распределен и тем самым поставлен под начало разума, — в тех устремлениях, что стараются растворить судьбу в исчислении вероятностей. Оно заявляет о себе, далее, в многочисленных и весьма запутанных усилиях понять жизнь души как причинно-следственный процесс и тем самым перевести ее из непредсказуемого состояния в предсказуемое, то есть вовлечь в тот круг, где господствует сознание». Трусливому индивиду-бюргеру Юнгер противопоставляет тип — личность, идентифицирующую себя не индивидуальными отличиями, а признаками, лежащими за пределами единичного существования, то есть, в сфере духа. Этот тип выражает нацию и защищает ее.
А.Ф.Лосев в своем изложении античной философии отмечает внеличностный характер рабовладельческой формации и одновременно диалектическую целостность общественно-государственного строя. Надличностным принципом выступает здесь судьба, а логикой, объясняющей события — фатализм. С другой стороны, надличностный принцип определяет, что «боги, демоны и герои не суть личности в полном смысле этого слова, потому что они являются в античности только обобщением природных свойств или явлений. Но, отражая на себя все целое и потому творя его волю, они являются героями, так что чувственно-материальный космос есть оплот всеобщего “героизма”».
При переходе к новым историческим формациям, личность вступает в свои права, но надличностный принцип остается в сфере героизма. Как отмечает современный исследователь Светлана Лурье, обычно ситуации выбора связаны с «малыми пограничными ситуациями» — кризисными моментами в жизни человека, требующими самостоятельного поступка. Именно в малой пограничной ситуации и происходит соединение между личным поведением человека и «национальным характером» — только в подобной ситуации человек может «поступить как русский».
Овладение надличностным принципом осуществляется только личностью, делающей сознательный или интуитивный (но все равно личностный) выбор в пользу такого поступка, и именно этим поступком личность отождествляется с нацией, противостоит ее врагам и становится героической.
Изучение современной этнополитической ситуации и расовой проблематики требует начать восстановление смысла слов, терминов и исторической ретроспективы, которая только и может быть осознана с пользой для государственных дел, если будет покоиться на верном понимании используемых понятий. Лишь разрешив терминологические проблемы и поняв смысл межэтнической конфликтности, можно вернуться в проблемное поле этнополитики, до сих пор слабораспаханное научной мыслью именно в связи с увязанием в спорах вокруг общих вопросов и выдуманных представлений о должном и сущем.
Невнятность советской этнологии можно проследить в определении, которое давал этносу Л.Н.Гумилев: «Этнос — это коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобку мы можем только одно — признания каждой особе: “мы такие-то, а все прочие — другие”. Поскольку это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной».
В то же время, мы имеем здесь и научную задачу — поиска, выявления объективной биологической реальности, которая скрывается за универсальным самоопределением этноса и не выводится им самим сознательно из комплекса физических черт.
Те же признаки проблемного определения мы можем видеть в ставшем для советской науки классическим определении Ю.В.Бромлея: «Этнос может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная совокупностью людей, обладающих не только чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)».
«Межпоколенная совокупность» здесь — остаток некоей «физической реальности», осознаваемой опосредованно через отличение и обособление своей группы в культуре, языке, этнониме. Это последнее — отличение (иными словами, определение в системе координат «свой-чужой») — стало для этнологии главной проблемой, поскольку проблема «физической реальности» оказалась недоступной для исследователей ХХ века — в начале века в силу ограниченности естественнонаучных методик, в конце века — в силу политического табу.
В конце концов «физическое» отступает на задний план и исследователю остается лишь «этничность» — некий конструкт группового сознания, по сути дела миф. Но тем самым этнология приближается к политологии (разумеется, при отнесении к историческим народам, а не к диким племенам) — мы имеем для этого и дихотомию «свой-чужой», и культурный миф (в современном обществе неизбежно политизированный). Способствуют этому и идеологические столкновения по поводу судьбы государства и нации, сближение определений «нации» и «этноса».
Современная этнология, подпав под влияние либеральной парадигмы, стремится устранить из определения этноса все биологическое и историческое. Даже уклончивая позиция советской этнологии, близкая к «примордиалистам», оказывается для этнологов «демократической» эпохи неудовлетворительной. Нигилизм постсоветской этнологии доходит до прямого отрицания существования собственного объекта исследований — этноса. Марксистские уступки в пользу культурно-исторической концепции этноса и отказ видеть его социологическую природу, уже не устраивали «потрясателей» науки.
От имени «потрясателей» был выдвинут следующий обличительный тезис вполне политического свойства: «опасаясь впасть в идеологическую ересь… вместо того, чтобы оценить реальную силу духовной субстанции, — мифотворческого фактора… сотворили миф о безусловной объективной реальности этнических общностей как неких архетипов». В противовес выдвинута собственная мифотворческая доктрина: «Этносы… есть умственные конструкции, своего рода “идеальный тип”, используемые для систематизации конкретного материала… Они существуют исключительно в умах историков, социологов, этнографов… в действительности же… есть некое культурное многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и самоорганизации континуум из объективно существующих и отличных друг от друга элементов общества и культуры». Постсоветские этнографы стали претендовать на разрушение этнических мифов и замену их другими мифами — мифами об отсутствии объективных причин для этнической солидарности. Место этноса в либеральной парадигме заняла этничность — набор признаков, определяемых некими химерами группового сознания, которые требовалось систематически изживать. Мол, этноса как такового нет, но есть этничность. Этническая идентичность становилась «проклятой иррациональностью», которую надо разоблачать как наивное и опасное заблуждение, сочиняя от имени науки «реквием по этносу».
В схватке двух подходов — номиналистов и реалистов возникает два неудовлетворительных для науки вывода, подобных «основному вопросу» марксистско-ленинской философии, о первичности либо этнического сознания, либо этнической материи. Первые выступают в роли социальных конструктивистов, вторые — эссенциалистов, первые выводят все категории из исторического контекста и состояния сознания общества, вторые — исключительно из объективных явлений.
Доминирующее ныне конструктивистское представление об этносе представляет собой совершеннейший научный типик, в котором барахтаются сотни приверженцев идей Просвещения, для которых этнос — игнорируемая сущность, подменяемая нацией-государством, понимаемым исключительно как некий общественный договор. В соответствии с таким подходом, этнос — «лишь миф». То есть, ложь, «воображаемая общность», осуществляемая как «перманентный психоз». В крайнем случае, признается, что этнос — некая статистическая совокупность без признаков субъекта или же феномен, порожденный желанием к объединению. Возникает вопрос, каким же образом этнос все-таки фиксируется статистикой (хотя бы по каким параметрам) и откуда же берется желание сохранить единство? На эти вопросы постсоветские и западные этнологи-конструктивисты ответить не могут и не хотят, переводя вопрос в область политической догматики. То же происходит и с отношением к термину «нация».
Если эссенциалисты, стоящие на базисе марксистской философии, еще способны к научным изысканиям, то конструктивисты превращают объект исследования — этнос и нацию — в артефакт, от которого, в крайнем случае, остается лишь этноним (переносимый также на нацию). В последнем случае этносом или нацией становится то, что люди думают об этничности и национальности. А думают они разное. Соответственно, этнос и нация меняют свои лики в зависимости от текущего состояния общества и даже отдельных составляющих этого общества, для каждой из которых этнос и нация имеют собственные черты. Немалую роль в этих установках, превращающих саму науку в фикцию, сыграли уничижительные домыслы — вроде «потри любого русского и найдешь татарина».
Безусловно, гибридная природа этноса, определяемого не только близкородственными признаками, но и заимствованными чертами пришельцев извне, составляет важную проблему этнологии. Нет смысла протестовать против расовой доктрины этноса, когда разнообразные расовые признаки присутствуют в каждом этносе и в каждом индивидууме. И дело даже не в том, что некоторые из них являются биологически доминантными, в другие могут и вовсе вымываться из этнического генотипа с течением времени. Дело в том, что некоторые расовые признаки могут оказываться культурно доминантными, «просыпаясь» в определенных условиях даже вопреки биологическим задаткам, имеющим статистическое преимущество. Именно таким образом происходит взаимодействие природно-биологического и духовного в человеке — типично русский фенотип может сочетаться с совершенно нерусским культурным стереотипом. И напротив, фенотипически нерусское лицо может принадлежать человеку с «истинно русской душой» — казалось бы, подавленные биологические корни «русскости» становятся для него доминантными в повседневном поведении. Судить о личности по экстерьеру опрометчиво. Атлетический торс может принадлежать трусу, а в хлипком теле может заключаться могучий дух. То же касается физиогномики. То, что лицо — зеркало души, узнаешь только после опыта длительного общения с человеком.
Не разворачивая подробных обсуждений, мы можем сказать, что этнос соединяет в себе и объективную природу человеческого родства, и чувство (духовное чутье) этого родства. Этнос — это группа людей, соединенная чувством биологического родства (пусть даже весьма отдаленного и «замутненного» факторами родства с иными общностями), закрепленным в традиции (мифе). Утрата чувства родства разрушает этнос, несмотря ни на какие биологические причины для единства. Утрата биологического базиса делает родовую солидарность фальшивой, а фальшь рано или поздно разъедает родовой миф и этнос исчезает. Этническая природа нации ставит перед ней задачу культурного поддержания тех биологических доминант, которые изначально присутствуют в образовавшейся общности. Соответственно, возможна и необходима национальная этнополитика, целенаправленно проводимая государством ради собственного сохранения, означающая подкрепление заданных природой человека признаков племенного родства. Речь, разумеется, не о тотальной евгенической чистке, а о социальных практиках подкрепления биологических доминант данного народа и формирования из него нации — общности, в которой культурная среда пробуждает традиционные типы поведения, соответствующие определенному расовому типу.
Известный специалист по фашизму Р.Дарендорф дал объекту своих исследований такое определение: «Под фашизмом я имею в виду сочетание ностальгической идеологии общины, делящей всех на своих и чужих, новой политической монополии, устанавливаемой человеком или «движением», и сильного акцента на организации и мобилизации, а не на свободе выбора. Правление закона приостанавливается; диссидентов и лиц с нестандартным поведением сажают за решетку; меньшинства подвергаются суду народного гнева и официальной дискриминации. Фашизм в этом смысле не обязательно подобен немецкому национал-социализму; он не обязательно проводит политику систематического геноцида, хотя вероятность последнего весьма высока. В любом случае это — тирания правого толка, поскольку она опирается на военных, другие силы “закона и порядка”, взывает к реакционным чувствам и предается мечтаниям — но не о лучшем будущем, а о прекрасном прошлом».
Если отбросить из этого определения эпитеты, которые являются просто инструментом заострения уничижительных формулировок в адрес политического противника, станет ясно, что под фашизмом здесь понимается такая организация общества, где ясно различается образ врага, наблюдается национальное единство, ликвидирована межпартийная грызня, осуществлена мобилизация перед наиболее опасными вызовами, элементы разложения и измены оперативно локализуются и удаляются, а политический режим обходится без мифологии «светлого будущего», опираясь на консервативную прагматическую идеологию и национальный эгоизм.
Мы видим, что «антифашистская» доктрина в качестве собственного образа врага избирает биологически и социально заложенную в понятие «политического» оппозицию «свой-чужой». Врагом для «антифашиста» становится тот, кто осознает наличие враждебных замыслов, направленных против него, и не соглашается на гуманистические фантазии о всеобщем равенстве и братстве людей. «Антифашист» старается морально унизить того, кто в этом самом «антифашисте» видит своего врага, посягающего на его этническую и культурную принадлежность, на право защищать свой род и свою Традицию.
То, что либералы называют «фашизмом», на самом деле есть представление об этнических статусах, которые они надеются изжить в общегражданской нации (или в «общечеловеческом братстве»). Там, где либералы намереваются обезглавить этику, консервативное сознание восстанавливают сложную иерархию «мы-они», признавая за «они» личностные компоненты. Там, где либералы плодят добронравную чернь, всегда готовую вогнать заточку между лопаток зазевавшегося приятеля, консерваторы выстраивают сословные барьеры и инфраструктуру общества. Иными словами, либералы становятся идеологами черни, консерваторы — идеологами новой формы аристократии. И все это происходит вокруг основополагающего признака цивилизованности — способности иметь врагов и друзей. Либералы против этого, ибо не способны на соответствующие нравственные переживания, и стремятся к компенсации своей ущербности, не будучи способными иначе проявить себя в политике и политической науке.
К огорчению либералов, этнические статусы сохраняются даже в относительно благополучной Европе. Например, факторами, которые сохраняют возможность фашизма (то есть, законодательной фиксации этнических статусов) сегодня считаются:
— авторитарный тип мышления и воспитания;
— элементы расизма и антисемитизма на уровне обыденных ориентаций и моделей поведения;
— чувство ущемленного национального достоинства, связанное с поражением в войнах, в том числе локальных;
— мелкий бизнес, опасающийся большой концентрации экономической мощи;
— экономика с высоким уровнем безработицы;
— маргинальные слои, ищущие опоры для самоутверждения и обретения какого-то социального статуса;
— предрасположенность к насилию (имманентно присущая многим биологическим существам, в том числе людям).
Внимательный взгляд на этот перечень показывает, что ряд факторов является в принципе неустранимым, а прочие — пороками действующих в Европе лево-либеральных режимов.
Будучи «мозговой косточкой» черни, либералы всегда готовы погрузиться в инфантильные страхи и предрассудки, чтобы осудить пугающие их тени социальных явлений как реальный источник «фашизации» общества и объявить доминирующую нацию зараженной фашизмом. Научная терминология здесь служит просто прикрытием осознанных политических целей или неосознанных страхов. Например, Р.Гриффин с негативным пафосом пишет о фашизме, как о «палингенетической форме популистского ультранационализма» — восстановлении, возрождении, обновлении этноса, то есть, об идеологии национального возрождения, ставящей идею или интересы нации над всеми иными ценностями и интересами. Мы видим причудливую форму соединения публицистического заклинания о «популистском ультранационализме» и наукоподобную новацию о «палингенезе».
Причины притягательности пропаганды национал-социализма некоторые российские исследователи усматривают в разграничении «мы»-«они» по этническим признакам, а также в насаждении идеи национального превосходства (этнический романтизм), которая обеспечивает психологический комфорт от сознания своего высокого статуса для представителей этнического большинства, а также компенсационный эффект для лиц с незначительным социальным статусом.
Здесь мы видим абсурдные представления о заведомой вредности какого-либо разграничения по этническому признаку и какого-либо чувства превосходства (вот она «филосо-фия» черни!). Негативное отношение к пропагандистскому имени «фашизм» (который уже перестал быть термином!) переносится на выделенные признаки этнической дифференциации. При этом ожидаемое впечатление — усиление негативной оценки некоторых черт, присущих человеческим сообществам и враждебным унификационной доктрине либерализма.
Современная Россия с очевидностью показывает, что этнические иерархии возникают независимо от воли и желания либералов. Если доминирующая нация отказывается от законодательного закрепления своего преимущества, она становится «дойной коровой» для национальных меньшинств, получающих привилегии только на основании своей малочисленности. И в этом случае чернью становится разложившаяся нация, утратившая энергетику борьбы с «чужим», утратившая благородное стремление иметь врагов и побеждать их. Аристократическая мораль переходит к малым этносам, которые начинают рвать страну на куски, выделяя из нее личные феоды для кормления своих чиновничьих дружин.
К счастью, эта негативная тенденция в России преодолевается. Бомбардировки Югославии и теракты чеченских бандитов показали, что возвращение в национальной мировоззрения образа «чужого» (причем, именно этнически «чужого») является жизненно необходимым. И теперь в центре Москвы патриотическая молодежь с праздничным настроем побивает участников манифестации гомосексуалистов — лиц, решивших опровергнуть этничность как таковую.
Возникновение расового врага — не такое уж частое явление, но именно в нем наиболее ярко проявляется народная воля к жизни, неподотчетная никаким гуманистическим теориям.
Два фактора определяют расового врага — фактор иноэтнической культуры, грубо вмешивающийся в сложившийся порядок вещей и разрушающий его, и фактор антропологически очевидной инородности представителей этой агрессивно заявляющей себя на чужой территории культуры.
Расовым врагом для русских были татаро-монголы, черты лица и поведение которых стали ненавистным образом в условиях реальной опасности уничтожения нашего народа. Именно поэтому Россия не остановилась в уничтожении Золотой Орды и не позволила возникнуть на ее месте никакой государственности. В то же время, русское искусство не было склонно сохранять в памяти образ татаро-монгола. Что впоследствии позволило русским терпимо относиться к присутствию рядом неагрессивного татарского меньшинства и русифицировать его.
Расовым врагом для немцев стали евреи, стремительно переселявшиеся на территорию Австро-Венгрии, а затем — и славяне, которые получали преимущества во властных институтах и в области религии (захват чешскими священниками традиционно-немецких приходов). В складывании образа расового врага для немцев основательно постаралась и Польша, внесшая свой вклад в унижение Германии и отторжение у нее исконных территорий после Первой мировой войны. Никакие антропологические теории не смоги в дальнейшем остановить ненависть немцев к славянам. Только жестокое поражение во Второй мировой войне заставило немцев более спокойно взглянуть в глаза русским и увидеть в них достойного противника, а не сброд азиатских толп. Увы, при этом немцам не хватило и полвека, чтобы восстановить образ своего врага и перестать каяться за гитлеризм. Новые поколения немцев, никак не причастных к гитлеровским зверствам, продолжают платить за него алчным «победителям», сделавшим на унижении Германии свой гешефт. Того же типа персонажи делают гешефт и на унижении России, которой век не расплатиться с ними за большевизм. Как буд-то от большевизма не пострадали больше всех именно русские. Как будто гешефтеры не унаследовали своей русофобии от «ленинской гвардии».
 |
 |
 |
 |
В современной России образ расового врага выражается в таком простонародном понятии, как «лица кавказской национальности». Именно выходцы с Кавказа, как считает большинство русских, ведут себя вызывающим образом на территории центральной России, превратив созданное трудом поколений русских людей в предмет торга, а на юге России открыто осуществляя геноцид славянского населения (не только в Чечне, но и почти во всех остальных северокавказских республиках). При этом, как показывает захлестнувшая центральную Россию вола этнической преступности, они явно не собираются приспосабливаться к культуре традиционной России. Рыночная среда позволяет им устанавливать свои собственные нормы общения и взаимоотношений во всех сферах жизни. Даже невнятность речи на русском языке, акцент делаются предметом бравады и отделения от русского большинства.
Нужно отметить, что именно кавказцы, а не евреи формируют у русских образ врага. Как бы ни хотелось антисемитам возбудить народный гнев против евреев, образ расового врага формируется по своим законам. Евреи, в отличие от кавказцев, не составляют достаточно многочисленной группы, слабо представлены в сфере массового обслуживания, стремятся скорее ассимилироваться, чем выпятить свои отличия от коренного населения России. Только угнетение русского самосознания позволяет некоторым евреям из крупного бизнеса и высшего управленческого аппарата сообщать о своем еврейском происхождении, демонстрируя тем самым свою неуязвимость для русского общественного мнения. Но делается это, надо сказать, не в столь вызывающих формах, в которых пытаются заявить о себе иные представители северокавказских и закавказских народов, появившиеся в значительном количестве в русском социальном пространстве. Оторванные от своих корней, они становятся охлосом — штурмовыми отрядами олигархов, коррупционеров и разбойников.
Если в прошлом веке в России евреи могли вызывать расовую ненависть как своим обликом (пейсы и ламбсердаки), так и образом жизни (монополизация некоторых коммерческих отраслей в массовом обслуживании и революционный нигилизм еврейских образованцев), то теперь этого нет. Как нет и массового антисемитизма, вытесненного либо в маргинальные группы, либо в элитарные круги, где бытовой неагрессивный антисемитизм просто становится признаком «своего». Точно также как и в интеллигентских еврейских кругах, образ «своего» формируется «антифашистской» идеологией — в противовес идентификации по общему переживанию погромных страхов у еврейской массы. Здесь мы имеем дело как раз с крайними формами агрессии, направленными на любое проявление русского национального самосознания, а также с использованием в качестве образа врага определенных черт антисемитских маргинальных групп русской молодежи.
«Антифашисты» для русских националистов выступают только в качестве политического врага. Расовая вражда носит в данном случае остаточный и ослабленный характер — внешние антропологические признаки, манера поведения, строй речи вызывают отторжение. Но не ту непримиримость, которая свойственна реальной расовой вражде. Эта форма вражды как раз отличает антиподов русских националистов. Здесь ведется поиск символов вражды — в отдельных словах, манере вести себя, в лицах. Расовая чуткость «антифашистов» оказывается весьма развитой.
К великой печали для некоторых русских экстремистов-германофилов антифашистская идентификация свойственна русскому народу, понесшему потери в Великой Отечественной войне почти в каждой семье. Именно поэтому попытка сложить образ «своего» демонстрацией свастики обречена на провал. «Своими» по этому символу могут стать только крайне немногочисленные группы, неприемлемые для подавляющего большинства русских. Русским еще придется еще многие годы расставаться с образом врага, который содержится в словах «немец», «Германия», «рейх» и т. п. Тем не менее, немец для русского принципиально не может быть расовым врагом, и это внушает некоторую надежду на русско-германский союз в будущем.
Иное дело с африканцами, заполнившими не столько российское пространство, сколько полосы газет и информационный эфир. Усилиями журналистов африканцы на глазах превращаются во врагов коренного населения России и подхватывают навязанную им роль — в поведении очень немногочисленных, но живущих компактно африканских групп (прежде всего, студентов) агрессивность подкрепляется солидарностью «антифашистской» журналистики и содействием властей, готовых поверить в «русский расизм», как верят в «русский фашизм». Так, на самом незначительном «материале» произрастает новая мифология русского сопротивления, в которой ложной мишенью становятся африканцы — лица, не имеющие к русской беде ровным счетом никакого отношения, но подставленные «на линию огня» журналистами с менталитетом расовых выродков и этнических отщепенцев. На ту же «линию огня» попадают вместе с чеченскими бандитами и вполне лояльные к России и русским чеченцы и даже целые народы Северного Кавказа — скажем, православные осетины, связанные с русскими общим арийским происхождением.
Расовая вражда, организованная внутренним врагом, угрожает России как никогда. Российская многонародность превращается в беду страны — общенациональная солидарность старательно разрушается самой властью, призванной ее формировать, умеряя инстинкт вражды и формируя свободную лояльность к общему для разных народов государству. На месте расового мира и обособленного (но и нераздельного) существования разных рас и народов возникает новый еврейский и исламский экстремизм, кавказский и поволжский этносепаратизм. Там, где мог быть внутренний союзник, для русского большинства образуется расовый враг. Последняя, быть может, надежда не допустить потопа вражды, состоит в переносе «образа врага» на действительно инорасовый и действительно опасный для всех народов России внешний фактор китайской иммиграции, а также — на выродков журналистского сословия, чуждых всем народам и всем расам. Выделение «чужого» и указание на него — задача не только для массового сознания, но и для политической антропологии.
Современная политическая наука, кичащаяся своим рационализмом, изгоняет из социальной действительности не только нацию. Отождествляя расу с расизмом, политическая наука чурается всякого биологизма. Даже если нацию в какой-то степени впускают в политику, то стараются принять ее без этнических характеристик — исключительно по модели подданства/гражданства. Что приходит в противоречие с жизнью практически всюду.
Часто в ход идут некорректные домыслы о том, что человек биологически отличается от обезьяны на каких-то 3 %. И это вопреки элементарным представлениям о ценности тех самых «процентов», которые дают нам легкость угадывания зрительного отличия. Вне этой очевидной разницы человека трудно отличить и от червя. И в некотором смысле это так, поскольку методы социобиологии и биополитики обнаруживают в животном мире аналоги человеческих политических процессов — живая природа оказывается натурным экспериментом, полезным для понимания человеческого общежития. Самого человека его «природа» также обязывает.
И все-таки человек бесконечно далек от животного мира своей антиприродной разумностью. Это мы можем фиксировать без научного глубокомыслия. Точно так же мы можем легко отличать зрительно и человеческие расы, что при отсутствии комплиментарности между народами становится самым простым методом идентификации «своего» и «чужого». И здесь разумность человека, объединенного в коллективы, отходит на второй план, уступая место явлениям, имеющим аналоги в животной стае.
Некорректным оборотом мысли является представление о бесспорной смешанности всех ныне живущих народов. На указание очевидного различия, которое само по себе свидетельствует о незначительности многовекового «смешения народов», отвечают, что такое смешение происходит — теперь еще быстрее в силу глобализации и скоро уже усреднит человеческие типы. Между тем, другие исследователи без труда фиксируют повсеместный рост локальной идентификации, которая теперь может возникать вдали от родовых ареалов. Оборотной стороной глобализации оказывается локализация — теперь это локализация, подкрепляемая повсеместной возможностью создания обособленных в расовом или культурном отношении общин.
Абсолютное разделение биологического и политического все время опровергается неравенством природных задатков людей, которые имеют различную предрасположенность к разным родам деятельности. Существует, соответственно, и предрасположенность человеческих сообществ к определенной иерархии, в которой частные склонности получают свое органичное развитие. То же самое мы можем ожидать и при рассмотрении склонностей тех или иных народов, в которых всегда присутствует такая же склонность к вполне определенным отличиям в сравнении с другими народами, предопределяемая природно-биологическими факторами. При этом отдельный индивид может переступать через эти факторы, благодаря заложенным все той же природой особенным волевым задаткам. И тогда существует возможность формирования некоей «сборной команды» из разных расовых групп, которые складываются в тип, приспособленный к определенной профессии (например, управлению современным самолетом). Но и здесь неизбежно возникает своя иерархия, которая выдвигает вперед представителей какого-то более дееспособного в данном виде деятельности племени.
Весьма важным фактором для понимания политического является видение стратегической ценности демографических процессов. Одни народы, уступая пространство другим народам, уносят в небытие целые культуры вместе с их политическими особенностями. И только либеральной бюрократии все равно, какими народами управлять, — бюрократия, лишенная понимания ценности нации, лишена также понимания ценности соответствующего природно-биологического материала как носителя данного типа культуры. Именно поэтому либеральная бюрократия (иными словами, олигархия) является биологическим врагом нации, и жизнеспособность нации зависит от того, насколько она способна выявлять и уничтожать этого врага. Причем актуальность видения в бюрократии врага при сохранении лояльности государству и нации становится в современном мире особенно актуальным — при стремительной денационализации политических элит.
Современная политика пока не готова к тому, чтобы увидеть свою задачу в управлении биологическим фактором, в аккуратном и тонком применении евгенических законов и выращивании здорового и адаптированного к определенному типу жизни индивида, задатки которого проясняются в раннем возрасте и направляются в нужное русло. Отказ политиков от принятия на себя ответственности за биологическое выживание нации оборачивается нарастанием вала генетических болезней, жизненными драмами запутавшихся в своих склонностях людей, в деформации сложившихся этнополитических пропорций, ведущей к вражде между этносами, потерявшими способность к существованию в едином государстве. И помимо воли политиков биологическое врывается в политику, становясь уже неконтролируемым фактором, перекрывающим по значимости все прочие. Биологическое становится обязывающим законом — даже если его пытаются не пустить в политику, объявляя глупость и беспамятство истинной свободой.
Значение этнополитики признается почти всеми. Но разве при этом биологический фактор может быть отброшен? Разве законы биологии не действуют среди людей — пусть с поправками на рассудок и духовные факторы? Увы, этнос многим представляется лишь как общность языка и культуры, в крайнем случае — привычного ареала обитания. Нам же, изучая расовые процессы, следует ясно видеть родовую общность этносов.
Психологи знают связь телесных проявлений в человеческом поведении с его личностью — личность проявляется в конституции, мимике, жестикуляции. Но разве телесность не связана с биологическим законом? Расология заставляет вспомнить об этой связи и говорить не только о «национальном характере» и «менталитете», но и о расовых факторах, которые проявляются в личности.
Мы подошли к пониманию того, что политика не может игнорировать биологические закономерности. И это понимание присутствует в политической науке, где бытует термин «биополитика» — обозначение одного из разделов политологии, занятой выяснением биологических мотиваций и механизмов политического поведения. Но это — лишь одно «измерение» политического «пространства». Имеются и другие. Собственно биополитику следует понимать также и в «измерении», где наличествуют различия в расовых архетипах-гештальтах, а также расовые различия в тех самых политических мотивах, которые в ином «измерении» соотносятся с «общечеловеческим» разнообразием — общим для всего человечества делением людей на различные типологические группы, хорошо известные психологам и психиатрам.
Чтобы верно понимать политический процесс, мы не можем проходить мимо расовых архетипов и связанных с ними социальных стереотипов. Именно так общечеловеческая «горизонталь» биополитики дополняется расовой «вертикалью».
Поверхностная оценка расовых факторов дает «полткорректный», но однобокий и неполный результат, основанный на общеизвестном знании о том, что внутрипопуляционные различия всегда богаче межпопуляционных. Это знание почерпнуто в генетике. Но с точки зрения биополитики, оно требует правильного понимания. Без понимания различной ценности биологического разнообразия, использование данных генетики будет только способом уклониться от действительно полезных исследований. Генетика ведь не отбрасывает межпопуляционные различия! А политология пытается это сделать — досужие «этнологи» даже стремятся придать забвению целые направления возможных исследований человеческой природы.
История наглядно показывает нам, что в ней нет ничего существенней, чем различие между популяциями. Главная сущность истории — во взаимоотношениях между государствами, а государства — политически оформленные «популяции». И во внутренней политике государства без труда можно различить именно межпопуляционный конфликт — его зримость настолько очевидна, что отрицание этого факта можно оценить лишь как злонамеренный подрыв науки о человеке.
Межрасовый конфликт — факт истории, от него никуда не денешься. Этот конфликт неизбывен, неразрешим. Но он может быть введен в определенное русло. Только глубокая научная разработка дает такой шанс. Причем важна даже деталировка, которой пугаются «политкорректные» исследователи. Мы можем предположить, что даже война между расово близкими народами (скажем, между русскими и немцами) имеет расовую подоплеку, и она может быть обнаружена в расовых суевериях или расовых стереотипах правящих элит. Расовый портрет элиты может заметно отличаться от расового портрета народа — тогда речь идет о своего рода химере и затмении естественно-природных механизмов образования симпатии и антипатии. Расистская или классовая пропаганда могут утвердить такие расовые гештальты, которых в народе доселе не было — столкнувшись с врагом лицом к лицу воюющие армии начинают брататься, а через прицел ненавидят друг друга самым отчаянным образом. Пропаганда и позиция политической элиты могут навязать народу собственные гештальты и видеть расовые различия там, где их нет.
Естественнонаучная антропология, оставаясь отдельной от жизни народа дисциплиной, не использует сегодня наработанные знания. И это в условиях мощнейших миграций, происходящих в мире, в условиях явного демографического упадка ведущих наций! Для России забвение биологических факторов, связанных с воспроизводством нации — и вовсе преступно, ибо оставляет русских безоружными перед лицом смертельной опасности.
Совокупность задач, стоящих перед российским обществом, и антропологических и геногеографических знаний, все еще оставшихся в забвении, дают расологии право на существование как новой для отечественной науки дисциплине.
Образ врага всегда конкретен и персонифицирован, а «человек политический» не может иметь индивидуальных черт — его позиция приобретает вес лишь в сочетании с аналогичными позициями, утратившими личную окраску. Политический лидер, приобретая популярность, проявляет только те личностные черты, которые отражают консолидированные чаяния его поклонников; по сути дела, в личности лидера теряется различие между личным и коллективным, его дар соединяет одно с другим. Что касается интересов частного индивида, то их заявление может быть прагматичным только в одном смысле — в смысле дезориентации политического противника.
Для Карла Шмитта критерием политического является некоторая интенсивность противоположности, которая приобретет политический смысл вне зависимости от изначального содержания противоположности — религиозного, морального, экономического, этического. Как только мы можем сказать, что зафиксировано образование групп друзей и врагов, фиксируем одновременно и политическое. Но этого мало. Шмитт выделяет два фактора, которые отделяют частную вражду от политической: враг, во-первых, есть борющаяся совокупность людей, противостоящая такой же совокупности; во-вторых, борющаяся публично. При этом у политики нет собственного содержания. Содержание поставляется ему той проблематикой, по поводу которой между группами ведется непримиримая борьба (внешне, отметим, возможно, весьма корректная и регламентированная).
Шмитт, ссылаясь на Х.Плеснера, говорит: нет такой философии и нет такой антропологии, которые бы не были политически релевантны, равно как и нет, наоборот, философски иррелевантной политики. Потому что «философия и антропология как знание, специфическим образом направленное на целое, не могут, в отличие от какого-нибудь специального профессионального знания в определенных “областях”, нейтрализовать себя против “иррациональных” жизненных решений».
Устремляясь в большей мере к конкретно-политическим исследованиям, западная политология не желает слишком уж вникать в такого рода проблемы, оставляя полемику по поводу понятия политического на обочине.
Одной из работ, которая все же обращается к данной теме, является статья Агнес Хеллер «Пересмотренное понятие политического», в которой критикуется подход Шмитта как «полностью тиранический» и предпринимается попытка нейтрализовать этот подход за счет уравновешивания его миротворческой интерпретацией политики Ханны Арендт (политическое = пространство свободы; политика = свободное действие; власть = свобода). Хеллер говорит о трех независимых логиках любого обсуждения: путь к столкновению, состояние сосуществования и состояние сотрудничества. В первом случае политическое ясно прорисовано и ясно видны проблемы современности — размывание представлений о политическом, деполитизация мышления, департизация политической конкуренции, бюрократизация государственной машины и др. В последнем случае логика сотрудничества затушевывает вопрос о целях сотрудничества и политизирует те вопросы, которые по своему смыслу должны иметь минимальную концентрацию политического. Промежуточный вариант «логики сосуществования», с одной стороны, лишает политическое конфронтационного содержания, с другой — тормозит выработку выраженного понятия о «своем». Сосуществование одинаково прохладно и к «своим», и к «чужим».
Если в первом случае мы имеем дело с конфронтационной логикой и органичными оппозициями мы/они, национальным пониманием политического, то во втором — с консенсусным, глобалистским, бюрократическим и поверхностным пониманием политического. Промежуточный случай чреват как неорганическими оппозициями (например, классовыми), так и поверхностной идеологией в сочетании с двойными стандартами, метаниями между национальными и интернациональными ценностями.
Хеллер полагает, что к политическим можно отнести речевые акты, направленные на взаимное понимание. Шмитт, напротив, считает, что все политические понятия, представления и слова имеют полемический смысл. Следовательно, как только политический текст направлен не на консолидацию «своего» и оппонирование «чужому», а на некое всеобщее понимание, он ослабляет свою политическую сущность или вовсе ее утрачивает (если не встречает сопротивления).
Введение свободы в понятие политического (политизация свободы или либерализация политики) означает деполитизацию мышления, департизацию политики и превращение политических институтов в фикцию, используемую денационализированной бюрократией, а научных понятий — в обыденные метафоры. В случае введения справедливости в качестве ключевого понятия в политическое, деполитизация мышления, очевидно, остается, но политика как раз оказывается партийной и система управления политизируется, становясь частью партии — фиктивным будет мировоззрение, подменяемое омертвевшей и застывшей идеологией. Оба случая — скорее уж не логика, а политика, политическая позиция, намеренная прикинуться безопасной логикой.
Консервативное понимание политического центральным понятием полагает нацию, от которой «вширь» развиваются разнообразные оппозиции с другими нациями, «вглубь» — оппозиции между национальными и антинациональными, государственными и антигосударственными силами. Нация вовне всегда конфронтационна, она выражает исторически индивидуальную идею государства. Свобода требует от любого государства универсального компромисса, нация — только компромисса среди «своих» против «чужих». Нация — это внутреннее обязывание, требующее внешней свободы.
Карл Шмитт подчеркивает: «Покуда народ существует в сфере политического, он должен — хотя бы и только в крайнем случае, но о том, имеет ли место крайний случай, решает он сам — самостоятельно определять различение друга и врага. В этом состоит существо его политической экзистенции. Если у него больше нет способности или воли к этому различению, он прекращает политически существовать. Если он позволяет, чтобы кто-то чужой предписывал ему, кто есть его враг и против кого ему можно бороться, а против кого — нет, он больше уже не является политически свободным народом и подчинен иной политической системе или же включен в нее».
Логика консенсуса и сотрудничества в политике отражает непонимание политического. В интегральной, расширительной схеме толкования политического конфронтационная «логика» говорит о сущности и понимании политического. Когда же речь идет о модели сотрудничества и сосуществования, понимание утрачивается. При этом непонимание политического начинает играть особенную роль — оно усиливает конфронтационность ввиду неведения о диспозиции сил, незнания «своих» и «чужих», ввиду попыток выдвигать для тех и других одни и те же этические доводы, ввиду утраты представлений о ведущих политических субъектах и особенностях их функционирования.
К политическому мы должны отнести такие черты, которые объект нашего внимания приобретает в результате острого конфликта, непременно приобретающего публичное выражение, и доведенного до такой стадии, в которой этические претензии предъявляются уже не к идеям, а к личностям или политическим субъектам. Причем эти претензии выражаются на языке политических ценностей (национальное и антинациональное, государственное и антигосударственное; в ином идеологическом наборе — фобия и солидарность, авторитаризм и демократия и т. д.), действующем в сюжетно оформленной политической парадигме — политическом мифе.
Война — квинтэссенция политического. Можно сказать, что политика — всего лишь сублимированная война, что политика ищет иные методы уничтожения врага, когда запрещено применять открытое убийственное насилие. Только в кризисном обществе воинская служба становится аполитичной — поскольку нация забывает себя, утрачивая представление о собственных врагах. Если у нации нет врагов, то близится ее конец. А до того — конец армии. Вместе с тем, армия как институт является последним аргументом политики, единением нации, и в этом смысле в армии не может быть партийных страстей. Иначе партийная склока сломает государство, призванное ограничить открытое насилие и учредить политическое как таковое в рамках государства.
Напряженность противостояния производит политическое как только оппонирующие группы начинают добавлять в полемику этические оценки — это как раз и означает, что необходимая интенсивность противоположности достигнута, и аргументация уже работает не на понимание между оппонентами, а на противостояние. Но политика идет дальше — от этического неприятия противника к обвинению его в умственной неполноценности. Потом дело доходит и до физического отвращения к врагу — враг всесторонне безобразен и является как бы подделкой под человека. Разрешенный конфликт, выявивший победителя, возвращает противостоящим сторонам человеческие черты — победитель оказывается уже потому прав, что победил, поверженный вновь обретает человеческие черты уже потому, что был в состоянии противостоять победителю.
Понимание политического возникает именно вокруг оппозиции «мы» и «они», «свои» и «чужие».
Для древнегреческого философа Гераклита эти противоположности сближаются, как и все в природе — «враждебное находится в согласии с собой» (горячее охлаждается, влажное сохнет и т. д.). Поэтому невозможна негативная оценка столкновения между противоположностями. В социальном плане это означает, что исход войны всегда справедлив: «Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными… Должно знать, что война общепринята, что вражда — обычный порядок вещей, и что все возникает через вражду и заимообразно».
«Свои» и «чужие» — наиболее фундаментальные понятия, которым не требуется никаких экономических или иных обоснований: «не в том смысле “чужие”, что они неприятны, а в том смысле неприятны, что “чужие”» (Б.Поршнев).
Именно на таком понимании построил свою концепцию политического Карл Шмитт. Он утверждает, что «специфически политическое различение, к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различение друга и врага». «Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации; это различение может существовать теоретически и практически, независимо от того, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, экономические или иные различения. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он есть именно иной, чужой».
Доводя эту мысль до конца и учитывая биологические и антропологические доводы, можно сказать, что политическое поведение есть в некотором смысле повторение моделей поведения, связанных с отношениями хищник-жертва в живой природе и тотемическими обычаями древних человеческих сообществ.
В этом смысле какие-либо разговоры о возможности «объективной» позиции в политике являются профанными или же сводят политику к иным формам жизнедеятельности — религии, праву, экономике и т. п. Напротив, «всякая религиозная, моральная, экономическая, этническая или иная противоположность превращается в противоположность политическую, если она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разделять людей на группы друзей и врагов». «Если противодействующие хозяйственные, культурные или религиозные силы столь могущественны, что они принимают решение о серьезном обороте дел, исходя из своих специфических критериев, то именно тут они и становятся новой субстанцией политического единства».
Как отмечает Шмитт, политическое единство должно в случае необходимости требовать, чтобы за него отдали жизнь. В политике важным оказывается не самопожертвование ради «мы»-общности, а готовность к нему, наполняющее особой энергией поведение индивида, делающее его собственно политическим. Война как предпосылка сплачивает «мы»-группу и переопределяет любые основания ее организации в политические.
Народ как «мы»-группа, является политически независимым только в том случае, если он способен различать «друга» и «врага». Если такая способность утрачивается или передается некоей внешней силе (скажем, в химерной государственности — представителям иного этноса), то такой народ перестает существовать в качестве политического субъекта. Если какая-либо политическая сила стремится доказать, что у народа врагов нет или что именно такое состояние является желательным, то эта сила действует в пользу врагов народа, которые существуют не только в воображении, но и в реальной действительности.
Если в межличностном конфликте столкновение с врагом (в том числе и в экзистенциальной схватке по поводу нравственных ценностей) не предполагает его окончательного уничтожения, что снимало бы продуктивное противоречие, то в столкновении народа со своим врагом последний может быть только народом и только таким народом, противоречие с которым не может быть продуктивным. Враг народа должен быть обращен в «ничто», ибо ненависть к нему обезличена (Гегель). Только тогда народ может утвердить свой нравственный принцип.
Вместе с тем, массовость современной политики требует, чтобы экзистенциальное столкновение или дележ территории, имущества и социальных статусов происходил от имели «мы»-группы выделенными из нее активистами (или активистами, сформировавшими вокруг своей позиции «мы»-группу), которые структурируют стихийную референтность в «мы»-группе и отталкивание от «они». Для политического активиста, таким образом, наличествует прямая заинтересованность в «они», как в явлении, обуславливающем необходимость его профессии. Следовательно, «мы», стремящееся к небытию «они», оказывается в неявном противостоянии с собственными активистами, вынужденными по возможности регулировать референтность среди своих противников.
Как отмечает современный исследователь феномена политического А.И.Пригожин, «соперничество между представителями или выразителями разных групп строится на механизме взаиморефлексии. Это не означает прямого и непосредственного действия, направленного на достижение своих целей, а предполагает предвосхищение ожидаемых действий соперников, в результате чего конкретное решение может далеко отходить от цели, так как рассчитывается с учетом его воздействия на поведение соперников (если я так, то он эдак, поэтому я иначе…)».
Отсюда следует насколько важно сохранять образ врага, ввиду постоянного его размывания политическими технологиями представителей группы, от имени которой действуют политические активисты. Если «мы»-группа должна удерживать образ врага и постоянно воспроизводить энергетику вражды (вплоть до силового противостояния), чтобы оставаться политическим субъектом, то представляющие группу активисты лишь используют этот образ и эту энергетику для мобилизации группы и для достижения преимуществ в конкуренции по поводу захвата и удержания «политического капитала».
Ницше писал об этом: «Кто проанализирует совесть современного европейца, тот из тысяч ее моральных складок и скрытых уголков извлечет один и тот же императив, императив стадного страха: “мы хотим, чтобы наступил наконец момент, когда бы нам нечего было бояться!” Путь к этому моменту, стремление к нему, называется нынче в Европе и повсюду — прогрессом».
Между тем, опасность — то, что наполняет жизнь непередаваемым букетом ощущений. Она присутствует и в спорте, и в войне. Война для молодых и сильных людей является делом привлекательным именно в связи с ощущением опасности, страха смерти и волевых усилий по его преодолению. Повстанцы, камикадзе — это в большинстве своем вовсе не психически больные фанатики. Это люди, для которых образ врага слился с понятием мирового Зла, ради ущерба которому можно и нужно отдать свою жизнь. При этом Зло может обладать притягательностью именно в связи с ненавистью к нему.
Страх своего собственного страха сформировал в Западной цивилизации доминирующую политическую группировку, для которой образ врага заключен в источниках страха любых жестких оппозиций (то есть, собственно политических конфликтов). Главнейшим и легко обнаружимым образом становится образ национального государства. Государство как принцип устроения общества обобщает все страхи. А поэтому, как заметил Шмитт, «либерализм в типичной для него дилемме “дух/экономика” попытался растворить врага, со стороны торгово-деловой, — в конкуренте, а со стороны духовной — в дискутирующем оппоненте». «Правда, либерализм не подверг государство радикальному отрицанию, но, с другой стороны, и не нашел никакой позитивной теории государства (…); он создал учение о разделении и уравновешении “властей”, т. е. систему помех и контроля государства, которую нельзя охарактеризовать как теорию государства или как конструктивный политический принцип». «Из совершенно очевидной, данной в ситуации борьбы воли к отражению врага, получается рационально-конструированный социальный идеал или программа, тенденция или хозяйственная калькуляция. Из политически соединенного народа получается на одной стороне культурно заинтересованная публика, а на другой — частью производственный и рабочий персонал, частью же — масса потребителей. Из господства и власти на духовном полюсе получается пропаганда и массовое внушение, а на хозяйственном полюсе — контроль. Мораль, в свою очередь, тоже стала автономной относительно метафизики и религии, наука — относительно религии, искусства и морали и т. д.».
Действительно, если консерватизм, выделяя, «своих», как подданных государства, гарантирует им помощь в сложных ситуациях (например, помощь беженцам и вынужденным переселенцам), то либерализм все сводит к экономической категории риска, за последствия которого каждый должен отвечать самостоятельно.
Существенные успехи либеральной идеологии привели к одному — к частичной замене открытого политического противостояния наций на международной арене — закрытым (непубличным) противостоянием экономических корпораций и квазирелигиозных научных доктрин. Национальные предпочтения перешли из сферы политики в бытовую сферу и в субкультурные сообщества. Образ врага свелся к вялой и дегероизированной ксенофобии.
Между тем, и в западной социологии имеется существенно отличная от либеральной доктрины линия. Скажем, линия Пьера Бурдье, который называет борьбу партий «сублимированной гражданской войной», или Патрика Шампаня, утверждающего, что манифестация так или иначе является зародышем восстания, а сам смысл постоянных трансформаций уличных шествий (получивших, заметим, легитимный статус только во второй половине XIX века) состоит в том, чтобы не стать заученным ритуалом и подкрепить потенциально присутствующей возможностью мятежа и анархии внимание к определенной форс-идее (политическому мифу). Иначе говоря, лишаясь образа врага, манифестация перестает быть интересной обществу, лишаясь тем самым своего политического статуса и превращаясь в подобие карнавального шествия или парада.
В российской политической публицистике не раз с негодованием приводились слова большевистских и фашистских лидеров о возможности нравственности только в кругу политических единомышленников. Это негодование, само по себе свидетельствующее о наличии образа врага, всегда игнорирует тот факт, что либеральная доктрина отлична от критикуемых ею позиций лишь внешним лицемерием при строгом соблюдении правила: нравственность признается только в отношении «своих», к «чужим» она неприменима, у «чужих» нравственности нет. Именно таково было, например, отношение большинства западных политиков (да и широких общественных слоев) к атомной бомбардировке Японии в 1945, к событиям в Москве в 1993 году, к бомбардировкам Югославии в 1998…
Примеров «двойных стандартов» можно привести множество. Все они говорят о том, что образ врага никуда не исчез из реальной политики Запада, и только лицемерная риторика, ритуал политического диалога скрывают это обстоятельство и даже приводят к недоразумениям, связанным с наивными попытками правозащитников буквально трактовать нормы международного права.
Современная российская политология и философия политики, а вслед за ними и практика целого ряда политических группировок, в значительной степени следует либеральной концепции «деполитизации политики». Некоторых исследователей и политиков это приводит к критике исторического опыта собственной страны, в котором выискиваются причины войн и распрей, якобы свидетельствующих об особенностях русского народа. «Образ врага» переносится на русский народ, по отношению к которому целая плеяда политиков и ученых становится «внутренним хищником», не скованным какими-либо конвенциональными правилами, и моделирует отношения элита-народ по самоедской схеме хищник-жертва.
Нация — ядро понятия политического, поскольку деполитизируясь нация мгновенно исчезает. Нация осуществляется только политически, чего не скажешь о государстве, которое способно существовать в формах самой унизительной зависимости — в условиях иллюзии суверенитета или все еще возможного суверенитета. Но в то же время государство сохраняет потенциальную возможность нации, превращения подданства в гражданство. Поэтому в иерархии понятий государство ниже нации, но выше всех прочих политических институтов.
Макс Вебер определял нацию через специфическое единство, «данную в чувственности общность», выраженную в стремлении к собственному государству. Данное определение отталкивается от цели, а не от состояния. При этом цель возникает из жесточайших схваток не на жизнь, а на смерть, в которых рождаются общие воспоминания, подчас более существенные, чем культура и язык. Напротив, язык, культура, общие этические нормы вытекают из общей политической судьбы.
Этические нормы могут стать элементом политики, будучи используемы противостоящими политическими группами. Но сами по себе этические нормы — достояние нации. Ими создаются рамки политики, в которых неизбежная конфронтация групп не разрушает национального единства. Если же исключить понятие нации, этические нормы оказываются формой деполитизации мышления и разложения политической прагматики — они заставляют уступать абстрактным соображениям, позволяя человеку оставаться сиюминутно порядочным, но отстраняясь при этом от последствий своей «порядочности» для нации. Последовательно проведенная политическая философия индивидуальной свободы всегда доходит до осуждения нации. И это снова подталкивает нас к тому, чтобы понимать политическое именно через нацию.
Лишение человека памяти в потоке ежедневных новостей («утренняя газета заменяет утреннюю молитву») не дает ему сформировать образ врага, понять политику как противостояние добра и зла, как схватку с врагом нации. И тем самым человек перестает быть свободным — он отрешен от выбора добра и зла в своей частной жизни, исключается из коллективной воли нации, перестает быть человеком политическим. А это значит, что он позабывает и свой род, который он должен продолжить до конца времен, отражая агрессию врагов.
Хайдеггер говорит об экзистенции нации в национальной революции, которая становится фундаментальным политическим фактом (аналогичным факту чрезвычайного положения, которым государство утверждает свой суверенитет — по Шмитту). Причем это не значит непременной войны, но значит решительное избавление от диктата «чужого», которое в общей перспективе так разграничивает нации, что они могут жить в вечном мире. Война остается как возможность, вероятная перспектива, к которой надо быть готовым, чтобы не исключить себя из политики. Экзистенция нации — это прорыв к собственной сущности, сбрасывание с себя «чужого» и обретение свободы. Только таким образом может возникнуть и весь прочий комплекс этических понятий в политике — через волю нации, решимость сделать выбор и стать «мы», направив этические аргументы против «они».
Частная экзистенция ко всему этому имеет самое малое отношение. Как пишет Шмитт, «если граждане некоего государства заявляют, что у них лично врагов нет, то это не имеет отношения к вопросу, ибо у частного человека нет политических врагов». То есть, враги у нации остаются, а человек просто вне политики — он не участвует в противостоянии групп и никаким группам не интересен.
Отрицание нации в угоду частной свободе носит, бесспорно, политический характер и отражает вполне определенный проект будущего человечества — это федералистский проект, согласно которому национальные сообщества надо сначала полностью раздробить, а потом предоставить атомизированным индивидам самопроизвольно (а на самом деле — в соответствии с настойчивыми советами современных гуманистов) ассоциироваться, забыв о нации.
Примером деполитизированного политолога, одну работу которого мы разберем в качестве яркого примера, является Марк Рац, замдиректора Института стратегических оценок, страстно приверженный «учению» Вацлава Гавела о патриотизме (см. его статью в «Независимой газете» 04.01.2000).
Рац, проповедуя либеральное самоедство для России, объявляет лозунг «Россия для русских» откровенно фашистским, а его смягченные и завуалированные формы особенно опасными. К последним Рац отнес идеи славянского братства, «русской партии», требование, чтобы президентом России был русский, то есть, все возможные интегративные «мы»-концепции.
Рац пишет: «В одномерно-этническом и многомерном понятии Родины сталкиваются два принципиально разных подхода к различению “наших” и “не наших”, “своих” и “чужих”. В первом случае “нашим” человек оказывается физиологически: по факту рождения от русских (славянских) родителей. Ему не дано выбирать. Точно так же небогат выбор “инородца”: родившись в России, он обречен оставаться гражданином низшего сорта либо уехать. Во втором случае гражданин свободен в своем выборе: родившись в России, он волен сознательно принять или отвергнуть российское гражданство независимо от своего происхождения. Принятие того или иного гражданства, выработка того или иного отношения к своей Родине оказываются результатом самоопределения человеческой личности. Соответственно в первом случае мы и получаем империю, тюрьму, а во втором — федерацию, сообщество свободных людей, объединяемых не только и не столько этнической принадлежностью, сколько множеством связей и отношений, стоящих за гавеловским понятием Родины».
Для них империя — всегда тюрьма, а измена Родине — реализация свободного выбора гражданства. Обязанность русского быть русским они считают ущемлением достоинства. Такие, как Рац, действительно самоопределяются как «граждане низшего сорта», потому что отстаивают свое право на измену. Если бы они вели себя иначе, кто бы поставил бы им на вид их «инородство»? Их бы все считали русскими — вот и все. Но им этого не надо, им нужно отстоять такой «патриотизм», который не обременителен и может быть всегда отброшен в угоду личным интересам.
Вот еще одно достижение последователя истерического антифашизма: «Власть языка по большому счету сильнее, чем любая власть, доступная людям. Но богатство культуры при наличии общего языка достигается за счет ее многообразия. И тогда уже нужны не русификаторские, унифицирующие усилия, а, наоборот, забота о воспроизводстве и развитии языков и культуры малочисленных народов, соцветие которых и составляет при таком подходе главное богатство России (а не угрозу ее распада, как в имперском варианте). Патриотизм в рамках права не может быть национальным в этническом смысле. Либо мы будем патриотами России, где живут представители десятков национальностей, либо мы будем русскими (славянскими) национал-патриотами со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Их культура — это смесь местных сельских суеверий с западнической антикультурой, смесь варварских обычаев неучей и правом этих неучей возбуждаться порнографией и удовлетворяться пошлостью. Рац хочет именно этого воспроизводства в ущерб русской культуре и русскому языку. Он втолковывает, что империи распадаются, а вот химерные федерации — нечто стабильное на века. Это ложь. Рац проповедует распад, уничтожение России, он стоит на страже интересов жалкой, но особо сплоченной и подлой кучки этно-сепаратистов, которые тоже будут выдавать себя за «патриотов», потому что их патриотизм вписывается к гавеловскую концепцию.
Особое раздражение вызывает у либеральных теоретиков национальный романтизм: обращение к древним символам и культам, трансформация ритуалов и праздников; введение новых печатных готических шрифтов, создание нового монументального архитектурного стиля, восстановление духовных ценностей на основе древнегерманских саг, мистицизм, связанный с реинкарнацией далеких предков, восстановление древних правовых норм и пр. Между тем, с точки зрения доктрины национального возрождения германской нации, все это — безусловный позитив.
Аргументом против национального романтизма является довод о том, что он является наследием Средневековья, которое, как считается, было эпохой мракобесия и тирании. Например, российский исследователь этнических статусов М.В.Савва пишет: «Целью такого возвращения Германии в средневековье было создание монолитного закрытого общества, ориентированного на борьбу с иноэтничным врагом любыми средствами». Иначе говоря, речь идет о том, что возвращение Германии в Средневековье становится способом борьбы с врагом. Савва считает, что этот враг безусловно определялся как иноэтнический. Но это верно лишь отчасти, поскольку этническая принадлежность связывалась с причинами антинациональной позиции, но никогда не становилась ее оправданием. То есть, на первом месте все-таки стояли интересы национальной элиты, а не кровно-родственная солидарность. Соответственно, и возвращение к Средневековье вовсе не означало погружение в родовые мифы более ранних времен. Действительно, несмотря на явное использование целого ряда элементов средневековой культуры (прежде всего, идеи иерархии), в целом Германия сохранила в высшей степени современную науку (физику, химию, биологию, философию, антропологию и др.), что закрепляло страну на передовых рубежах технического прогресса.
Честные исследователи, конечно же, дают вполне удовлетворительные формулировки, связанные с этническими статусами и идеологическими позициями национализма. Одно из них мы приведем для того, чтобы продемонстрировать, чего боятся либералы, и что совершенно естественно для консервативного мышления.
В книге В.А.Барсамова «Этнонациональная полтика в борьбе за власть: стратегия и тактика общенациональной смуты» фиксируются основные положения национализма:
1. Этносы и нации — естественные, реально существующие феномены, развивающиеся с давних времен (поддержка племенной /примордиалистской/ теории наций). История предстает как преимущественно национальная борьба народов за свое освобождение от других народов, государств, врагов и т. д. — поработителей.
2. Для националиста его этническая группа — всегда нация. Национальная (этническая) общность выше всех других общностей. Национальное всегда выше социального.
3. Национальное выше индивидуального и личностного. Для националиста нация представляет всегда единое и неделимое целое.
4. Национальное, этническое выше государства. Важно будущее народов, а не государств.
5. Основа этнонационального движения — этнонациональное самосознание (дух), которое то дремлет, то просыпается.
6. Есть основания считать один народ выше другого (первый имеет все права или больше прав), по крайней мере, на данной территории. Земля, ее богатства, материальные ценности имеют национальную принадлежность. Коренной народ, независимо от его численности, имеет право быть хозяином своей земли и собственной судьбы.
7. Проблемы своего народа — это реальные проблемы. У соседнего народа проблемы совсем незначительные и не решены по причине его собственной лености, глупости, бездеятельности… Свои требования справедливы и правильны (и отвечают общемировым тенденциям), «их» — несправедливы и претенциозны (и не отвечают историческим тенденциям).
8. Только «собственное» национальное (читай «этническое») государство может обеспечить достойные условия проживания народу.
9. Другие этнические группы на этой территории должны поддержать, согласиться или подчиниться и признать право коренного народа или быть изгнаны как чужаки, не имеющие прав, или уничтожены.
10. Этнический национализм основывается на фиксации групп избранного («коренного», более полноценного, справедливого, высшего…) и групп низшего, второго порядка. Национализм рассматривает проблему сквозь призму «мы» и «они»: «хорошие» и «плохие», «справедливые, терпеливые и отважные…» и «несправедливые, злые…».
11. Для националистов свойствен своеобразный этнонациональный гилозоим, согласно которому этнические группы чувствуют, страдают и живут, то есть практически одушевлены, совсем как люди. Для них характерно сводить личность к нации и нацию к личности. Националист отождествляет себя полностью с нацией и живет во всех исторических временах и пространствах, где, по его мнению, присутствовала его нация.
Национализм, исходя из данных признаков, бесспорно позитивное явление — он опирается на природное родство, склонен инвертировать это родство в политическое единство, ставит это единство выше групповых социальных интересов, выше властных институтов и т. д. Возможны, конечно, и негативные интерпретации, когда национализм заявляется неадекватно — скажем, ошибается в определении родства, исторической укорененности на данной территории, вступает в столкновение с нациями, имеющими не менее прав на данную территорию, но более развитых и соучаствовавших в этногенезе данной народности и т. д. В любом случае, мы в состоянии отличить национализм великой нации от неадекватных претензий на национализм со стороны этнической интеллигенции, подзуживающей национальности, обладающие разве что фольклорным своеобразием, у бунту против заведомо более мощного политического и родового единства. Разумеется, когда национализм носит государственный характер, он ведет страну к процветанию, когда же этими мировоззренческими установками начинают пользоваться представители национальных меньшинств, то возникает явление этно-шовинизма, возникает смута.
В России государственнический национализм может проявляться только у русских. Именно этого боятся наши либералы-антифашисты. Они склонны сквозь пальцы смотреть на этнонацизм в Татарии, Башкирии, Якутии, Адыгее, Мордовии и т. д., не возражают против использования указанных выше принципов этно-сепаратистскими группировками, но когда доходит до проявления русского национального самосознания, они дают этому явлению самые уничижительные характеристики, отождествляют русских националистов с гитлеровскими фашистами.
Если в Европе крайне мало знают об условиях России, в которой именно либеральная идеология возбудила этнические меньшинства к борьбе за односторонние преимущества (и такие преимущества инородческими элитами уже получены), то со стороны российских «антифашистов» мы должны видеть злонамеренную ложь. Они не собираются возражать против особых статусных позиций у «титульных» народностей наших «внутренних республик». А вот силам, которые говорят об особой роли русских в создании России и защите российской государственности, все время навязывают нечто «ультранационалистическое».
Либерализм понимает свободу как явление экономическое, распространенное на все прочие сферы жизни. В результате, якобы, происходит освобождение индивидуума от государства — те же марксистская мечта о «царстве свободы». Не случайно формальное равенство (по норме закона) и реальное преимущество худших представителей общества (по норме либерального режима) становится дополнением к принципу свободы.
Либералы говорят, что наши права заканчиваются там, где начинаются права другого. В действительности их права (людей с либеральным типом мышления) ничем не ограничены, потому что не имеют под собой нравственной основы и переведены на почву экономических калькуляций «выгодно — не выгодно». Консерваторы говорят, что свобода индивидуума — это обман, действительно свободным может быть только органическое социальное единство, а свобода личности — ничто перед свободой и задачами развития нации. Либералы ради свободы одного готовы пожертвовать свободой государства, а значит — свободой и достоинством многих. Консерваторы готовы предоставлять отдельной личности дополнительные возможности только в меру служения общим интересам.
Для либерала государство — первый враг, а содержание истории видится как непрерывная борьба личности против государства. «Золотой век» для либерала — не век расцвета культуры, а век распада и разложения. Десятилетка ельцинизма для либералов — самое счастливое время. Для консерватора это катастрофа. Либерал радуется краху Римской Империи, Российской империи («тюрьма народов»), СССР («империя зла»); консерватор сопротивляется разрушению государства. Либералам нужны великие потрясения, консерваторам — великая Россия.
Исследователь консерватизма XIX века Карл Манхейм писал: «Консерватизм и либерально-буржуазная мысль — это не готовые системы, а способы мышления, непрестанно подвергающиеся изменениям. Консерватизм хотел не только мыслить иначе, чем его либеральные противники, он хотел, чтобы само мышление было иным, и именно этот импульс был дополнительным фактором, приведшим к возникновению новой формы мышления».
Манхейм отмечает, что консерватизм во всем противостоит либеральной идее естественного права, которая основана на доктринах «естественного состояния», общественного договора, суверенитета народа и доктрине неотъемлемых прав человека (жизнь, свобода, собственность, право сопротивляться тирании и т. д.). В методологическом плане либеральный стиль мышления порождает:
1) рационализм как метод решения проблем;
2) дедуктивное следование от одного общего принципа к конкретным случаям;
3) постулат всеобщей правомочности для каждого индивидуума;
4) постулат универсальной применимости всех законов для всех исторических и общественных общностей;
5) атомизм и механицизм: составные целостности (государство, право и т. д.) конструируются из изолированных индивидуумов или факторов;
6) статическое мышление (правильное понимание считается самодостаточной, автономной сферой, независимой от влияния истории).
Метод консервативного мышления, напротив, основан на:
1. первенстве понятий История, Жизнь и Нация в сравнении с понятием Разум;
2. представлении об иррационализме действительности, противостоящем дедуктивным наклонностям школы естественного права;
3. введении понятия общественного организма и значимости его актуальных состояния в противовес либерально-буржуазному убеждению, что все политические и социальные инновации имеют универсальное применение. Либерал анализирует и изолирует различные культурные области: Закон, Правительство, Экономику; консерватор стремится к обобщающему и синтетическому взгляду;
4. формировании понятия целого, которое не является простой суммой его частей (государство — не сумма индивидов), в противовес конструированию коллективного целого из изолированных индивидуумов и факторов;
5. утверждении динамической теории Разума — движение Жизни и Истории представляет Разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в постоянном становлении.
Качества либерального типа мышления ярко выделил Эрнст Юнгер. Либеральный прогрессизм в его анализе выглядит у него как «рационализм» трусливого индивида, отстаивающего обветшалые ценности XIX века — века торжества идей Просвещения на европейском полуострове — ценности договора, который спасает от борьбы и, в то же время, может быть расторгнут в удобное время, когда партнер оказывается не способным к нападению: «…опасное предстает в лучах [бюргерского] разума как бессмысленное и тем самым утрачивает свое притязание на действительность. В этом мире важно воспринимать опасное как бессмысленное, и оно будет преодолено в тот самый момент, когда отразится в зеркале разума как некая ошибка.
Такое положение дел можно повсюду детально показать в рамках духовных и фактических порядков бюргерского мира. В целом оно заявляет о себе в стремлении рассматривать зиждущееся на иерархии государство как общество, основным принципом которого является равенство и которое учреждает себя посредством разумного акта. Оно заявляет о себе во всеохватной структуре системы страхования, благодаря которой не только риск во внешней и внутренней политике, но и риск в частной жизни должен быть равномерно распределен и тем самым поставлен под начало разума, — в тех устремлениях, что стараются растворить судьбу в исчислении вероятностей. Оно заявляет о себе, далее, в многочисленных и весьма запутанных усилиях понять жизнь души как причинно-следственный процесс и тем самым перевести ее из непредсказуемого состояния в предсказуемое, то есть вовлечь в тот круг, где господствует сознание.
В пределах этого пространства любая постановка вопроса художественной, научной или политической природы сводится к тому, что конфликта можно избежать. Если он все-таки возникает, чего нельзя не заметить хотя бы по перманентным войнам или непрекращающимся преступлениям, то дело состоит в том, чтобы объявить его заблуждением, повторения которого можно избежать с помощью образования или просвещения. Такие заблуждения возникают лишь оттого, что не всем еще стали известны параметры того великого расчета, результатом которого будет заселение земного шара единым человечеством, — в корне добрым и в корне разумным, а потому и в корне себя обезопасившим».
Трусливому индивиду-бюргеру Юнгер противопоставляет тип — личность, идентифицирующую себя не индивидуальными отличиями, а признаками, лежащими за пределами единичного существования. Тип соответствует иному времени — времени борьбы: «Изменилось и лицо, которое смотрит на наблюдателя из-под стальной каски или защитного шлема. В гамме его выражений, наблюдать которые можно, к примеру, во время сбора или на групповых портретах, стало меньше многообразия, а с ним и индивидуальности, но больше четкости и определенности единичного облика. В нем появилось больше металла, оно словно покрыто гальванической пленкой, строение костей проступает четко, черты просты и напряжены. Взгляд спокоен и неподвижен, приучен смотреть на предметы в ситуациях, требующих высокой скорости схватывания. Таково лицо расы, которая начинает развиваться при особых требованиях со стороны нового ландшафта и которая представлена единичным человеком не как личностью или индивидом, а как типом».
Новый образ мира, который в течение ХХ века лишь утратил наиболее яркие видимые элементы, показывал не размывание противоположностей, а обострение их непримиримости. Террор чеченских боевиков в России и теракты арабских смертников в США — яркий тому пример.
Необходимо почувствовать тотальность войны и новых ее методов. Тот же Юнгер с его концепцией тотальной мобилизации прекрасно понимал, что война затрагивает всех — даже тех, кто стремится обособиться от нее, быть непричастным и невинным. Тот, кто пытается ускользнуть от войны, превращается из способного к самообороне бойца в добычу смерти — из воителя в жертву, которая даже не в силах понять причины и источника своей муки или гибели.
Юнгер, подобно Карлу Шмитту, видел в политизации всех сторон жизни обострение противоречий, которые доходят до применения новых видов оружия. Прежде всего тех, которые направлены не на уничтожение отдельного солдата — пусть и в огромном количестве — а на создание целых «зон уничтожения». Высшей фазой развития этого типа оружия в конце ХХ века оказались вовсе не ядерные арсеналы, а информационные методы уничтожения противника как противостоящего типа.
Юнгер в заключительном фрагменте «Тотальной мобилизации» пишет, что возникли методы принуждения, более сильные, чем пытки: «…они настолько сильны, что человек встречают их ликованием. За каждым выходом, ознаменованным символами счастья, его подстерегают боль и смерть. Пусть радуется тот, кто во всеоружии вступает в эти места».
Образ врага является неотъемлемым элементом политической практики и политической теории (шире — политической культуры), обусловленным неустранимостью определенных биологических и социальных механизмов, постоянно действующих в человеческих сообществах. Сознательное размывание «образа врага» может свидетельствовать только о применении стратегии разрушения защитных механизмов определенного сообщества и обеспечения преимуществ других сообществ, «естественное» следование тем же путем означает утрату политической субъектности.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |