"Два актера на одну роль" - читать интересную книгу автора (Готье Теофиль)
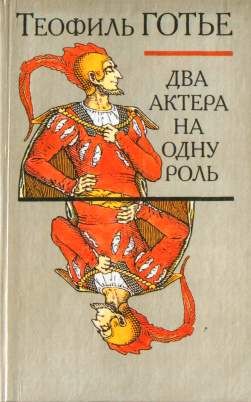 |
Теофиль Готье Два актера на одну роль
С. Зенкин Серьезность легкомыслия (О прозе Теофиля Готье)
Мир человеческой жизни и мир художественного творчества, будь он даже самым условным и причудливым, не составляют двух далеких друг от друга сфер. Подтверждение тому нередкие случаи, когда биографические, реально-житейские обстоятельства писателя или художника вдруг располагаются — иногда преднамеренно с его стороны, а иногда и самопроизвольно, что еще интереснее, — в том самом смысловом пространстве, в тех самых ценностных координатах, которые заданы в его произведениях. Объективные законы жизни смыкаются при этом с субъективными законами воображения.
В жизни Теофиля Готье (1811–1872) было два поворотных момента, связанных с
Однако этому воспрепятствовала другая часть публики — восторженная, упивавшаяся романтическими новинками молодежь, которая каждый вечер дружно поддерживала спектакль своими овациями; в зрительном зале то и дело вспыхивали настоящие схватки «классиков» и «романтиков». Благодаря такому накалу эмоций премьера «Эрнани» вошла в легенду, и одним из главных героев этой легенды как раз и оказался начинающий живописец Теофиль Готье, предводитель «группы поддержки» боготворимого им Гюго. Подобно тому как в самой драме «классиков» более всего скандализировали нарушения правил стихосложения, участие Готье в битве за «Эрнани» более всего запомнилось современникам внешней деталью — экзотическим одеянием юного воителя. Отправляясь на битву, Готье нарядился в красный (или розовый — теперь уже не установишь точно) жилет, сшитый по образцу средневековых камзолов, — то есть в маскарадный костюм, напоминавший об обожаемом романтиками средневековье. Причем в костюме этом он появился не на улице, не на бале-маскараде, а именно в театре во время спектакля; в его лице театральность как бы перешагнула рампу, со сцены переметнулась в зрительный зал.[1] В историю французской культуры Теофиль Готье вступил, таким образом, как участник театрального действа, как исполнитель условной маскарадной роли.
Второе событие, связавшее его судьбу с театром, произошло в 1836 году, когда молодого, но уже составившего себе литературное имя романтика пригласил для постоянного сотрудничества издатель крупнейшей коммерческой газеты тех лет «Пресс» Эмиль де Жирарден. Готье, быть может, предпочел бы рецензировать в газете новинки литературы или живописи, к которой он — несостоявшийся художник, ставший писателем, — всегда питал особое пристрастие. Однако получилось иначе, и вести ему пришлось театральную рубрику. С тех пор долгие годы он исправно тянул свою лямку театрального обозревателя (сперва в «Пресс», позднее в газете «Монитер»), что обязывало его изо дня в день посещать любые новые представления — от трагедий до цирка, от оперы до собачьих боев — и детально излагать их содержание в своих «фельетонах». Готье много раз жаловался, как тяготит его эта неблагодарная работа, но отказаться от нее никогда не пытался, до тех пор, пока его силы не подорвала смертельная болезнь сердца. Думается, что эта странная привязанность писателя к угнетавшей его газетной поденщине объяснялась не просто гарантиями постоянного и солидного заработка. Пристрастие Теофиля Готье к театру было более глубоким.[2] В известном смысле он
Эта его непринужденно-ироническая манера нравилась современникам, но впоследствии не раз вызывала нарекания. «Он не был способен к богохульству, так как не был способен к богопочитанию. Всегда и во всем его отличает легкомыслие», — с укором писал, например, Генри Джеймс.[3]«Легкомыслие» — действительно весьма точная характеристика творчества Теофиля Готье; но американский писатель был не прав, вкладывая в нее однозначно отрицательный смысл. Легковесная поза фельетониста по большей части уберегала Готье от постоянно грозившей ему опасности впасть в добропорядочно-положительный буржуазный конформизм; на такой невесомой опоре он строил свое неутилитарное «искусство для искусства». По-своему он следовал принципу романтической иронии, свободы от каких-либо наперед заданных идеологических построений, когда человек с насмешливой отстраненностью принимает даже свои собственные, самые заветные убеждения, не давая им закоснеть в догматизме, вновь и вновь погружая их в живительную стихию творческой игры. «Легковесность» неотделима от «легкости», а это качество в высшей степени присуще творческой личности Готье. Этот грузный, внушительного вида бородач был удивительно легок на подъем (изъездил весь Старый Свет, от Испании до Египта, от Лондона до Нижнего Новгорода), и рука у него тоже «легкая», несмотря на тяжеловесность и громоздкость его излюбленных живописных «картин». Превосходный стилист, он совершенно не знал мучительной работы над словом, писал всегда сразу набело, без черновиков и помарок — случалось, даже прямо в типографии, где каждый исписанный им листок тут же передавали наборщику. В разговоре с Гонкурами он как-то сказал: «Я швыряю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они упадут на лапы».[4]
«Легковесность» Готье совсем не бессодержательна. Иронически безответственная на первый взгляд манера органично выражала у него грезы романтика-энтузиаста, а вместе с тем и препятствия, мешавшие реализации этих эстетических утопий.
Итак, в жизни Теофиля Готье театр предстал в двух обликах: с одной стороны, как бесшабашный маскарад, перехлестывающий любые рамки и рампы «хэппенинг» под названием «битва за „Эрнани“», навсегда оставшийся праздничным воспоминанием в душе писателя; с другой стороны, как однообразная череда реальных — по большей части вульгарных или нелепых — спектаклей, посещаемых по долгу службы почтенным театральным критиком, но вместе с тем странно отвечающих каким-то скрытым потребностям его духа. Такой же двойственностью отмечен и художественный образ театра в прозе Готье. Оставим в стороне произведения (новеллы «Даниэль Жовар, или Обращение классика», «Аррия Марцелла», повесть «Без вины виноват»), в которых театр выполняет лишь второстепенную функцию в сюжете, служит местом светских собраний, где люди встречаются, знакомятся, назначают свидания. Есть иные произведения, где он располагается в самом центре художественного мира, действует как самостоятельная сила, формирующая судьбы героев. Так, в романе «Мадемуазель де Мопен» (1835) писатель высказывает и даже отчасти воплощает в реальность по ходу действия свой идеал «фантастического театра», всемирно-универсального, основанного на вольной импровизации и внутренне освобождающий своих «актеров» от постылых условностей общества и от косной предопределенности их собственных характеров. Однако такая утопическая мечта появилась в художественной прозе Готье всего однажды.
Гораздо чаще здесь встречается не «фантастический», а более реальный театр, который не отождествляется с жизнью, а взаимодействует с нею, будучи от нее отграничен.
Герой новеллы «Два актера на одну роль», немецкий студент Генрих, увлекшийся игрой на подмостках, в своей любви к театру сближается с самим автором. Оба они выше всего ценят в лицедействе возможность для человека умножить свою личность, вырваться за рамки своей жизненной однозначности. «…Мне хочется жить в творениях поэтов, мне кажется, у меня двадцать судеб, — признается Генрих. — Каждая новая роль дарит мне новую жизнь; я испытываю все страсти, какие изображаю; я Гамлет, Отелло, Карл Моор…» Есть, впрочем, разница между вольной игрой условными масками, о которой мечтал Готье, говоря о «фантастическом театре», и самоотождествлением актера с ролью, свойственным его герою. Если актер-иронист возвышается над своей маской, то страстный актер Генрих скорее одержим, порабощен исполняемой им ролью; и когда во время одного из спектаклей на сцене появляется дьявол собственной персоной, чтобы сыграть вместо Генриха роль Мефистофеля, то это всего лишь парадоксальный вывод из того самого принципа слияния актера с персонажем — наилучшим исполнителем закономерно окажется само лицо, которое следует представить. Хотя на сцене изображенного в новелле театра и случаются сверхъестественные события, он бесконечно далек от идеально прозрачного «фантастического театра». Он резко отделен от жизни: в жизни господствует устойчивый, положительный быт немецких бюргеров, на сцене же разыгрывается дьяблерия, бесовское действо, на которое «жизнь» со страхом взирает глазами невесты Генриха (противопоставление усилено еще и тем, что Генрих — студент-теолог, будущий пастор, служитель Бога, тогда как на сцене он играет черта). Такой театр — не просветляющее начало жизни, а сфера действия темных, враждебных человеку сил. Бросается в глаза и сакральная природа этих сил — актерская игра оборачивается магическим обрядом, изобразить на сцене злого духа значит призвать, накликать его.
Готье живо ощущал, а порой и прямо показывал в своем творчестве архаические корни театральных зрелищ. Особенно восхищало его одно специфическое зрелище, имеющее отчетливо ритуальную, тотемистическую основу, — бой быков. Впервые увидев корриду во время путешествия в Испанию в 1840 году, писатель навсегда остался поражен этим спектаклем, заставившим его испытать, как говорится в его путевых заметках, «самые сильные драматические переживания в жизни». В другом очерке он писал о сходстве между боем быков и театром: «Сюжет — жизнь и смерть; драматический интерес в том, чтобы узнать, кто будет убит — человек или свирепое животное; пьеса неизменно делится на три акта, которые можно озаглавить „пика“, „бандерилья“ и „шпага“…» Вместе с тем тавромахия (бой быков) непосредственно восходит к ритуалу жертвоприношения, торжественного убийства животного-тотема, когда и бык, и поражающий его тореадор оба осенены магической силой, оба по-своему сакральны.
В прямых высказываниях писателя есть только глухие, невнятные намеки на сей счет, но, не учитывая подобных представлений, нельзя правильно понять, например, его повесть «Милитона», которая начинается и заканчивается сценами испанской корриды. В финальном эпизоде неистовый и буйный тореадор Хуанчо, потерпев поражение в борьбе за любовь красавицы Милитоны, во время очередного боя совершает самоубийство — на глазах у своей возлюбленной подставляет грудь под удар бычьего рога. Реакция молодой женщины, до того не раз уже выказывавшей к тореадору неприязненные чувства, неожиданна: «Милитона откинулась на спинку кресла бледная как смерть. В эту страшную минуту она почувствовала любовь к Хуанчо!»
Что произошло? Можно, конечно, заподозрить, что в глубине души Милитона давно уже любила пугавшего ее своей дикой страстью тореадора и осознала это лишь при виде его гибели; можно предположить, что она, став благодаря замужеству богатой сеньорой, втайне сожалеет о простонародной среде, из которой вышла, и это чувство вдруг выплеснулось во время такого традиционно народного зрелища, как бой быков. Ничто не противоречит этим объяснениям; и все же в них не принята в расчет зрелищность всей сцены. Как человек, как характер Хуанчо не изменился: Милитона и раньше была свидетелем его мужественного поведения и на арене, и в жизни, но это не вызывало в ней любви к нему. Если на сей раз она, уже решительно отдав предпочтение его сопернику, благородному и храброму дону Андресу, вдруг ощутила по отношению к тореадору нечто большее, чем обычные «зрительские» чувства ужаса и сострадания, то это связано с внезапно обнажившимся сакральным характером самого зрелища. Жрец и жертва поменялись ролями, Хуанчо публично принес себя в жертву — не только в моральном, но и в буквально-обрядовом смысле слова — своей неприступной возлюбленной, и тем самым на него снизошла магическая сила, искупая его человеческие недостатки и вызывая к нему любовь. В обычной жизненной обстановке его самоубийство было бы лишь актом отчаяния — на сцене ритуального зрелища оно придает человеку мрачное сверхъестественное обаяние. Подобно «фантастическому театру» иронической импровизации, театр кровавых жертвоприношений тоже возвышает своего актера, правда, возвышает под знаком смерти.
Можно сказать, что такой жестокий театр, схожий с гладиаторскими боями (Хуанчо, кстати, в одном из эпизодов прямо назван «гладиатором»), который, по слову русского поэта, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез», — такой театр служит символом реального мира, препятствующего свободному самовыражению личности, подчиняющего ее жестко заданным «сюжетам» и «амплуа». А поскольку «фантастический театр» с его артистической свободой перевоплощений остается неосуществимой утопией, то человек в художественном мире Готье вынужден бежать с арены жертвоприношений, укрываясь от их кровавой развязки в уединенном, интимно-огражденном пространстве
В произведениях Готье множество раз встречается апология уютной домашней обители, где вольно чувствуют себя поэзия и искренность души. Вот как, например, рассуждают об этом в новелле «Эта и та»: «Погляди-ка, в этих стенах протекли лучшие годы твоей жизни; тут тебя посещали самые прекрасные мечты, самые яркие виденья. Ты уже издавна свыкся, сжился со всеми потаенными уголками, твои бока отменно приспособились ко всем их выступам, и ты, как улитка, уютно устроился в своей раковине. Эти стены знают, любят тебя и повторяют твой голос, твои шаги вернее, чем голос и шаги других; все вещи созданы для тебя, а ты создан для них… Дом — это тело, а ты его душа, и ты одухотворяешь его; ты средоточие этого микрокосмоса…» Ирония, которой окрашена эта риторика, не должна вводить в заблуждение — писатель устами одного из персонажей действительно «объясняется в любви» к Дому, противопоставляя его неистинному порядку жизни в мире-театре, где главный герой той же новеллы натужно разыгрывает нелепую комедию роковой страсти.
Дом и Театр находятся в конфликте, их соприкосновение чревато разрушительными коллизиями. Таков загородный дворец, где происходит действие последней новеллы Готье «Мадемуазель Дафна де Монбриан»: этот Театр, маскирующийся под Дом, «походил на театральную декорацию, только не нарисованную на холсте, но изваянную из камня, — декорацию, которой деревья служили кулисами. Все здесь преследовало одну цель — создать зрелище эффектное и хорошо вписывающееся в окружающее пространство…» Этим беглым указанием на фальшивость обстановки предварены жуткие, в готическом духе приключения, которые переживает во дворце герой новеллы, сброшенный в тайный подземный колодец…
Еще сильнее ощущение
Прочность Дома измеряется его огражденностью от внешних вторжений, от губительного начала Театра. В новелле «Эта и та» такая огражденность прямо декларируется в процитированной выше тираде персонажа-резонера; в повторяющей ее сюжетно, а кое-где и текстуально[5] новелле «Золотое руно» уже подробно живописуется скромный и уютный домик, где в целомудренном уединении, вдвоем со старой служанкой, живет юная героиня-фламандка. В «Двух актерах на одну роль» инфернальным опасностям сцены, которым безрассудно подвергает себя Генрих, противостоит опять-таки уютный бюргерский домик, о котором мечтает (в финале мечта эта счастливо сбывается) его невеста Кати. Та же структура и в «Милитоне»: на одном полюсе художественного пространства располагается арена для боя быков, где совершает свои жестокие подвиги Хуанчо, на другом полюсе — бедная девическая комнатка Милитоны; обуреваемый страстями Хуанчо порой вторгается в нее, но, едва переступив порог, сразу как-то теряет силу духа, подчиняясь воле хрупкой девушки, которой служит поддержкой магическое могущество Дома.
Итак, Дом защищен от
Первый, комический вариант посрамления страсти осуществлен в новелле «Эта и та», герой которой, правоверный романтик Родольф, в один прекрасный день решил, что «ему необходимо пылко влюбиться, и страсть у него будет не меркантильная и буржуазная, а артистическая, вулканическая, бурная, и только она придаст завершенность всему его облику и позволит приобрести надлежащее положение в свете». В самом этом замысле уже запрограммирована его неудача: ведь страсть понадобилась герою исключительно напоказ, чтобы придать «завершенность всему его облику» и обеспечить ему «надлежащее положение в свете». Но даже такая пародийная, игрушечная страсть, низведенная до модной безделушки, не может реализоваться в прозаическом буржуазном Париже. Тщетно Родольф изощряется в романтическом чудачестве — планирует поджечь дом своей любовницы, доносит сам на себя ее мужу, ждет жестокой мести с его стороны и даже сам пытается утопиться в Сене, — несмотря на все его усилия, дело фатально сводится к банальному адюльтеру, с его непременными фарсовыми персонажами: скучающей распутной бабенкой и ее глупо-самонадеянным супругом. Надев маску страстного любовника, Родольф невольно оказался действующим лицом традиционной комедии масок, в которой нет ничего «романтического».
Второй, трагический вариант критики страсти развернут в «Милитоне». Для тореадора Хуанчо страсть — не внешняя маска, а самая суть его личности; да и действие происходит не в скучно-благоустроенной Франции, где романтические чувства возможны только «понарошку», в качестве литературной игры, а в Испании, которая еще не до конца нивелирована буржуазной цивилизацией и сохраняет в сознании своего народа традиционные понятия о любви и чести. Любовь Хуанчо к Милитоне — не наигранная «артистическая, вулканическая, бурная» страсть парижского щеголя Родольфа, а действительно сильное и искреннее чувство, которому автор отнюдь не отказывает в уважении. Однако же это чувство последовательно описывается с помощью расхожих, подчеркнуто условных литературных приемов. Во внешности и поведении Хуанчо прослеживаются чуть ли не все байронические клише, служившие для показа страсти: смертельная бледность на смуглом лице, дикие жесты, вспышки безумной ярости и необоримой силы, перемежающиеся припадками слабости, и т. д. Подобно страсти Родольфа страсть Хуанчо на свой лад также «литературна» и оттого также обречена на поражение. Эта темная, неистовая одержимость, тупое стремление к обладанию вызывают ужас у Милитоны и в конечном итоге ведут к разрушению личности самого Хуанчо. Характерно, что его преследуют роковые неудачи, над ним словно смеется судьба: устранив, казалось бы, своего соперника дона Андреса, поразив его ножом на поединке, он фактически лишь способствовал его знакомству и сближению с Милитоной — раненый Андрес попадает в ее комнату, где она его выхаживает… Фатальные силы, сокрушающие любовь Хуанчо, осуществляют высший закон художественного мира Готье, в котором страсть в противоположность романтическим представлениям уже не составляет положительной ценности.
В поэме Пушкина, также на свой лад развенчивавшего романтический культ неистовой страсти, старый цыган говорит байроническому герою Алеко: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское — шутя». Любящие «горестно и трудно» терпят моральное поражение и в художественном мире Готье; что же касается умения любить «шутя», то у французского писателя оно связывается не с женской психологией, а с особым типом героя — легкомысленно-беспечного энтузиаста, который благодаря этому своему легкомыслию сближается с самим автором. В «Милитоне» таков дон Андрес дель Сальседо, богатый и образованный молодой испанец, владеющий всеми навыками британского джентльмена (англичанин в глазах Готье — постоянное олицетворение буржуазного прозаизма, «типичный представитель» безликой промышленной цивилизации XIX века), но внутренне тяготящийся этим и чувствующий себя более непринужденно в «романтичной», ярко национальной обстановке, на корриде, в живописной традиционной одежде простого народа. Его любовь к Милитоне поначалу развивается как легкая галантная игра, последнее похождение холостяка перед близкой женитьбой; но ради этого приключения он готов, пусть хотя бы на время, отрешиться от своей привычной среды и приобщиться к среде народной, из мира прозы шагнуть в мир поэзии — и благодаря такой внутренней
Еще дальше устремляются в поисках любви герои таких фантастических новелл Готье, как «Ножка мумии» или «Аррия Марцелла», — не просто в чужую социальную и культурную среду, но в давно ушедшую эпоху, в мир древней цивилизации.
В беседе с Гонкурами Готье говорил о двух видах экзотизма в искусстве: «Первый — это вкус к экзотике места: вас влечет Америка, Индия, желтые, зеленые женщины и так далее. Второй — самый утонченный, развращенность высшего порядка, — это вкус к экзотике времени. Вот, например, Флобер хотел бы обладать женщинами Карфагена, вы жаждете госпожу Парабер, а меня ничто так не возбуждает, как мумия…»[6] Этот эротический «экзотизм времени», или, как говорил Готье в другом месте, «ретроспективная любовь», встречается во многих его произведениях, а конкретный мотив любви к мумии — в «Романе о мумии» (1858) и в более ранней, как бы предваряющей его новелле «Ножка мумии».
Новелла содержит в себе очевидную перекличку с «Шагреневой кожей» Бальзака: герой, очутившись в лавке древностей (описание лавки и ее хозяина в ряде черт также совпадает с бальзаковским), приобретает там магический предмет, который играет решающую роль в его дальнейшей судьбе. Однако каждому свое: чудодейственный талисман, доставшийся бальзаковскому Рафаэлю де Валантену или же безымянному рассказчику новеллы Готье, соответствует характеру каждого из них, а также художественной ситуации. Рафаэль де Валантен, как и большинство других героев Бальзака, — человек страсти, на страницах книги он появляется в смятении духа, измученный несчастной любовью и готовый покончить жизнь самоубийством; герой «Ножки мумии» — праздно прогуливающийся литератор, его благополучию и душевному спокойствию ничто не угрожает. Оттого и участь их постигает различная: у Бальзака герой обретает магическое всемогущество, расплачиваясь за него скорой и неотвратимой гибелью, а у Готье — переживает любовное приключение с чудесно воскресшей древнеегипетской царевной, ради которой он, впрочем, готов покинуть привычную обстановку и пуститься в путь, в мир египетской цивилизации. Чары волшебства, рассеявшись в последний момент и обернувшись как будто простым сновидением, вызывают у него всего лишь легкое сожаление о насильственно прерванной метаморфозе.
Герой новеллы «Аррия Марцелла» Октавиан, с которым приключилась сходная история, переживает ее более серьезно. Воспоминание об античной красавице Аррии Марцелле, явившейся ему на развалинах Помпей, глубоко уязвило его душу, и чувство невозвратимой утраты терзает его даже после благополучной женитьбы «на прелестной юной англичанке, которая от него без ума». Дело в том, что Октавиан, в отличие от героя «Ножки мумии», приобщился не просто к древней культуре, но и к миру идеального, где любовное чувство способно отменить смерть, воскресить женщину, погибшую много веков назад со своим городом. «Действительно, умираешь лишь тогда, когда тебя перестают любить, — говорит Октавиану ожившая Аррия Марцелла; — твое вожделение вернуло мне жизнь, властные заклинания, рвавшиеся из твоего сердца, свели на нет разделявшую нас даль». Об этой магической силе любви, открывающей живому человеку доступ в загробный мир, не подозревает добродетельно-безликая супруга героя новеллы, а вместе с нею и вся англизированная, чуждая всего идеального цивилизация. В художественном мире Готье «слабая», «легковесная» любовь энтузиаста, способного отречься от своей личности и броситься очертя голову в неведомые миры, в конечном счете сильнее, чем самая могучая, самая неукротимая земная страсть. Она сильна своим духовным, идеальным началом.
В новеллах «Ножка мумии» и «Аррия Марцелла» присутствует один повторяющийся сюжетный элемент — персонаж, воплощающий собой
Эти метаморфозы, как правило, представляют собой попытки взросления, возмужания, перехода героя в совершеннолетнее состояние. Лишь очень редко такая попытка бывает успешной, — например, у барона Де Сигоньяка (роман «Капитан Фракасс»), сумевшего с честью пройти через все испытания и показать себя мужественным, рыцарственным человеком. Чаще на взрослом поприще героя подстерегает неудача. В «Ножке мумии» и «Аррии Марцелле» хрупкое любовное блаженство бессильно против суровых слов Отца; в «Двух актерах на одну роль» в качестве такого Отца выступает дьявол, и герой новеллы, осмелившийся было кощунственно ему подражать, сразу затем в страхе оставляет опасные театральные подмостки, на которых думал стяжать себе славу. Ничего не вышло и из попытки взросления Родольфа («Эта и та»); начавшись с того, что герою исполняется двадцать один год (возраст совершеннолетия по французским законам), новелла завершается смиренным возвращением этого незадачливого бунтаря и обольстителя под домашний кров, под присмотр своего друга и служанки, воплощающих родительское здравомыслие и заботу.
Невозможность желанной метаморфозы иногда знаменуется в произведениях Готье прямым разрушением личностного единства героя — вместо перехода в другое состояние у него появляется двойник. Так, в «Двух актерах на одну роль» дьявол выходит на сцену в обличье псевдо-Генриха, а в «Двойственном рыцаре» невидимый двойник постоянно преследует героя и даже в конце концов схватывается с ним в поединке. В данном случае, правда, дело кончается счастливо, но писателю пришлось для этого резко повысить меру условности — и усиленно стилизовать новеллу в духе скандинавской легенды (кстати, «Два актера на одну роль», где конец также благополучный, тоже стилизованы — «под Гофмана»), и присовокупить к ней благочестивую «мораль», сообщающую всей истории поучительный аллегорический смысл. Подчеркнутая, стилизующая условность служит своего рода заклятием: автор говорит «чур» фатальным силам, порожденным законами его же собственного воображения, — силам, которые грозят неотвратимой опасностью герою и с которыми нелегко совладать даже авторской воле.
Чтобы лучше разобраться в содержании неудачных метаморфоз, претерпеваемых героями Готье, рассмотрим чуть подробнее самую первую из его новелл, посвященных этой теме, — «Даниэль Жовар, или Обращение классика».
Как видно из ее заглавия, метаморфоза осмысляется здесь в качестве «обращения в романтическую веру», отсылая к памятным «битвам классиков и романтиков» во Франции начала 30-х годов. Отрекшись от завещанных традицией классицистических норм, герой из бесцветного, «никакого» делается ярко характерным. Будучи «классиком», Даниэль Жовар не имел никаких приметных черт, его описание строилось в основном по принципу «ни то, ни се»: «Он не отличался ни безобразием, ни красотой, имел пару глаз и пару бровей над ними, посреди лица — нос, а пониже — рот и подбородок, два уха — не больше и не меньше — и волосы самого обыкновенного цвета. Скажи мы, что он хорошо, сложен, мы бы солгали; но и сказав, что он дурно сложен, мы бы погрешили против истины. Внешность у него была не своя собственная, а всеобщая: он олицетворял толпу, представлял собой типичное воплощение всего безличного, и принять его за кого-то другого было как нельзя легче». После «обращения» его внешность радикально меняется, теперь перед нами карикатурно броский облик «гения»: «…крохотное личико, несоразмерно большой лоб (видимо, в подражание молодому Виктору Гюго. —
Фабула новеллы восходит к распространенной во французском романе XVIII века схеме «антивоспитания», воспитания-развращения. По логике такого сюжета превращение Жовара из «классика» в «романтика» соответствует утрате невинности. Действительно, герой новеллы утрачивает свою наивно-«классическую» добродетель под влиянием «литературного» щеголя Фердинанда, который, сам предаваясь утехам плоти, между делом наставляет юного Даниэля в модном романтическом «пороке», каковым он объявляет… литературное творчество: «Нас и потаскух кормит публика, и ремесло наше имеет много общего. Наша общая цель — выкачивать из публики деньги, всячески ее улещивая и соблазняя; есть ведь и стыдливые распутники, которых нужно завлечь, они раз двадцать пройдут мимо двери в непотребное место, не решаясь войти; нужно дернуть их за рукав и сказать: войдите!..» Однако «совращение» Жовара состоялось только в «литературном», условно-эстетическом смысле; если в романе «антивоспитания» за совращением героя следовали его любовные похождения, то в устремлениях Даниэля, рвущегося к славе и стремящегося завоевать внимание окружающих («посмотрите на него, пожалуйста!»), эротический момент совершенно отсутствует. Собственно, в этом одна из причин его комичности: Даниэль Жовар существо бесполое, и его яркая метаморфоза — всего лишь переодевание деревянной куклы. Но Жовар сам по себе не так здесь и важен: настоящее преображение переживает в новелле не он, а
Но время шло, и период «бури и натиска» французского романтизма быстро отступал в прошлое. В 40-е годы, в новелле «Листки из дневника художника-недоучки» Готье вернулся к сюжету «Даниэля Жовара»: искушение искусством, яркими красками Рубенса уподобляется чувственному соблазну и восстанию против учительской (отеческой) власти, — но это восстание «художника-недоучки», застигнутого на месте преступления, быстро заканчивается его капитуляцией перед блюстителями классического благообразия. Тогда же, в повести «Без вины виноват», писатель вновь обратился и к сюжету об «антивоспитании», но уже не связывая его со становлением новой культуры. Как в средневековой мистерии, в повести за душу главного героя — Дальберга — борются добрые и злые, истинные и ложные наставники. Интриган и авантюрист Рудольф Гюбнер совместно с модной куртизанкой Аминой[7] пытаются втянуть юношу в разврат, чтобы, скомпрометировав его, отнять у него богатую невесту; их козням противостоит современная добрая фея — прекрасная и самоотверженная Флоранса, которая не только выручает Дальберга из всех ловушек, не только втайне налаживает его расстроенные денежные дела, но и внушает ему правильные понятия буржуазной морали и «перевоспитанным» возвращает невесте — своей подруге детства. Вместо суровой отеческой власти — благодетельная материнская… Откровенный буржуазный конформизм, утверждаемый в повести, резко контрастирует с романтическим бунтарством раннего Готье и показывает, сколь скудны результаты воспитания, если оно происходит даже при участии романтической героини (Флорансы), но в обществе, где больше не имеют хождения романтические ценности. Недостает чувства исторического обновления, недостает
Дальберг оказался в ситуации мифологического героя Париса, которому пришлось выбирать красивейшую из трех явившихся ему богинь. Такая чуть комичная, характерно инфантильная ситуация равной любви к нескольким женщинам сразу постоянно повторяется в прозе Готье: и в «Этой и той», и в аналогичной по заголовку новелле «Которая из двух?». Если в первом случае герой все же сумел в финале выбрать между блестящей и фальшивой г-жой де М*** и нежной служанкой Мариеттой, то во втором сделать такой выбор для героя решительно невозможно: две очаровательные сестрицы-англичанки, в которых он одновременно влюблен (Англия вновь символизирует усредненно-безличную, «никакую» культуру), ничем принципиально не отличаются друг от друга, и тут уж впору не выбирать, а платонически обожать абстрактную идею, «обольстительный призрак — плод единения двух прекрасных девушек»… Подобное «единение» удалось осуществить наяву благодаря волшебным чарам герою другого произведения Готье, стилизованной арабской сказки «Тысяча вторая ночь»: любимые им принцесса и служанка в конце концов сливаются в фигуре прекрасной пери, попеременно принимающей два разных облика. В тех же случаях, где у писателя нет этой ситуации колебания между «этой» и «той», там бушуют темные и губительные страсти. Андрес дель Сальседо, отвергнув свою скучную буржуазную невесту, отдает предпочтение простой девушке Милитоне, встреченной на корриде; у его соперника Хуанчо такого любовного выбора нет, все его чувства устремлены в одну точку, но таков уж художественный мир писателя, что постоянство в любви равняется здесь духовной косности и кончается катастрофой. Герой новеллы «Ночь, дарованная Клеопатрой», в отличие от Хуанчо, не только страстный любовник, но и искатель идеала; однако и его любовь не знает альтернатив, поглощена одним-единственным предметом — равнодушной и безжалостной царицей смерти Клеопатрой. И даже когда подобный сюжет пародируется в «Мадемуазель Дафне де Монбриан» — вместо прекрасной и властительной древней царицы здесь просто модная кокотка, завлекающая в губительные сети молодого итальянского князя, — пародия лишь внешним образом снимает остроту ситуации, внутренне она не изжита. Положительно Теофиль Готье не лукавил, когда признавался не раз, что в вопросах любовной морали он «турок»: в его творчестве идеалом всегда является более или менее откровенно выраженный восточный гарем, тогда как «европейская», моногамическая любовь, как правило, до добра не доводит…
Проблема эта не так легковесна, как может показаться, — вернее, у Готье сама «легковесность» заключает в себе существенный исторический смысл. На заре французского романтизма Шатобриан писал о «смутности», неопределенности страстей как специфической черте современного человека. Сам он видел в этом род нравственного недуга; поздний романтик Готье, подхватив его наблюдение, дал «смутности страстей» противоположную, положительную оценку. В нерешительности его героев, колеблющихся между «этой» и «той», сказывается ощущение относительности культурных ценностей, ибо герой Готье всегда живет не столько любовью как таковой, сколько
В эпоху романтизма в европейской культуре впервые сложилось представление о многообразии и богатстве культуры, складывающейся из множества различных исторических и национальных форм и традиций. Ни одна из этих традиций не может рассчитывать на привилегированное положение, освященное авторитетом религии: все религии тоже признаются формами культуры и, следовательно, равны между собой. Поздний романтик готов поклоняться всем богам и именно поэтому не может по-настоящему верить ни в одного из них; вспомним мысль Генри Джеймса, что Готье не был способен ни к богохульству, ни к богопочитанию. Его «легкомысленный» энтузиазм, стремление объять все многообразие культуры, восхититься любыми, самыми экзотическими ее творениями — позиция, конечно, уязвимая с точки зрения абстрактной морали. Стоящего на ней легко упрекнуть в эстетизме, в нежелании делать выбор, брать на себя ответственность за него, признавать что-либо священным и непреложным. Готье и его любимые герои хотят, оставаясь взрослыми, сохранить детскую широту восприятия, способность
 |
(support [a t] reallib.org)