"Невероятность современного мира" - читать интересную книгу автора (Павлова Н.)
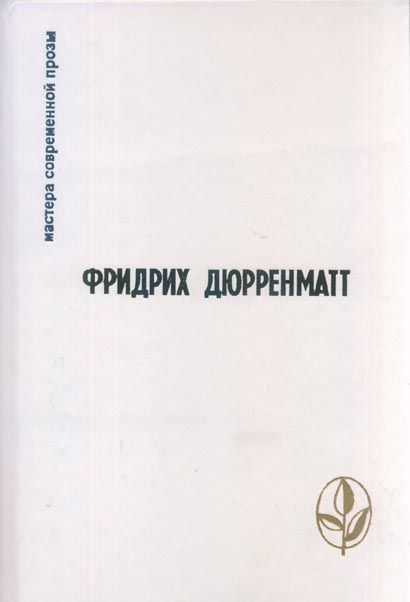 |
Н. Павлова Невероятность современного мира
Швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт давно завоевал широчайшую известность. Еще на пороге 60-х годов его пьесы «Ромул Великий», «Визит старой дамы», «Физики» обошли сцены мира. Переводился и ставился Дюрренматт и у нас. С увлечением воспринимались не только его драматургия, но и его проза — рассказ «Туннель», повести «Авария», «Грек ищет гречанку», детективные романы «Судья и его палач», «Подозрение», «Обещание». Сегодня Дюрренматт (в 1991 году он отметит свое семидесятилетие) — признанный классик швейцарской литературы. Он неохотно дает интервью, говорит погрузившись в себя, не спеша и как будто бы мало заботится об успехе.
Бывает, художественные произведения теряют со временем свою актуальность, перестают воздействовать на нового читателя. Этого нельзя сказать о творчестве Дюрренматта. Пожалуй, напротив: многие его мысли и образы действуют все сильнее. Реплика гениального физика из его пьесы: «Либо мы останемся в сумасшедшем доме, либо сумасшедшим домом станет мир», казавшаяся когда-то шутовским парадоксом, хоть сформулирована она была после взрыва над Хиросимой и Нагасаки, способна теперь затронуть каждого своим тяжелым реальным значением. Еще в 50-х годах Дюрренматт писал об опасном экологическом состоянии планеты. Он призывал политиков воспринять наконец мир как целое, думать об общей судьбе человечества (статья «Судьба людей», 1950). Но самое главное предостережение Дюрренматта не выражено в словах. Как у всякого большого художника, оно в самом строе его произведений, в том образе непрочной, подозрительной, зыбкой действительности, которую они создают.
Фридрих Дюрренматт родился в 1921 году в семье пастора одного из сельских приходов кантона Берн. Вокруг, по долинам, холмам и горам, были разбросаны деревни. В одной, неподалеку, жил в прошлом веке великий швейцарский писатель Иеремия Готхельф. Дюрренматту выпало родиться в деревне побольше. Тут был собственный «театральный зал», в котором среди прочего ставились произведения местного учителя. И вокзал, где ненадолго останавливались поезда, шедшие в отдаленный Люцерн и близкий Берн. Мир был замкнут в себе, жил по своим патриархальным законам. Мальчику виделось в нем много чудесного. Выступая в 1964 году в московском Институте мировой литературы имени Горького[1] перед большой аудиторией, Дюрренматт, не без хитрости ухмыляясь, вспоминал, каким привычным и частым впечатлением его детства была смерть: в приходе то и дело кого-то отпевали, кого-то хоронили, дети, как всюду по деревням, с любопытством смотрели, как забивают скот, — так объяснял он некоторые мрачные стороны своего творчества. Но над деревней поднимались горы, широко простиралось небо. Мальчик любил рисовать созвездия, названия которых узнал в школе. И слушать мать, пересказывавшую детям библейские истории, например историю о всемирном потопе.
В начале 40-х годов Дюрренматт занимался литературой и философией в Бернском и Цюрихском университетах, но увлекался и рисованием — второе его призвание, которому он верен до сих пор. В Цюрихе, а потом проходя под Женевой военную службу, Дюрренматт стал писать первые свои рассказы.
Это были годы второй мировой войны. Война бушевала у самых границ нейтральной Швейцарии. Швейцарцы жили тогда, вспоминал Дюрренматт, «среди зловещего спокойствия, как в центре тайфуна». Мирная жизнь нейтральной страны продолжала свое обычное течение. Затемнение в городах, шум пролетавших над швейцарской землей курсом на Северную Италию английских военных бомбардировщиков воспринимались как нечто стороннее, почти театральное. За исключением трудностей с продовольствием, все как будто бы оставалось по-прежнему. Но реальной была оккупация страны Гитлером.
Для Дюрренматта жизнь потеряла устойчивость не только по этой причине. «Я рос, — писал он о своем детстве и юности, — в мире христианского благочестия». Люди, тогда его окружавшие, были отнюдь не идеальными (от отца будущий писатель знал, например, о крестьянке, покаявшейся перед смертью в убийстве отца и матери). Но общий порядок еще казался незыблемым. Религия, нравственность, патриотизм, политика как будто не противоречили друг другу.
Этот-то упорядоченный мир и разбила для начинающего писателя вторая мировая война. Дюрренматт не был ее участником, не видел своими глазами злодеяний фашизма, не узнал страданий, испытанных миллионами. Но еще до начала войны он познакомился с эмигрантами из фашистской Германии, и наивное убеждение, что слухи о творящемся в гитлеровском рейхе — выдумка, рухнуло.
Раннее творчество Дюрренматта родилось из отчаяния и протеста. Все вокруг казалось прогнившим и лживым. Протест вызывала двойственность официальной швейцарской политики: как известно, нейтральная Швейцария, ставшая прибежищем для тысяч эмигрантов, пропускала в то же время немецкие поезда, шедшие через ее туннели в Италию; некоторые фирмы сотрудничали с Гитлером; на швейцарско-германской границе задерживались и возвращались обратно в рейх на погибель евреи-беженцы; многие антифашисты переходили границу нелегально. Но сомнения шли и глубже: сам человек казался тогда начинающему писателю неудавшимся созданием Творца. Потом он сравнивал свое тогдашнее состояние со студенческим бунтом конца 60-х годов. Он мог бы вспомнить и бунт молодых людей на поколение раньше, в первую мировую войну, когда его отражением стал важный для Дюрренматта как художественная традиция экспрессионизм, — содержанием бунта было и там, и тут голое отрицание.
В нашей книге произведения Дюрренматта расположены, как принято в серии «Мастера современной прозы», по жанрам. Сначала крупные формы — роман и пять повестей, потом рассказы. Уже это несколько нарушает хронологический порядок. Но есть и еще одно обстоятельство, мешающее уловить постепенное развитие Дюрренматта-прозаика: писатель постоянно возвращался к своим завершенным произведениям. Известно множество редакций почти каждой его пьесы — он переделывал их вновь и вновь, меняя текст и тогда, когда слышал его со сцены. Так же поступал он и со своей прозой: мотивы и образы не покидали создателя, они изменялись, росли вместе с автором. Опубликованные и неопубликованные его произведения остаются с ним, как живые его спутники. В 1981 году был опубликован рассказ «Бунтовщик». Но это сжатая запись романа, создававшегося «в уме» в 40-е годы. Повесть «Зимняя война в Тибете» вошла в опубликованные в 1981 году «Материалы»[2]. Но ей предшествуют несколько самостоятельных произведений — недописанный роман «Город» (1947), рассказ «Из записок охранника» (1980), с которыми повесть связана и мотивами, и даже прямыми совпадениями в тексте. И все-таки ранний Дюрренматт легко распознается. Его художественный мир строился тогда по иным законам, чем впоследствии.
Первые рассказы Дюрренматта — это причудливые, мрачные, фантастические картины. В 1942 году он написал, например, короткую прозу «Рождество», не включенную в настоящую книгу. В бескрайнем поле на снегу лежит младенец Христос, с головой, сделанной из марципана. Все вокруг недвижно, недвижен и младенец; если приподнять его веки, то можно увидеть под ними пустые глазницы. Проходившему человеку хотелось есть, и он откусил эту голову. Вряд ли стоит искать объяснение этой картине. В ней нет ничего, кроме пустоты, ужаса, неверия и нецеленаправленной ненависти.
В нашу книгу включен рассказ «Собака». Его персонажи ближе к реальности — старик проповедник, девушка, неотступный их спутник — пес. Но ситуация по-прежнему фантастична: страшный пес — воплощение темной, злой силы, — растерзав старика, исчез, а потом вновь появился в городе вместе с покорившейся ему девушкой.
Намеренная неопределенность, неясность причин и мотивов — все это роднит ранние опыты Дюрренматта с не раз возрождавшейся в XX веке традицией романтизма. «Начало повествования неопределенно, шатко, как будто рассказчик располагает лишь приблизительными данными о ранней молодости А.» — так начал Дюрренматт запись своего раннего замысла «Бунтовщика». В этом рассказе есть сходство со знаменитой новеллой австрийского неоромантика Гуго фон Гофмансталя «Сказка шестьсот семьдесят второй ночи», написанной на рубеже веков: на пути в неведомое героев и тут и там ждут таинственные совпадения, смутные догадки. Но в отличие от Гофмансталя Дюрренматт занят политическими проблемами. Он пишет о власти, терроре, насилии, бунте.
Уже в первых своих прозаических опытах Дюрренматт постоянно подчеркивает двойственность ситуации человека: он может стать и палачом и жертвой или — такой поворот еще более характерен — он палач, страж, охранник и жертва одновременно. Романтическая неопределенность сочетается с жестокостью современного искусства.
Одно из самых глубоких по замыслу и мощных по воплощению произведений раннего Дюрренматта — фрагмент неоконченного романа «Город». Опять прежде всего возникает образ, картина: Город, прекрасный издалека, но пугающий по приближении, Город с лежащими над ним ядовитыми туманами, с тротуарами, замкнутыми внутри аркад так, что приходится передвигаться, «согнувшись, внутри домов», где сидят неподвижно, не произнося ни слова, их обитатели. Неподвижность взрывается динамикой, так свойственной Дюрренматту впоследствии: толпа, к которой присоединяется молодой герой, движется во главе со стариком угольщиком на ненавистный Город с его таинственной Администрацией. Но столкновения не происходит, оно будто отодвигается в сторону: Город настолько уверен в своем могуществе, что посылает навстречу толпе, остановившейся перед мостом, одного сумасшедшего, размахивающего знаменем. Толпа наступает, мост, как живой, колеблется и стонет под ее тяжестью. Но крик помешанного обращает ее в бегство.
В ранней прозе Дюрренматта нет россыпи неожиданных подробностей, на которые так щедры его прославленные произведения. Его работа подобна пока работе художника-графика, тонкими, четкими линиями покрывающего белое поле неизведанного. Своей стилистикой «Город» напоминает немецкий экспрессионизм: те же резкость и эмоциональная напряженность, ту же абстрактность и одушевление неживой материи, тот же интерес к толпе, массе, нарисованной как единое, нечленимое целое. У Дюрренматта толпа появляется много раз, например в рассказе «Пилат» (1946).
Отношения героя с Городом напоминают бессильные попытки землемера К., героя романа Франца Кафки, во что бы то ни стало вступить за таинственно-запретную для него ограду Замка («Замок», 1926). У Дюрренматта молодой герой, появившись в конце концов в управлении Города, предлагает себя в услужение. Три отвратительные старухи, пожирающие за игрой в карты огромные торты (нарисованные, надо думать, не без памяти о шекспировских ведьмах из «Макбета»), определяют его судьбу. Дальнейшее повествование раскрывает двусмысленность намеченной ситуации: свою должность тюремного надзирателя герой должен исполнять, не отличаясь платьем и поведением от арестантов. В бесконечном коридоре тюремного подземелья он занимает выбитую в стене нишу. Не ясно, однако, за кого принимают его невидимые фигуры, сидящие в нишах напротив: за охранника? Или такого же арестанта? Кем считает его Город? И кто же он в конце концов на самом деле?
В «Городе» впервые разработан важнейший для Дюрренматта мотив «лабиринта», повторенный затем не только в повести «Зимняя война в Тибете», но и в рассказе «Туннель», в новелле «Поручение», в поэтической прозе «Минотавр».
Откуда появился этот мотив и что он для Дюрренматта значит?
В первом томе «Материалов» — записях воспоминаний, впечатлений и размышлений, которые в конце концов привели писателя к созданию «Города», а потом и повести «Зимняя война в Тибете», — этот мотив связывается и с «ходами» под склонившимися хлебами, где любили играть деревенские дети, и с особенностью столицы Швейцарии Берна, тротуары которого затенены аркадами. На первых страницах «Города» Берн с омывающей его высокую центральную часть рекой еще вполне узнаваем. В «Записках охранника» сходство уже неуловимо. Образ отступил к общему своему значению.
Жизнь наполняла давние впечатления все новым и новым содержанием.
Швейцарские горы рассечены туннелями. В одной из недавних статей Дюрренматт сетовал даже, что из страны пастухов Швейцария превращается в страну кротов. Но в годы войны туннели были основой оборонной стратегии: в случае нападения Гитлера швейцарская армия должна была отступить в горы, чтобы, укрывшись в ущельях и под землей, дать решительный отпор противнику. Не случайно уже в «Записках охранника» тюремное подземелье «военизируется», герой получает вместе со служебной формой каску и автомат, в переходах подземелья раздаются выстрелы. Провожатый приводит героя в большую пещеру, где к потолку подвешен за руки человек, а среди наваленного кругом оружия сидит офицер, бывший командир героя на последней войне. (Именно эта сцена перешла потом из «Записок охранника» в повесть «Зимняя война в Тибете».)
Нарисованная писателем зловещая пещера разительно не соответствовала патриотической идее сопротивления в горах, воодушевлявшей швейцарцев в годы угрозы гитлеровского нападения. У автора были собственные представления о патриотизме: «Патриотизм — это безумие», — написал он однажды. Ситуацию страны в те годы и в дальнейшем, как, заметим, забегая вперед, и ситуацию в мире, он расценивал гораздо скептичнее. В неприятии автором «мира отцов», в бунте героя против Города важным слагаемым было и настороженное отношение к швейцарской военной стратегии: ведь население, народ оставлялись в таком случае на произвол врага, а армия и, что особенно задевало Дюрренматта, «администрация Города» оказывались укрытыми в подземелье.
Начиная с «Города», Дюрренматт постоянно сталкивает своих читателей с расщепленностью значений и смыслов. Подземелье — спасение и укрытие, где человек может стать причастным к управлению Городом. Но оно же тюрьма, лабиринт, выход из которого невозможен. Человек внутри лабиринта — охранник, администрация, власть. Но он же заключенный, пленник, жертва. Каждый должен выбрать одну из возможностей и забыть, что имеет отношение ко второй. Почему болтается на веревке человек посреди пещеры? Он поплатился за то, отвечает на этот вопрос офицер, что отказался считать себя охранником. Кем же он в таком случае себя считает? Следует ответ: узником.
Если существует лабиринт, писал Дюрренматт, то должен быть и тот, кто в него заключен, — Минотавр. Всю свою жизнь он изображал минотавров на своих рисунках, создал, словно Пабло Пикассо, целый такой цикл. В его поэтической прозе 1985 года, так и озаглавленной «Минотавр», а в подзаголовке «Баллада», действует то же мифологическое существо с головой быка и телом человека, рожденное дочерью Солнечного бога Пасифаей, существо наивное и чистое, не сознающее своей силы, и дружелюбное, тыкающееся с полным непониманием в зеркальные стены лабиринта. Несмотря на трагическую развязку, это был счастливый Минотавр, не понимавший, что находится в заточении. Но в ранние годы, признается писатель, он был не в состоянии найти для существования в лабиринте хоть какие-то светлые краски — слишком переполняли его самого смятение, страх, отчаяние. Он сам чувствовал себя минотавром, загнанным в безысходность мира.
Следующая модификация образа лабиринта, замкнутого в себе пространства, подземного хода, была создана в рассказе «Туннель» (1952) — произведении мрачном и настораживающем. Но в этом коротком рассказе автор достиг и свободы по отношению к материалу, объективности, юмора.
Путь от Берна в Цюрих в железнодорожном вагоне занимает менее двух часов. Многие совершают его чуть ли не каждый день, проживая в одном месте, работая в другом. Ездил в оба конца по многу раз в неделю когда-то и сам Дюрренматт в бытность свою студентом в Цюрихе. Герой новеллы, тучный Двадцатичетырехлетний, — фигура, не без юмора уподобленная тяжеловесному уже в те годы автору. Есть между ними и более важное сходство — способность распознавать страшное.
От недавних прозаических произведений этот рассказ отличается достоверностью обстановки. Ни в чем никакой неопределенности. Пассажиры заняты обычными делами — читают, играют в шахматы. Называются всем известные остановки, которые должен миновать поезд. (Позднее, в романе «Правосудие», Дюрренматт с той же точностью перечислит названия цюрихских улиц — за передвижениями героев можно будет следить по плану города.) Поезд въезжает в короткий туннель. Но — тут-то и обнаруживается брешь в действительности — туннель не кончается, не кончается и через час, не кончается и потом…
Игровая площадка очерчена. В достоверность врывается фантасмагория. Все спокойны; самоуверенный турист-англичанин с наивным восторгом произносит: «Симплон!» И только один Двадцатичетырехлетний, заранее, будто в предчувствии ужасного, заткнувший уши ватой, «надевший поверх очков еще вторые, старавшийся закрыть те отверстия в своем теле, сквозь которые и проникает все чудовищное» (еще один вариант укрытия и убежища под пером пустившегося в безудержную игру автора), видит другую сторону происходящего: машинист давно спрыгнул, поезд мчится навстречу гибели с невероятной скоростью по никому не ведомому туннелю…
До «Туннеля» Дюрренматт написал несколько пьес, которые вскоре были поставлены. В них на, казалось бы, архисерьезном материале — в пьесе «Ибо сказано…» (1947) из истории анабаптистов-перекрещенцев, а потом в принесшей автору мировую известность комедии «Ромул Великий» (1949), где на сцене происходит смена исторических эпох (Римская империя рушится под напором варваров), — утвердился в правах неизменный у Дюрренматта в дальнейшем юмор. В юморе писатель видел выражение духовной свободы человека, поднявшегося над постигнутой им действительностью. Освободительную силу юмора мы могли почувствовать и в его прозе еще до «Туннеля» — в прелестной истории о газетах в древние, доисторические времена («Сведения о состоянии печати в каменном веке», 1949). Но юмор, блестящий и летучий, как всегда у Дюрренматта, не нес пока на себе той нагрузки, с которой он без труда, с той же видимой легкостью справлялся в дальнейшем. Это позже, в пьесе «Ромул Великий», автор поместил во дворце императора бюсты великих римлян «с преувеличенно строгими лицами», а перед входом в резиденцию должны были, согласно ремарке, копошиться куры. Все это не только смешно, не только пародийно по отношению к торжественности античных и классицистических трагедий, но выполняет и другую важнейшую для автора задачу. Смешные, неколебимо достоверные детали (что может быть реальнее живых кур на сцене!) самой своей юмористической неуместностью помогают начать расслоение жизни, намекают на неустойчивость видимого, колеблют одно, чтобы показать за ним нечто совсем другое. Пробуждается наша, читательская, способность распознавать страшное.
Входя в пестрый мир дюрренматтовской прозы, полезно, быть может, вспомнить для сравнении и сопоставлений не только некоторые его знаменитые пьесы, но представить себе хотя бы отчасти малоизвестную у нас публицистику.
В 1976 году появилась книга Дюрренматта «Соответствия». Конкретным поводом к ее написанию стало присвоение ему звания почетного доктора Беэр-шевского университета в Израиле. Текст в дальнейшем перерабатывался и расширялся, в конечном итоге в книге были высказаны идеи, существенные для представлений автора о современном мире.
«Соответствия»… Но речь гораздо чаще шла как раз о несоответствиях, о двоящемся лике современной жизни. Дюрренматт пишет о расхождении жизни и понятий, о разрыве между реальностью и мифом, утвердившимся в умах людей. Действительность и представления о ней далеко расходятся, особенно в нашем веке (вспомним, что первой реальностью для молодого писателя были эмигранты: в мир сложившихся представлений вторглась не соответствовавшая им действительность).
Совокупность пригнанных друг к другу понятий образует идеологию. Любая идеология, настаивал Дюрренматт, лишь в малой степени соответствует реальности и потому нуждается в постоянных с ней соотнесениях, корректировке. Застывшая идеология агрессивна. В защиту идеологий проливалось не меньше крови, чем ради захвата чужих земель.
В 1971 году Дюрренматт написал сатирическую повесть «Падение», возникшую из резко отрицательных впечатлений от пребывания у нас, на Четвертом съезде советских писателей (1967). Его поразила, вспоминал он впоследствии, абсолютная пустота и выхолощенность всего происходившего. Речь шла не о литературе и даже не о политике. Страна и литература будто исчезли, шло прославление правящей верхушки, иерархии чинов, людей, стоящих у власти и оторвавшихся даже от непосредственной своей задачи — управления государством. В повести Дюрренматта действующие лица обозначены номерами: № 1 — первое лицо страны, № 2 — второе и так далее в строгой последовательности. В полном вакууме, без грана живого воздуха, разворачивается борьба за власть и падение первого лица государства.
Дюрренматт неоднократно резко высказывался о нашей внутренней ситуации и внешней политике. Лишь в последние годы писатель с сочувствием следит за тем, что происходит у нас. В 1987 году он был на Московском форуме деятелей культуры «За безъядерный мир, за выживание человечества». В перестройке, как явствует из его высказываний, он видит возможность сближения далеко разошедшихся рядов — государственной политики и интересов народа. В удачной реализации этой возможности он, однако, далеко не уверен.
Дюрренматт неуживчив и неудобен. Но, истинный художник, он занят прежде всего не политическими проблемами, а той реальностью, с которой они в конечном итоге неразрывно связаны, хотя, кажется, от нее давно оторвались, — реальностью человека.
В статьях о театре Дюрренматт неоднократно писал об анонимности современной жизни. Вместо лица, воплощавшего в себе полноту власти (каким был, например, царь Креон в трагедии Софокла «Антигона»), перед сегодняшним человеком — безликая государственная машина. «Дело Антигоны решают секретари Креона». Произвол диктаторов привел к гибели миллионы. Однако вина не только на них, но и на всей государственной системе. Зло широко разлито. Стоя сегодня перед опасностью уничтожения, человечество не понимает, в сущности, как до этого дошло. «Ведь все происходит не так, как ожидаешь, господа, а постепенно и в то же время внезапно…» — говорится в сатирической комедии «Бидерман и поджигатели» другого крупнейшего швейцарского писателя, Макса Фриша.
Именно комедия, писал Дюрренматт в книге «Проблемы театра» (1954), способна показать гротескное лицо современного мира, именно она приоткрывает истину.
«Комедией в прозе» названа в подзаголовке и повесть «Грек ищет гречанку» (1955). В сущности, повесть построена по тем же законам, что и написанное Дюрренматтом для сцены. Четко разработана экспозиция. Как и положено в классической драматургии (Дюрренматт любит сохранять ироническую приверженность классике), друг другу противостоят две силы. Герой, грек Архилохос, — служащий машиностроительного концерна Пти-Пейзана, жалкий бедняк, закостеневший в верности принятым им правилам жизни. В сорок пять лет он не только не пьет, не курит, не знает женщин — он создал еще свою иерархию абсолютно нравственных личностей, портреты которых развешаны у него в каморке. На первом месте в этой системе — глава государства, следующие занимают президент фирмы, потом священник и так далее. Наслушавшись чужих советов, Архилохос решает жениться. Тут по газетному объявлению «Грек ищет гречанку» и является та, род занятий которой скрыт до поры до времени — во всяком случае, от самого героя. На сцене прекрасная женщина Хлоя.
Фигуры расставлены, разводка завершена. Дальше действие развивается «как выстрел» (так писал Дюрренматт о темпе своей драматургии).
Но мотором повествования являются, в сущности, не события. Развивается принятая автором фантастическая логика, согласно которой, как в сказке, можно все. Именно эта логика толкает вперед действие. Фантастичны, гротескны у Дюрренматта не только образы, фантастичен, движется по законам гротеска, отметая жизнеподобие, и сюжет.
Нравственность и доброта, как будто подтверждая свою жизнеспособность, торжествуют одну победу за другой. Честному герою воздается сверх всякой меры. Тяжелый и мрачный мир приобретает воздушность и легкость.
Но тут-то и дает себя знать другая, отрезвляющая логика. Картина, как в рассказе «Туннель», переворачивается. Герой узнает, кто на самом деле его невеста, и мир для него рушится.
Нет, повесть Дюрренматта до конца сохраняет блеск и легкость. Многочисленные содержатели и поклонники всеми силами стараются выдать Хлою замуж, но ситуация лишена той мучительности и надрыва, которые сопровождали в романе Достоевского намерение Тоцкого сбыть с рук Настасью Филипповну. Интерес для Дюрренматта в другом. На каждом шагу у него обнаруживаются двузначность, двусмысленность, то и дело работает прием, который можно назвать «перевертышами». Игра противоположных смыслов сжата подчас даже в отдельной фразе, в одном-единственном слове. Ведь Хлоей звали и другую гречанку — героиню буколического романа «Дафнис и Хлоя» писателя Лонга, жившего во II–III веках н. э. То была невинная девушка, которую надо еще обучать любви. Дюрренматт называет свою героиню Хлоей, пародируя давний античный образ.
Все навыворот, все наоборот. В рассказе «Мистер Ч. в отпуске» черт спускается на землю, чтобы творить добро. Он старательно сеет доброе: дарит, например, монахиням вечерние платья и бюстгальтеры. Но мир, как оказывается, не может существовать без зла: за недостатком коррупции экономика приходит в упадок.
«Перевертыши» множатся. Каждую хорошо известную историю можно толковать и совсем по-другому (на таком ироническом перетолковывании древних мифов построен рассказ «Смерть пифии», 1976). Дюрренматт пишет о волнующей его зыбкости жизни по-разному, но главный вывод остается одним и тем же: там, где нам мерещится твердь, в любую минуту может открыться провал, и вместо порядка обнаружится хаос.
История страны, где живет Дюрренматт, уходит корнями в глубокую древность. Семь столетий назад, в 1291 году, три старых кантона объединились, защищая свою независимость, что и стало основой швейцарской государственности. Еще на века раньше здесь жили племена ретов и гельветов, покоренные в I в. до н. э. римскими завоевателями. В произведениях Дюрренматта чувствуется дыхание этой седой старины. То и дело в новом обличье появляются мифологические и библейские образы (Минотавр, Геракл, Вавилонская башня, блудный сын). По-своему претворяет творчество Дюрренматта и античную идею рока.
Огромную роль в современной жизни, по Дюрренматту, играет случай. Небольшая случайность, ошибка, допущенная по небрежности или забывчивости, может привести к аварии на атомной электростанции. Случайность может урезонить безоглядную веру человечества в технический прогресс. Все ли можно было предвидеть в действительности нашего века? Не обнаружили ли события, развивавшиеся на наших глазах, непредвиденное не только в отдельных людях, но и в целых народах? Дюрренматт создает действительность, чреватую катастрофами. В тезисах к пьесе «Физики» он написал о роковой подвластности человека случаю, особенно очевидно перевертывающему все его замыслы, когда он по строго разработанному, как будто бы нерушимому плану движется к намеченной цели.
Читатель, вероятно, помнит неоднократно переиздававшуюся и экранизированную у нас повесть Дюрренматта «Авария» (1956). Непредвиденный случай забросил ничем не примечательного коммивояжера в компанию старичков пенсионеров, которые, продолжая для забавы свои прежние служебные занятия, творят над новичком суд с соблюдением всех процессуальных правил. Под общий смех постепенно выясняется, что на совести у коммивояжера Трапса не один из рук вон плохой поступок и даже, пожалуй, убийство, если называть вещи своими именами, чего, конечно, ни один человек не делает. Рассказ Дюрренматта кончается неожиданно: преуспевающий коммивояжер повесился в комнате, отведенной ему для ночлега, куда так недавно его проводили забавные хозяева.
У каждого большого писателя есть не только повторяющиеся образы, но и свои характерные коллизии. Для Дюрренматта — это разбирательство, разоблачение. Разоблачение, иногда судебное (в произведениях Дюрренматта удивительно много убийств, шпионов, преступников, судей, криминалистов), но чаще выходящее за пределы компетенции суда. Он, как говорилось, автор известных у нас криминальных романов: «Судья и его палач» (1950), «Подозрение» (1951), «Обещание» (1957). Но в сущности, и остальные его произведения «заражены» эстетикой криминального жанра. Отбрасывая привычные объяснения, Дюрренматт хочет доискаться до скрытых причин и следствий. Многим обязанный Бертольту Брехту с его умением представить обычное в настораживающе непривычном ракурсе (знаменитый «эффект очуждения»), Дюрренматт вряд ли оспорил бы мысли предшественника и по поводу детективности в большой литературе XX века. «Свой жизненный опыт, — писал Брехт, — мы получаем в условиях катастроф. На материале катастроф нам приходится познавать способ, каким функционирует наша общественная совместная жизнь. Размышляя, должны мы раскрывать „inside story“ (подоплеку. — Н.П.) кризисов, депрессий, революций и войн. Уже при чтении газет (но также счетов, известий об увольнении, мобилизационных повесток и так далее) мы чувствуем, что кто-то что-то сделал, дабы произошла явная катастрофа. Что же и кто сделал? За событиями, о которых нам сообщают, мы предполагаем другие события, о которых нам не сообщают. Они и есть подлинные события» (Б. Брехт, «О популярности детективных романов»)[3].
В произведениях Дюрренматта постоянно ведется дознание по тем или иным поводам. В пьесе «Визит старой дамы» выясняется вина главного героя Альфреда Илла и — что гораздо существеннее — готовность жителей маленького городка убить его за миллион долларов. В «Ромуле Великом» обнаруживается преступность изжившей себя Римской империи, на смену которой идет не менее преступное варварство.
В чем же последняя правда о герое «Аварии» Альфредо Трапсе и почему он повесился?
Наивно было бы полагать, что этот такой современный, нормальный, преуспевающий человек повесился из раскаяния, вдруг осознав смысл своих поступков. Подобный поворот совершается иногда в душах дюрренматтовских героев: человек для писателя странная смесь добра и зла. Но Альфредо Трапс не таков.
В повести несколько уровней истины, несколько правд о Трапсе. Правда не только в том несознательно совершенном убийстве, которое столь тонко расследовали старички.
Герой беспрестанно удивляется — прежде всего самому себе. В прошлой жизни он действовал, так сказать, инстинктивно, разного рода случайности вели его от поступка к поступку. В обвинительной речи прокурора смутные его намерения обрели пугающую определенность. И Трапс преисполнился немыслимой гордости. В своих глазах он теперь трагическая фигура, личность, человек, способный на все. Заурядному облику не соответствует не только совершенное Трапсом — ему не соответствуют его легко проснувшиеся амбиции. Трапс вешается, сопротивляясь попыткам адвоката доказать непреднамеренность происшедшего; самоубийство тут — акт самоутверждения.
Скрытое, неосуществленное, задавленное или только зарождающееся уравнено у Дюрренматта в правах с реальностью. Его образы обладают особой содержательностью — в них намечено сразу несколько смыслов, приоткрыто несколько разных «действительностей». Кто эти милые старички с их устрашающим, раблезианским обжорством? Мирные пенсионеры или апокалипсические фигуры, будто сошедшие с полотен Босха? Не напоминает ли невзначай идущая тут игра о неотвратимости Страшного суда над делами человеческими? Какие возможности таятся в Трапсе и что еще мог бы он совершить в будущем?
Существует мнение, будто герои Дюрренматта безжизненны и напоминают марионеток. Известный американский писатель Курт Воннегут уподоблял произведения Дюрренматта прекрасным и редкостным швейцарским часам, в механизме которых все совершенно, но нет никаких тайн. В этих произведениях, писал Воннегут, есть одна живая душа — душа автора[4].
Согласимся с американским писателем. Но лишь отчасти.
Дюрренматту действительно чужд тот разветвленный психологизм, который долгое время почитался, во всяком случае у нас, обязательным признаком большой реалистической литературы. Этот писатель мастерски изображает движения человеческой души, но только тогда, когда человек проявляет себя в действиях, представляющих общий интерес. Герои Дюрренматта попадают в ситуации чрезвычайные. Даже заурядный Трапс поступает при этом сверхнеобычно. Надо обладать совершенно особым и изощреннейшим мастерством, чтобы убедительно показать обоснованность и естественность этих в общем совершенно неестественных поступков.
В раннем рассказе, «Из записок охранника», многие страницы занимает длинный разговор героя с представителем Города. В его душе спорили озлобленность и благородство, униженность и гордость. Возвратившись еще раз к тому же материалу, Дюрренматт опустил в повести «Зимняя война в Тибете» этот диалог. Ему не было больше нужды погружаться во внутреннюю жизнь своего персонажа. Все было выведено наружу, выявлено с совершенной отчетливостью: психологизм Дюрренматта — это раскрывающиеся в поступках скрытые мотивы его героев. В сфере искусства писатель занимается тем (или: прежде всего тем), что в науке называется социальной психологией.
В мировой литературе у него свои предшественники. Это не классические реалисты XIX века, а сатирик Свифт, беспощадный исследователь натуры человека Бюхнер, немецкие экспрессионисты и прежде всего их предтеча — драматург и поэт-кабаретист Франк Ведекинд.
Описанные Дюрренматтом реакции и поступки сверхнеобычны. Но странное дело: в них отражается типическое и общее, узнаваемое и понятное для многих людей. «Гюлленцы, — писал Дюрренматт о жителях городка, выведенного в пьесе „Визит старой дамы“, — такие же люди, как мы все». Ни один человек не похож на другого. Не похожи один на другого и дюрренматтовские герои. Но в их жизнях, в их социальных реакциях есть много общего. Как всегда, ненавязчиво и в то же время определенно автор прочерчивает соответствия между своим Альфредо Трапсом и общей ситуацией: «В стране росло благосостояние, как было держаться от этого в стороне?» Если его начальник отправился на тот свет и без существенной помощи героя (кто, кроме Создателя, в силах судить тут со всей определенностью?), то ясно, что Трапc живо усвоил некоторые характерные правила поведения современного человека — «оттереть к стенке, действовать, не считаясь ни с чем». Что это, частные, хотя и весьма распространенные свойства человека или они имеют общественные последствия? Не по одному ли шаблону действуют люди? Нет ли общего, стереотипного и в их судьбах? Как написал Дюрренматт в повести «Авария», в сущности по тому же поводу: «Судьбы разыгрываются одинаково». Отрицать сходство судеб людей в XX столетии рискованно.
В середине 50-х годов, почти одновременно с работой над повестями «Авария» и «Грек ищет гречанку», Фридрих Дюрренматт был занят еще двумя замыслами: повестью, получившей впоследствии название «Лунное затмение», и пьесой «Визит старой дамы». Премьера пьесы состоялась в цюрихском «Шаушпильхаузе» в 1956 году. Теперь, когда она успела обойти сцены лучших театров мира, странно читать авторские признания, что писалась она в надежде на заработок, более верный в западных странах для драматурга, чем для прозаика, и потому отодвинула до начала 80-х годов повесть «Лунное затмение», сюжет и содержательное зерно которой были переиначены и развиты в пьесе. Сходство пьесы и повести, опубликованной впервые в 1981 году в третьем томе «Материалов», заметно без труда. Совпадает главная ситуация — окружение главного героя соглашается убить своего земляка за куш в миллион долларов. Но место действия и характеры совсем другие. Сравнение пьесы и повести помогает еще раз осознать, насколько распространены в современной действительности в разных обличьях занимавшие Дюрренматта свойства людей. И сколь неистощим его интерес к пестроте и многообразию жизни.
Замысел «Старой дамы», писал Дюрренматт, не созрел бы в его воображении, если бы он не был принужден тогда часто ездить из своего городка Невшателя в Берн. И если бы поезд не останавливался среди прочих и на вокзалах двух крохотных городков. Так, вместо отдаленной деревушки высоко в горах, где должно было развиваться действие «Лунного затмения», возник иной образ — пришедший в ветхость вокзал опустелого городишка. Главный герой повести — высокий здоровый мужчина в возрасте за шестьдесят — пробивался на своем «кадиллаке», а потом пешком через заваливший дорогу глубокий снег в заброшенную деревушку. Приехавшему на поезде, работала дальше фантазия автора, подобная сила ни к чему. Поэтому это, скорее всего, богатая женщина, а отдать предпочтение поезду она могла потому, что не раз попадала в автокатастрофы. Так появились у героини пьесы протезы.
Но оставим в стороне популярную и у нас «Старую даму». (В 1989 г. Михаил Козаков даже экранизировал пьесу на «Мосфильме».) Обратимся к повести по-своему не менее совершенной, хотя автор как бы лишь записал теперь давно хранившийся в памяти замысел. Отсюда и настоящее время, так характерное при пересказе воспоминаний: «В середине зимы перед самым Новым годом через деревню Флётиген… проехал огромный „кадиллак“…» — и так далее.
Как будто бы с совершенным жизнеподобием рисует автор крестьян высокогорного села, с их суровой практичностью, мрачным упорством и грубыми нравами. Тут все осталось так, как было вчера и позавчера, будто это село описал не Дюрренматт, а классик прошлого века Готхельф. Нигде не видно туристов, одни и те же лица изо дня в день. И никто, привыкши к суровости жизни, ничему не удивляется.
В эту-то деревню, прямо в трактир, и пробирается приехавший из Канады, а в прошлом местный житель, Ваути Лохер.
Как во многих произведениях Дюрренматта, толчок событиям дает человек, пришедший откуда-то, вернувшийся, как библейский блудный сын, через многие годы домой. Скоро выясняется, что в чемодане у Лохера четырнадцать миллионов долларов и что он отдаст их своим землякам, если за это в ближайшее полнолуние будет убит крестьянин Мани, который женился когда-то на Клери, беременной от него, Лохера.
В этой повести еще меньше от «чувств» (любви, ревности и т. п.), чем было в «Старой даме», где героиня все же вспоминала былое с Иллом в Конрадовой роще. Повесть написана не о чувствах, а об их отсутствии. Для того чтобы пойти на убийство, здесь не требуется времени, за которое благородное возмущение успело бы смениться колебанием, а потом тайным и явным согласием (все эти переходы мастерски показаны в «Старой даме»). Тут, не забыв поторговаться, соглашаются скоро, соглашается и крестьянин, которого надлежит убить, потому что иначе никогда не купить маленький трактор, о котором Мани мечтал всю жизнь, а «четырнадцать миллионов — это четырнадцать миллионов».
Какова мера правды и мера фантазии в этой повести? Похожи ли на реальных эти крестьяне из забытой богом горной деревушки? «Лунное затмение» напоминает известный рассказ Иеремии Готхельфа «Черный паук» (когда-то Дюрренматт создал серию иллюстраций к нему), написанный в середине прошлого века про крестьян примерно из тех же мест, также продавших в тяжелых обстоятельствах душу дьяволу. Фантастическая ситуация позволила в свое время Готхельфу выявить страшные свойства человеческих душ. Тем же занят и Дюрренматт. Фантастическое соседствует у него с реальным, страшное со смешным. Чего стоит, например, «проход» вообразившего себя популярным священника в окружении крестьян по крутой дороге, во время которого те только и думают, как бы отделаться от него, ну хоть столкнув с обрыва, чтобы он невзначай не помешал «делу».
Во втором томе «Материалов», роясь памятью в прошлом, Дюрренматт пытался отыскать впечатления, которые, преобразившись, вошли в задуманную им повесть. Он вспомнил о своей недолгой жизни в похожей деревушке, где читал тогда Гофмана и впервые пытался сочинять для театра. Но гораздо больше его занимали крестьяне: «Они были дремуче суеверны, их страстью было браконьерство, а кто не возвращался с гор и погибал на охоте, о том складывались легенды». Многочисленные истории, одна фантастичнее другой, рассказывались об умершем несколько лет назад хозяине трактира, которому незадолго до смерти привиделась в полнолуние белая собака, вскочившая на облучок телеги и заговорившая с ним человеческим голосом. Крестьянам в повести тоже является знамение: когда подпиленное дерево уже готово рухнуть на Мани, на луну вдруг наползает круглая тень — то ли это Австралия, как думает один из присутствующих, то ли, как кажется большинству, конец света, и луна сейчас упадет на землю.
Автор показал своих персонажей, как говорится, без прикрас.
Однако, как всегда, он видел в них и другие качества. Свет и тьма человеческой души, от которых в конечном счете зависит и течение жизни, непредуказанно взаимодействуют, создавая глубину нарисованной писателем картины.
Гангстер в женском монастыре (рассказ «Мистер Ч. в отпуске») вдруг сталкивается лицом к лицу с прекрасной монашенкой, несущей торт гостю. Не удержавшись на ногах, оба падают на колени, а взглянув в такой позе друг на друга (точно размеченные мизансцены), мгновенно влюбляются и целуются. Торжествует любовь. Это, конечно, вполне шутовское, соответствующее духу рассказа, воплощение добра. Но в повести «Грек ищет гречанку» — вещи, изяществом и прозрачностью подобной старинным кружевам, — стихия добра действует на читателя притягательно. В мире, где человеколюбивые начинания привычно «рифмуются» со смертоносными (фирма Пти-Пейзана производит медицинские инструменты, помогающие при деторождении, как приложение к оружию), сохраняют неотразимую силу доброта, мягкость и способность к любви. Гречанка Хлоя, как часто у Дюрренматта, раскрывается окружению двояко: она и собственность всех этих пти-пейзанов, она и само торжество человечности, понимания, преданности, любви. Все ненатужно и легко в этой повести. Но это легкость на крайнем пределе возможного, легкость призрачная, готовая исчезнуть, подточенная скепсисом и иронией. То, что когда-то кричало в литературе (пошедшая на панель Соня у Достоевского как высшее воплощение милосердия и христианской любви), дается Дюрренматтом не задерживаясь, походя.
В «Лунном затмении» в ситуации фантастической и уже потому соответствующей фантастичности нашей жизни есть лишь один человек, не желающий брать денег, — это жена, а потом вдова крестьянина Мани. В других поздних произведениях Дюрренматта таких чистых душой героев нет. Различия лишь в разной степени запутанности и погруженности в зло. В рассказе «Смити» (как и в пьесе «Сообщники», 1972) действует вполне деловое объединение в помощь преступникам по устранению трупов. Все существует примерно по тем же законам, что в «Трехгрошовой опере» Брехта: сообщество грабителей мало чем отличается от сообщества промышленников. Но у Дюрренматта все ужаснее, страшнее. Так и нужно автору, чтобы показать в страшных обстоятельствах проблески человечности, а заодно и невозможность таковых в «нормальной» жизни. Именно в этом рассказе среди членов преступного кооператива находится человек, которого вдруг охватывает такая острая нежность к убитой и такая дикая гордость, что он не берет миллион (обычный куш) у высокопоставленного убийцы, поясняющего, приветливо улыбаясь, что это труп его жены.
Страшен в этом рассказе юмор, будто медлящий превращаться в гротеск, сохраняющий стихию смешного, что еще больше пугает в соседстве с ужасом. Ужас в самой юмористической легкости, с которой ведется повествование: все катится как по накатанному, не встречая преград.
В прозаических произведениях Дюрренматта 80-х годов вновь возникает характерная для него детективная ситуация: кто-то берет на себя исполнить некое поручение и начинается расследование убийства. Отличие от ранних детективных романов, однако, в том, что, в сущности, ищут не убийцу. Вопрос о вине, заданный автором читателям, относится и к преступлениям, в произведении не описанным.
Роман «Правосудие» (вышел в свет в 1985 году, автор использовал, кардинально переработав, несколько ранних набросков) начинается с убийства, совершенного при всех, после чего преступник и не думает скрываться. Невероятная путаница, масса комических эффектов (страшное и тут перемешано со смешным) возникают с самого начала потому, что набравшая скорость полиция натыкается на «статичность» преступника: он тут, под рукой, сидит рядом с напрягшимся, как тигр перед прыжком, прокурором в концертном зале, и арестовать его мешает только нескончаемая симфония Брукнера.
В романе много подобных намеренных замедлений, ретардаций. Кипит жизнь, главное происшествие обрастает боковыми ветвями, казалось бы не имеющими никакого отношения к делу. О каждом из множества лиц тут же вкратце сообщается его жизненная история. Для характеристики дамы, произносящей в романе всего несколько слов, сказано: «итальянская вдова немецкого промышленника». В тексте то и дело встречаются скобки — автор помещает в них дополнительные сведения. Все описано, осмотрено, выяснено. Но по-прежнему непонятно, почему цюрихский кантональный советник и крупный промышленник господин Колер выстрелил, зайдя на минуту в фешенебельный ресторан, в профессора германистики Винтера и почему он, с таким удовольствием почитывая Платона, пребывает потом в тюрьме.
В романе ищут не убийцу, но смысл. Начальник кантональной полиции, как и многие другие, не может примириться с тем, что осужденный не сообщил причины, по которой он убил человека.
Но смысла в этом мире нет. Законы здесь совершенно другие. Все так же кощунственно, как вывеска «Утоли моя печали» над забегаловкой, где действующие лица опрокидывают стаканчик.
В этом-то сорвавшемся с петель мире арестованный Колер предлагает молодому незадачливому адвокату Шпету, от лица которого ведется повествование, расследовать теоретическую возможность: а что, если принять, что убил не он, а совсем другой человек? Автор будто задает нам вопрос: неужто возможно такое? Может ли эта нелепая версия быть принята за реальность? И отвечает: очень даже может!
Разбираясь в истоках повести «Лунное затмение», Дюрренматт вспоминал шалость студенческих лет. Однажды ночью он вместе с товарищами принялся звонить на метеорологическую станцию университета, сообщая, что в различных точках страны Луна, скрытая в Цюрихе облаками, приняла четырехугольную форму, удвоилась, утроилась и тому подобное. На следующее утро обнаружилось, что научная общественность пришла в движение. Профессор объяснил студентам на лекции возможность подобного явления при определенном состоянии атмосферы. Происшествие с луной вошло затем в сюжет обдумывавшейся тогда повести «Лунное затмение». Опыт же с мгновенным усвоением невероятного факта отразился не только тут, но и в «Визите старой дамы», и в «Правосудии». Человеческое сознание легко принимает ложь и фальсификацию. Его легко повернуть в любую сторону, в том числе обратить ко злу. В написанном в давние годы детективном романе «Судья и его палач» Дюрренматт видел воплощение зла в скрывавшемся в Швейцарии нацистском преступнике. Начиная со «Старой дамы» и дальше, вплоть до последних своих произведений, он не локализует зла: на вольное или невольное участие в преступлении, считает Дюрренматт, способен каждый. Выстрел Колера, свидетелями которого были присутствовавшие в ресторане, подергивается пеленой тумана. Утверждается новая «очевидность»: убийство совершил другой человек, кстати, он чемпион страны по стрельбе.
Кое-что в романе «Правосудие» так и остается неясным. Высказано несколько предположении о причинах совершенного Колером убийства. Вероятно, в преступлении были замешаны пришедшие в столкновение интересы двух трестов (эта идея возникает к концу романа). Но вероятна и догадка Шпета: стремительный бег событий, результатом которых стали пять трупов и множество сломанных судеб, не имел иного толчка, кроме прихоти Колера, пожелавшего узнать, как далеко простирается его власть над людьми. Все происшедшее, если принять эту версию, было срежиссировано Колером с таким же мастерством, с каким он играл на бильярде. «На основе этого поручения, — объясняет Шпет дочери Колера, Элен, — ваш отец хочет исследовать границы возможного».
Автор, безусловно, и не хотел полной ясности: ведь разгадка мотивов убийства все равно была бы частной по отношению к замыслу романа. Автор хотел растревожить читателей не туманностью дела Колера (это только одно и не самое главное его намерение), а отсутствием правды, истины вообще. Влюбленный в Элен Шпет считает ее то чистой душой, то сообщницей отца, посвященной в его расчеты. Но если, рассуждает Шпет, правильно второе предположение, то где та правда и истина, которой можно было бы ее пристыдить? «Что мы еще собой представляем? Что воплощаем? Осталась ли хоть крупица смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе?»
Знаками совершенной зыбкости, неустойчивости, приметой расслаивающейся действительности и являются в этом романе любимые Дюрренматтом «перевертыши». Все двоится, бросает неверные отражения, выстраивается в комические подобия. Вдруг, будто бы ни к тому ни к сему, на страницах романа появляется пара ученых-социологов, они расследуют, какую пользу принесло университету убийство видного германиста. Муж и жена — почти что куклы и так сжились друг с другом, что госпожу профессоршу можно принять за брата-близнеца ее супруга. Вместо зловещей большеголовой карлицы-миллионерши прожигает жизнь под ее именем другая. Да и позиция самого рассказчика, автора записок адвоката Шпета, сомнительна и двойственна. Последний идеалист, еще не оставивший борьбы за справедливость (хоть фамилия его Шпет в переводе с немецкого значит «поздно»), он становится фигурой двусмысленной. Раз принявши поручение Колера, он волей-неволей допустил и его невиновность. Как говорит Шпету другой участник этой нечистой затеи: «Для нас Колер больше не убийца. Теперь мы должны подыгрывать».
Непредвиденные случайности все время толкают Шпета в нужном Колеру направлении. Шпет думает, что совершает поступки, но кто-то (что-то) действует на него. За случайностями в этом романе, как и в реальной жизни, проглядывает закономерность.
Но необходимость и свобода, закономерность и вольное решение находятся у Дюрренматта в подвижных, глубоких отношениях, хоть, казалось бы, его герои связаны по рукам и ногам. Рассуждая в одной из теоретических статей о нравственности и ответственности в современном «безликом» мире, он писал и об обязанности прорвать эту безликость, к торжеству которой причастны все: «Хоть мы говорим: „Мы этого не хотели“, мы ведь все-таки сделали свой выбор».
От описанного в романе «набора», от всех этих колеров, штюсси-лойпинов и им подобных, от концерна «Штайерман — жертвам», производящего не только протезы, но танки, автоматы и минометы (все это-де усовершенствованные модели протеза руки, выполняющей функцию защиты), автор переходит к просторам более широким. Взгляд в прошлое — и перед читателем краткая история Швейцарии, пара абзацев — и свободно очерчен швейцарский дух, швейцарский образ мыслей. Спрятавшись за спину бунтующего Шпета, автор скептически и сурово (быть может, слишком сурово?) оценивает движущие силы швейцарской действительности: «Идеалы страны всегда имели практическую основу. В остальном же жили так, что для каждого предполагаемого врага было выгодней не соваться, — аморальная по сути, но здоровая, жизненная установка».
Но и граница, отделяющая автора от героя, часто размыта (Дюрренматт шутливо продолжает игру в раздвоения и слияния и в этом случае): как сказано в тексте, автор будто вступает в рукопись Шпета, с ней совпадает (буквально совпадает кое-что, например, в описании Шпетом и автором парка у виллы Колера).
На последних страницах, однако, игре уже нет места. Перед нами сам Дюрренматт под звездным небом, на террасе своего дома.
Удивительны эти внезапные лирические отступления, столь неожиданные для чуравшегося откровенностей писателя. Речь здесь идет уже не о событиях романа и не об одной Швейцарии. Почти забыв о своих героях, оставив выдумку, Дюрренматт говорит о страшной игре, в которую втянуто современное человечество.
В непреднамеренности текущей жизни, в путанице существенного и случайного, в смешении интересов всеобщих и личных Дюрренматт, приучивший своих читателей к «двойной оптике», предлагает увидеть вместо плавного перехода еще один разрыв — между настоящим и будущим человечества. Никогда еще, полагает писатель, будущее не было столь проблематично, необязательно, никогда еще возможности будущего развития не отходили так далеко от настоящего и не отличались так друг от друга.
Будущее человечества занимает Дюрренматта и в новелле «Поручение» и повести «Зимняя война в Тибете».
Новелла «Поручение» (1986) отличается скупостью и холодноватой отстраненностью стиля. Достаточно сказать, что ее двадцать четыре главки — это двадцать четыре предложения. На страницы растянулись фразы, в которых нет ни единой точки. Части огромного предложения ловко сопряжены, из одного, как и в самом дюрренматтовском мире, с неизбежностью вытекает другое. Целое прозрачно. Новеллу с полным основанием можно назвать классичной. Но это классичность поздняя, классичность XX века, родившаяся из усталости и отчаяния. В ровности тона этой новеллы есть нечто от ровности освещения и тревожной застылости мира на столь же «классичных» полотнах сюрреалиста Кирико. Города Кирико будто вымерли — это мир, который остался после исчезновения человека.
Изображенное Дюрренматтом недалеко от этого часа. Подчиняясь неведомому механизму, действие то и дело возвращается на круги своя. Кажется, что главным для автора был вообще не сюжет, не действие, а картина. Где-то в песчаной пустыне расположен тайный полигон, на котором постоянно проводятся испытания военной техники многих стран. Повсюду громоздятся груды развороченных металлических конструкций. Время от времени слышатся взрывы. Все так же чуждо и странно человеческому взору, как лунный ландшафт. В этих-то условиях и действуют дюрренматтовские персонажи. Сюжет детективен, но игрушечен, он будто наклеен на трагический фон.
Молодая журналистка Ф. отправляется в экзотическую страну на экзотическое место преступления, где жизнь ее тотчас оказывается висящей на волоске. Надо всем происходящим тень терроризма. Но наиболее впечатляющий эпизод, когда героиня попадает к фотографу-любителю, главной своей задачей считающему перехитрить всех наблюдателей и с помощью камеры, этого глаза Полифема, запечатлеть все фазы совершающихся убийств и преступлений. Только так, смонтировав множество жутких кадров, можно постичь происходящее. В конце концов и этот наблюдатель попадает под наблюдение других наблюдателей.
В 1981 году пришел к завершению давний замысел, разрабатывавшийся в неоконченном романе «Город» и рассказе «Из записок охранника»: автор «записал» теперь текст окончательного варианта — повесть «Зимняя война в Тибете».
Когда-то, в 40–50-х годах, Дюрренматт, по собственному его признанию, не справился с вызревавшим уже тогда замыслом «Зимней войны в Тибете». Для окончательного воплощения ему не хватало тогда ни дистанции к материалу, ни духовной и художественной зрелости. Не хватало ему и того политического опыта, тех трагических проблем и предчувствий, которые рождены нашей действительностью.
Несмотря на сравнительно небольшой размер, повесть воспринимается как грандиозная фреска. Планета после атомной катастрофы. Одичавшие, озверевшие люди рушат последние остатки техники, в которой видят причину происшедшего. Но где-то на плоскогорьях Тибета (это место, комментировал Дюрренматт, может быть и гораздо ближе) продолжают биться люди. Управление Городом, мировая Администрация разжигают с детства воспитанное, въевшееся в сознание убеждение, что рядом не такие же полумертвые, а враги, с которыми надо бороться, ради которых жить. Против кого воюют люди? Что и кого они защищают? Ради чего теряют руки-ноги и голову? Враг — это фикция. Родины нет. Существует незримая Администрация и наемники, представители разных народов и рас, изничтожающие себя и себе подобных. «Я наемник» — первые слова этой повести, солдат наемной армии, человек, продавший себя посторонней власти…
Дюрренматт написал о замерзших городах, о потерявших разум людях, о мире, похожем на бордель и застенок сразу. Но не меньше, чем о мире после атомной катастрофы, в повести говорится о мире до нее. Ведь абсурдная ситуация, когда укрывшиеся в бункерах правительства (так преобразился еще раз образ пещеры, убежища) взывают по радио к своим уничтоженным ими народам, выросла из предшествующего времени, из разрыва между людьми и административной системой.
Много страниц в повести уделено физическим процессам, происходящим во Вселенной. Дюрренматта увлекает теория больших чисел, по поводу которой он написал когда-то специальную статью. Но Солнечная система занимает автора не сама по себе, а как параллель к напряженному, предкатастрофическому состоянию земной цивилизации, как возможность дать образ сегодняшней действительности.
Превратившийся в калеку наемник, едва передвигающийся по бесконечному подземному лабиринту, царапает на стене свои записи протезом, которым служит привязанный к культе автомат. Обезумевший от страха, он в любую секунду готов стрелять. Призрачные фигуры врагов, как тени на задней стене пещеры Платона (философа, о котором не раз вспоминают в повести), кажутся ему реальней жизни у входа в лабиринт и пещеру. Уже один этот образ — фантастический и убедительный — будто само современное человечество.
Дюрренматт — мастер прозы высокого интеллектуального накала. Истоки этого ее качества не в занятиях автора философией в молодые годы. В его прозе не разворачивается диспутов, не развиваются идеи и концепции, что привычно в произведениях такого рода. Интеллектуализм Дюрренматта в другом. «Настоящий писательский труд, — сказал он однажды, — всегда есть участие в продумывании и проигрывании возможностей человека». В этой приоткрывающей правду художественной игре он достиг совершенства.
(support [a t] reallib.org)