"В семье" - читать интересную книгу автора (Мало Гектор)
Глава II
Когда Перрина вернулась на свое место, осел опять стоял у воза и, уткнувшись носом в сено, преспокойно жевал его, как будто перед ним были собственные ясли.
— Зачем вы ему позволяете! — воскликнула она.
— А что такое?
— Возчик вломится в претензию.
— Пусть попробует!
Он стал в вызывающую позу, подбоченился и крикнул:
— Эй, выходи!
Но никакого заступничества не потребовалось. Возчику было не до того: его телегу в это время осматривали акцизные.
— Теперь ваша очередь, — сказал клоун. — Я ухожу. До свидания, mam’zelle. Если я вам понадоблюсь, спросите Гра-Дубля. Меня все знают.
Акцизные, надзирающие за парижскими заставами, — народ привычный ко всякому, но чиновник, который осматривал фуру, невольно изумился, когда увидел больную женщину в обстановке столь явной нищеты.
— Вам есть что предъявить? — спросил он.
— Нет.
— Ни вина, ни провизии?
— Нет.
И это была правда. Кроме матраца, двух плетеных стульев, небольшого стола, глиняной печи и фотографического аппарата с приборами в фуре не было ничего: ни чемоданов, ни корзин, ни одежды.
— Можете проезжать.
Миновав заставу, Перрина сейчас же повернула направо, как советовал Гра-Дубль. На пыльной, пожелтевшей, местами совсем вытоптанной траве по обочинам бульвара лежали какие-то люди — кто на спине, кто на животе. Некоторые, проснувшись, потягивались только с тем, чтобы снова заснуть. Истощенные, испитые лица и рваная одежда красноречивей всяких слов говорили, что жители укреплений — народ ненадежный, что ночью в этих местах не безопасно, Но они мало интересовали Перрину; теперь ей это было все равно. Ее занимал только сам Париж.
Неужели эти обшарпанные дома, эти сараи, грязные дворы, пустыри, сплошь покрытые нечистотами, неужели это тот Париж, о котором так много рассказывал ей отец, о котором она мечтала, как о чем-то волшебном? Неужели эти опустившиеся, оборванные мужчины и женщины, валяющиеся здесь на траве, неужели они — парижане?
Миновав Венсенн, она свернула влево и спросила, где Шан-Гильо. Хотя все знали это место, не все при том одинаково указывали дорогу туда, и Перрина несколько раз сбивалась на названиях улиц, по которым предстояло проезжать, В конце концов, однако, она увидела перед собой забор из кое-как подогнанных друг к другу досок: через отворенные ворота виден был старый омнибус без колес и железнодорожный вагон тоже со снятыми колесами. По этим признакам она догадалась, что это и есть Шан-Гильо. На траве лежало около дюжины хорошо откормленных собак.
Оставив Паликара на улице, Перрина вошла во двор. Собаки с визгливым лаем кинулись на нее и принялись теребить за ноги.
— Что там такое? — послышался чей-то голос.
Перрина оглянулась и увидела слева от себя длинное строение, которое могло быть и жилым домом, и чем угодно. Стены некогда сооружали из чего попало: и из кирпичей, и из досок, и из бревен; крыша была частично из картона, частично из просмоленного полотна; окна — из стекла, и из бумаги, и из листового цинка, и из дерева. Все это было построено с каким-то наивным искусством: словно тут похозяйничал Робинзон с несколькими Пятницами.
Под навесом человек с всклокоченной бородой разбирал ворох тряпья, раскидывая его по корзинам, расставленным вокруг него.
— Подойдите, — сказал он, — только не раздавите моих собак.
Перрина подошла.
— Что вам угодно? — спросил человек с бородой.
— Это вы владелец Шан-Гильо?
— Говорят, что я.
Девочка в нескольких словах объяснила, кто она и чего хочет. Он слушал ее и, чтобы не терять золотого времени даром, налил себе стакан красного вина и осушил его залпом.
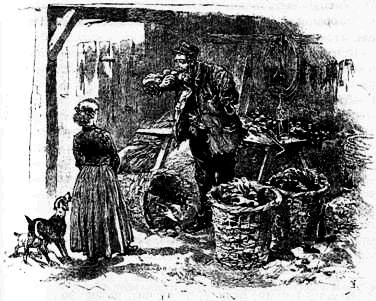 |
— Все это можно, если только мне заплатят вперед… — сказал он, оглядывая Перрину.
— А сколько?
— Сорок два су в неделю за фуру и двадцать одно су за осла.
— Это очень дорого.
— Меньше не могу.
— Это ваша летняя цена?
— Это моя летняя цена.
— А можно будет ослу есть репейник?
— Можно какую угодно траву, если у него есть зубы.
— Мы не можем платить за неделю вперед, потому что так долго не останемся: мы в Париже проездом и направляемся в Амьен.
— Все равно; в таком случае шесть су в день за фуру и три за осла.
Она пошарила в кармане своей юбки и, вытащив оттуда девять монеток по одному су, сказала:
— Получите за первый день.
— Можешь сказать своим родителям, чтобы въезжали. Сколько вас всех-то? Если целая труппа, то еще по два су с человека.
— Я только с мамой.
— Ладно. Почему же твоя мать сама не пришла договариваться?
— Она больна и лежит в фуре.
— Больна? У меня не больница.
Перрина испугалась, что он откажет им.
— То есть она устала: мы ведь издалека.
— Я никогда не спрашиваю у постояльцев, откуда они.
Он указал рукой на угол своего «поля» и прибавил:
— Фуру поставишь вон там, а осла привяжешь. Если ты раздавишь одну из моих собак, заплатишь за нее сто су.
Она пошла к воротам. Он остановил ее.
— Выпей стакан вина.
— Благодарю. Я не пью.
— Ну, так я за тебя выпью.
Он опять опрокинул себе в горло целый стакан и принялся разбирать тряпье, которым порой приторговывал.
Привязав Паликара в указанном месте, причем осел довольно долго брыкался, Перрина вошла в фуру.
— Ну, вот, мама, мы и приехали.
— Какое счастье, что мы постоим на месте, не будем двигаться и трястись. Боже мой, как велика земля!
— Теперь нам можно и отдохнуть. Я приготовлю обед. Тебе чего хотелось бы?
— Сначала пойди распряги Паликара, задай ему корм, напои его. Он ведь тоже устал, бедняжка.
— Здесь очень много репейника и есть колодец. Я сейчас пойду и все устрою…
Девочка вернулась очень скоро и принялась собирать все, что нужно для готовки. Она достала переносную глиняную печь, несколько кусков угля и старую кастрюлю, потом вынесла все это на воздух, зажгла уголь и долго изо всех сил дула на него, став перед печкой на колени.
Когда уголь разгорелся, она вернулась к матери.
— Хочешь рису?
— Мне и есть-то почти не хочется.
— Или чего-нибудь другого. Скажи, я достану. Хочешь?
— Ну, давай рису…
Перрина бросила в кастрюлю горсть риса, налила воды и начала кипятить, помешивая двумя беленькими палочками. От огня она отошла только на секунду и то лишь затем, чтобы посмотреть, что делает Паликар. Ослик чувствовал себя прекрасно и усердно жевал репейник.
Приготовив рис как следует, то есть ничуть его не переварив, она выложила его стопкой в деревянную плошку и отнесла в фуру.
До этого она уже поставила перед постелью матери небольшой кувшинчик с колодезной водой, два стакана, две тарелки и две вилки; поставив тут же плошку, сама она села на пол, поджав под себя ноги.
— Ну, вот теперь мы будем обедать.
Она говорила веселым, даже беззаботным тоном, но взгляд ее с тревогой скользил по лицу матери, которая сидела на матраце, закутавшись в шерстяной платок, изорванный и затасканный, хотя когда-то, видимо, стоивший немало денег.
— Ты проголодалась? — спросила мать.
— Еще как! Я так давно не ела…
— Ты бы хоть хлебом закусила.
— Я съела целых два ломтя и все-таки голодна. Смотри, как я буду есть; глядя на меня, тебе самой захочется.
Мать поднесла вилку с рисом к губам, но так и не смогла проглотить…
— Не могу, — сказала она в ответ на взгляд дочери. — Кусок не идет в горло.
— Заставь себя: второй глоток будет легче, а третий еще легче.
После второго глотка мать положила вилку на тарелку.
— Не могу: нехорошо… Лучше уж и не пробовать…
— О, мама!
— Не беспокойся, дорогая. Это пустяки. Я ведь не двигаюсь — надо ли удивляться, что у меня нет аппетита! И потом — я так устала от езды… Вот отдохну, и аппетит появится…
Она скинула с себя платок и, задыхаясь, легла опять на постель. Заметив у дочери слезы на глазах, она попыталась ее развеселить.
— Рис у тебя очень вкусный, ешь его… Ты работаешь, тебе нужно больше пищи… Поешь, дорогая!
— Да я и так ем… Видишь, мама, я ем…
Но на самом деле она глотала через силу, принуждая себя. Впрочем, слова матери все же утешили ее, и она стала есть как следует, так что скоро от риса ничего не осталось. Мать глядела на нее с нежной и грустной улыбкой.
— Вот видишь, дорогая, стоит только себя заставить… — сказала больная.
— Ах, мама! Ответила бы я тебе на это, да не решаюсь.
— Ничего, говори…
— Я бы ответила, что ведь только что я тебе советовала то же самое, что ты мне теперь говоришь.
— Я больна…
— Вот потому-то мне и хочется сходить за доктором… В Париже много хороших докторов.
— Хорошие-то пальцем не шевельнут, если им не заплатят денег.
— Мы заплатим.
— А чем?
— Деньгами. У тебя в платье должны быть семь франков и еще флорин, которого здесь не меняют… да у меня семнадцать су. Посмотри-ка у себя в платье.
Черное платье, такое же потрепанное, как и юбка Перрины, только менее пыльное, лежало на постели вместо одеяла. В кармане его действительно отыскались семь франков и австрийский флорин.
— Сколько тут будет всего? — спросила Перрина. — Я плохо знаю французские деньги.
— Я знаю их не лучше тебя.
Они принялись считать и, определив стоимость флорина в два франка, насчитали девять франков и восемьдесят пять сантимов.
— Ты видишь, у нас даже больше, чем нужно на доктора… — продолжала Перрина.
— Доктор меня словами не вылечит. Понадобятся лекарства, а на что мы их купим?
— Вот что я скажу тебе, мама. Над нашей фурой везде смеются. Хорошо ли будет, если мы приедем в ней в Марокур? Как на это посмотрят наши родные?
— Я сама опасаюсь, что это им не понравится.
— Так не лучше ли от нее отделаться, продать ее?
— За сколько же мы ее продадим?
— Да сколько дадут… Кроме того, у нас есть фотографический аппарат; он еще очень хорош. Наконец, есть матрац…
— Стало быть, ты хочешь продать все?
— А тебе жаль расстаться?
— Мы прожили в этой фуре больше года… В ней умер твой отец… Со всей этой нищенской обстановкой у меня связано столько воспоминаний…
Больная замолчала, задыхаясь… Крупные слезы побежали по ее щекам.
— О, мама! — вскричала Перрина. — Прости, что я тебя расстроила…
— Мне не за что тебя прощать… Ты говоришь вполне разумно, и я сама должна была бы об этом догадаться… Но ведь ты перечислила не все… Нам придется расстаться и…
Она запнулась.
— С Паликаром? — договорила Перрина. — Я только не решалась тебе об этом сказать… Ведь не можем же мы явиться с ним в Марокур?
— Конечно, не можем, хотя мы и не знаем еще, как нас там примут.
— Неужели нас там могут принять дурно? Неужели нас не защитит память моего отца? Неужели будут продолжать сердиться и на мертвого?
— Не знаю. Если я и отправляюсь туда, то только потому, что так приказал, умирая, твой отец. Мы все продадим, на вырученные деньги пригласим доктора, сошьем себе приличную одежду и по железной дороге поедем в Марокур. Только вот вопрос — хватит ли на все того, что мы выручим?
— Паликар очень хороший осел. Мне говорил мальчик-акробат, а он толк знает…
— Ну, обо всем этом мы поговорим завтра, а теперь я очень устала.
— Хорошо, мамочка. Ложись усни, а я пойду стирать; у нас накопилось много грязного белья.
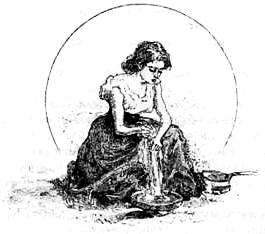 |
Поцеловав мать, девочка вышла из фуры, согрела воды и принялась стирать в тазу две рубашки, три носовых платка и две пары чулок. Работала она на редкость проворно и ловко. Через два часа все было выстирано, выполоскано и развешано для просушки на веревке. После этого Перрина подошла к Паликару, перевела его на другое место, где трава была посвежее, и напоила его водой. На дворе совсем стемнело. Кругом воцарилась глубокая тишина. Девочка грустно обвила шею ослика руками и горько заплакала…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |