"В семье" - читать интересную книгу автора (Мало Гектор)
Глава XXV
Когда на другой день господин Вульфран вместе с директором вошел в мастерскую, Перрина была занята передачей инструкций старшего механика помогавшим ему рабочим: каменщикам, плотникам, кузнецам и слесарям. Отчетливо, без колебаний и повторений переводила она слова англичанина и передавала ему вопросы французских рабочих.
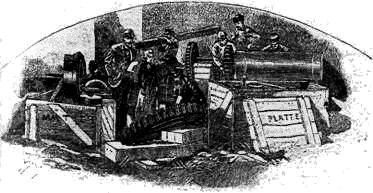 |
Господин Вульфран медленно приблизился к работающим, и голоса в ту же минуту смолкли; но слепой старше махнул палкой, давая знак не обращать на него внимания, и все опять пришло в движение.
— Знаете ли, Бенуа, — слегка наклонясь к директору, говорил господин Вульфран, — из этой девочки вышел бы прекрасный инженер.
— Необыкновенно развитая девочка, — вполголоса отвечал директор.
Слова эти, хотя и сказанные очень тихо, долетели до слуха Перрины, и сердце ее забилось сильнее.
— Поверите ли, вчера она переводила мне
— Вам неизвестно, кто ее родители?
— Талуэль, вероятно, знает, а я — нет.
— Только она, по-видимому, страшно бедствует.
— Я назначил ей пять франков на стол и квартиру.
— Я говорю про ее одежду: кофта ее превратилась в сплошное кружево; а такую юбку, как у нее, я видел только у цыганок; на ногах у нее туфли, которые она, должно быть, сама себе смастерила.
— А какое у нее лицо, Бенуа?
— Умное, честное, выражение глаз кроткое и мягкое.
— Откуда она попала к нам?
— Не знаю, только она не здешняя.
— Она сказала мне, что мать ее была англичанкой.
— Она совсем не похожа на тех англичан, которых мне приходилось видеть. Нет, у нее другое лицо, совсем другое. Еще она положительно красива, а ее нищенское одеяние еще больше подчеркивает ее природную красоту. В ней, знаете ли, есть что-то властное, какая-то природная самостоятельность. Послушайте, как она командует нашими рабочими и они ее слушаются, несмотря на ее лохмотья.
Хотя до Перрины доносились только отдельные фразы, но и то, что удалось ей расслышать, настолько поразило и в то же время обрадовало ее, что она с трудом могла побороть свое волнение. Ей очень хотелось слушать, слушать без конца разговор директора с хозяином, но ей также нужно было слушать и то, что говорили рабочие и механики. Что подумал бы господин Вульфран, если бы вдруг она сказала какую-нибудь глупость, которая выдала бы ее невнимание?
К счастью, ее роль переводчицы скоро кончилась, и она могла на некоторое время считать себя свободной. В ту же минуту господин Вульфран позвал ее:
— Орели!
На этот раз Перрина поспешила отозваться на имя, которым она заменила свое собственное.
Как и накануне, господин Вульфран посадил ее возле себя и передал ей для перевода «Отчет Дендийского торгового товарищества». Перрина должна была перевести весь отчет от начала до конца.
Когда перевод был окончен, господин Вульфран, как и накануне, приказал девочке вести его по фабричным помещениям.
— Ты сказала мне, что потеряла мать. Давно это произошло? — идя по двору, спросил старик.
— Пять недель тому назад.
— В Париже?
— В Париже.
— А твой отец?
— Я лишилась его полгода тому назад.
Старик почувствовал, как при этих словах задрожала рука девочки в его руке; очевидно, она не только на словах любила своих близких, и воспоминание о них вызвало в ней волнение, которого она не могла побороть.
— Чем занимались твои родные? — продолжал господин Вульфран, в котором загадочная девочка пробудила любопытство.
— У нас была повозка, и мы торговали.
— В окрестностях Парижа?
— Нет, в разных странах; мы путешествовали.
— А когда умерла твоя мать, ты покинула Париж?
— Да, сударь.
— Почему?
— Умирая, мама взяла с меня обещание, что я не останусь в Париже, когда ее не станет, а отправлюсь на север, к родным моего отца.
— Так зачем же ты пришла сюда?
— Когда мама умирала, нам пришлось продать все, что у нас было ценного; все эти деньги ушли на ее лечение. После похорон у меня в кармане осталось всего пять франков тридцать пять сантимов, а с этими деньгами нечего было и думать ехать по железной дороге. Тогда я решилась идти пешком.
Господин Вульфран как-то особенно зашевелил пальцами.
— Простите меня, сударь, я, кажется, надоела вам…
— О, нет, дитя мое! Напротив, я очень доволен, что ты храбрая девочка; я люблю людей с твердым характером, храбрых, решительных, таких, которые не поддаются отчаянию, и если мне доставляет удовольствие встречать эти качества у мужчин, то тем приятнее их находить в ребенке твоего возраста. Итак, значит, ты отправилась в путь, имея всего сто семь су в кармане…
— Нож, кусок мыла, наперсток, две иголки, нитки и дорожную карту, — уточнила его Перрина.
— Ты умеешь ориентироваться по карте?
— Поневоле пришлось этому научиться, разъезжая по большим дорогам… Это все, что мне удалось спасти из нашей повозки.
Он перебил ее:
— Тут направо должно быть большое дерево…
— Да, сударь, со скамейкой вокруг него.
— Пойдем туда; нам будет лучше на скамейке.
Когда они уселись, Перрина продолжала свой рассказ, не стараясь уже больше сокращать его, так как видела, что он интересен господину Вульфрану.
— Тебе не пришло в голову просить милостыню? — спросил слепой, когда она дошла в рассказе до выхода из леса, где на нее обрушилась гроза.
— Нет, сударь, никогда.
— На что же ты рассчитывала?
— Ни на что: я надеялась, что, продолжая все идти вперед, пока у меня хватит сил, я, может, и спасусь; только когда силы меня совершенно покинули, я впала в отчаяние, потому что не могла этого вынести; если бы я ослабела часом раньше, то, наверно, погибла бы.
Потом Перрина рассказала, как пришла в себя, как к ней пришла на помощь торговка тряпками, и, наконец, коротко рассказав о времени, проведенном с Ла-Рукери, перешла к своей встрече с Розали.
— Из разговора с ней я узнала, что на ваших фабриках дают работу всем желающим, и решилась попытать счастья; меня приняли и назначили в мотальню.
— Когда же ты пойдешь дальше?
Она не ожидала этого вопроса и на минуту смешалась.
— Да я и не думаю уходить отсюда, — после короткого раздумья отвечала она.
— А твои родные?
— Я их не знаю; я даже не уверена, примут ли они меня, потому что они были в ссоре с моим отцом. Я шла к ним только потому, что больше мне не у кого было просить защиты; но раз я нашла здесь работу, мне кажется, что самым лучшим для меня будет здесь и остаться. Куда я денусь, если они меня не примут? Идти искать новых приключений я боюсь, а здесь, я знаю, не умру с голода.
— А эти родные справлялись о тебе когда-нибудь?
— Никогда.
— В таком случае ты поступаешь очень благоразумно. Но если ты не хочешь идти наудачу, не зная, как тебя примут, и боясь остаться на улице, тебе все-таки следовало бы написать своим родным. Кто знает, дитя, быть может, они будут счастливы принять тебя и встретят с радостью; тогда ты найдешь там семью и поддержку, которых у тебя не будет, если ты останешься здесь; а ведь ты, я думаю, и теперь уже знаешь, как тяжело живется сиротке-девочке твоих лет.
— Да, сударь, очень тяжело, и уверяю вас, что, если бы я нашла открытые объятия, я с радостью бросилась бы в них; но если они отнесутся ко мне так же, как относились к моему отцу…
— Разве твои родные имели серьезные Причины быть недовольными твоим отцом?
— Не знаю… Отец мой был таким добрым, нежным, так любил всех, так горячо любил маму и меня, что я не пони маю, чем он мог навлечь на себя такой гнев семьи.
— Вероятно, для этого была какая-нибудь серьезная причина: но ведь, что бы они ни имели против него, не могут же они поставить в вину тебе; дети не отвечают за проступки своих родителей.
— О, если бы это было так!
Она произнесла эти слова таким взволнованным голосом, что господин Вульфран был поражен.
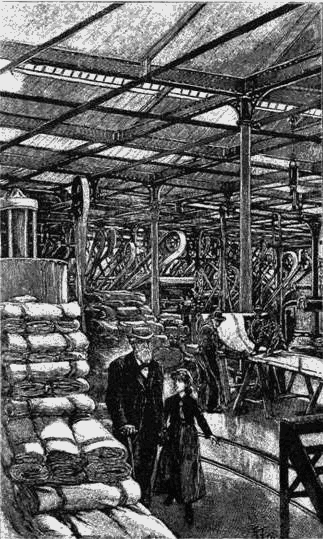 |
— Ты сама видишь, как в глубине сердца ты мечтаешь быть принятой ими.
— Но я так боюсь, что они оттолкнут меня.
— Вряд ли это случится. Скажи мне, у твоих дедушки и бабушки были еще дети, кроме твоего отца?
— Нет.
— Почему же ты думаешь, что они не будут счастливы принять тебя вместо сына, которого уже нет в живых? Ты едва ли знаешь, как тяжело жить на свете одиноким!
— О, как хорошо я знаю это…
— Одиночество юности, у которой впереди вся жизнь, вовсе не похоже на одиночество старости, у которой впереди только могила.
Перрина все время следила за выражением лица своего собеседника.
— Ну, — продолжал слепой после короткого молчания, — как же ты думаешь решить?
— Не подумайте, сударь, что я колеблюсь: волнение не дает мне говорить. Ах, если бы я могла быть уверена, что меня примут, как дочь, а не оттолкнут, как чужую!
— Дитя, ты совсем не знаешь жизни. Помни одно: что старость еще больше, чем детство, не может оставаться в одиночестве.
— Разве все старики думают так же, сударь?
— Если они этого не думают, то чувствуют.
— Вы думаете? — проговорила она, не отрывая от него глаз, вся дрожа.
— Да, они это чувствуют… — как бы про себя пробормотал он.
Потом, словно желая отогнать от себя тягостные мысли, слепой вдруг поднялся и своим обычным тоном сказал:
— В бюро.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |