"Сочинения Иосифа Бродского. Том VII" - читать интересную книгу автора (Бродский Иосиф)
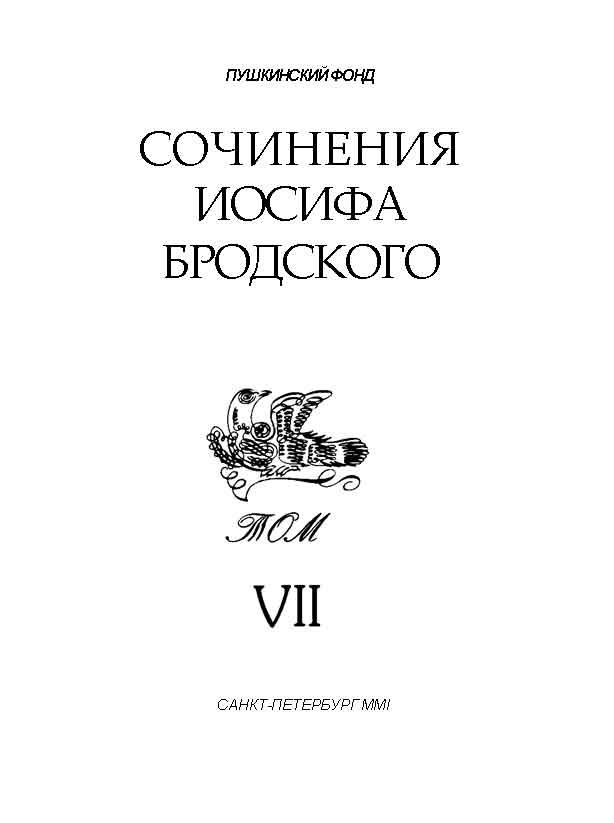 |
НАБЕРЕЖНАЯ НЕИСЦЕЛИМЫХ
Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той stazione[1], куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала.
Всякий путешественник знает этот расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся.
Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на Будду, матроны у кассы, не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало: весь запас их языка — слово «espresso» — я уже истратил; я воспользовался им дважды. Еще я купил у них первую пачку того, чему в предстоявшие годы суждено было означать «Merda Statale», «Movimento Sociale» и «Morte Sicura» [2] — свою первую пачку MS [3]. Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу.
В том маловероятном случае, если чьи-то глаза следили за моим белым лондонским дождевиком и темно-коричневым борсалино, то суммарный силуэт этих глаз бы не резал. Самой ночи поглотить его точно не составило бы труда. Мимикрия — на мой взгляд, обязательное свойство путешественника, а сложившаяся к тому времени в моем сознании Италия состояла из черно-белых фильмов пятидесятых и имеющих ту же окраску принадлежностей моего ремесла. Поэтому зима была правильным сезоном; единственное, чего, по-моему, мне не хватало, чтобы сойти за местного шалопая или carbonaro[4], был шарф. В остальном я чувствовал себя незаметным и готовым слиться с фоном или заполнить кадр малобюджетного детектива или, скорее, мелодрамы.
Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний — для меня — синоним: запах мерзлых водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других — рождественская хвоя с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намека на неуместность и тайную подводную драму содержащегося в понятии. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях stazione я уже давно был большим специалистом по неуместности и тайным драмам.
Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики, в отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтале. У меня, однако, сомнения были. Хотя бы потому, что детство было не столь уж счастливым (и редко бывает, являясь школой беззащитности и отвращения к самому себе), а что до моря, то ускользнуть из моей части Балтики действительно мог только угорь. В любом случае, на предмет ностальгии детство тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то в другом месте, вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в гипоталамусе, где хранятся воспоминания наших хордовых предков об их родной стихии — например, воспоминания той самой рыбы, с которой началась наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос.
Запах, в конечном счете, есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов — метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объема вторжения получаем привкус — запах — вонь. Это все дело молекул, и, похоже, счастье есть миг; когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.
Весь задник был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неонового CINZANO, пытавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось.
Все отдавало приездом в провинцию — в какое-нибудь незнакомое, захолустное место — возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью стоящей на ступенях stazione одинокой фигуры: удобной для забвения мишени. К тому же была зимняя ночь. И я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: «В глубине Адриатики дикой...». В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидать stazione во всем ее прямоугольном блеске неона и городского шика, увидать печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдали мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно — обледеневшем камне где-то во вселенной, безразличный к тому — где. Камнем был как бы я, пучком водорослей — моя левая кисть. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал stazione. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная.
Впервые я ее увидел за несколько лет до того, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. 180 см, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаний устах и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухавшая незнакомыми духами,— картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, умопомрачительная нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была из тех, кто увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой.
Так что мы легко переварили ее членство в итальянской компартии и попутную слабость к нашим несмышленым авангардистам тридцатых, списав и то и другое на западное легкомыслие. Думаю, будь она ярой фашисткой, мы алкали бы ее не меньше; возможно, даже больше. Она была действительно сногсшибательной, и когда в результате спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и злоба, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя, в сущности, не стоило злиться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы, однако, злились. Ибо это было хуже, чем разочарование: это было предательство ткани.
В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Все-таки мы были публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому если у кого-то правильная внешность, значит, он свой. Незатронутые внешним миром, в частности — западным, мы еще не знали, что стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину физическим продолжением и воплощением наших идеалов и принципов, а всю ее одежду, включая прозрачные вещи,—достоянием цивилизации.
Отождествление это было таким прочным, а картина такой хорошенькой, что даже теперь, годы спустя, вступив, так сказать, в другой возраст и в другую страну, я невольно взял былую манеру. Притиснутый толпой на палубе vaporetto [5] к ее шубе из нутрии, я первым делом спросил, что она думает о только что вышедших «Мотетах» Монтале. Знакомое сверкание тридцати двух жемчужин, подхваченное искрой на ободке карего зрачка и рассыпным серебром Млечного Пути,— вот и все, что я получил в ответ, но и это было немало. Возможно, находясь в самом сердце цивилизации, спрашивать о ее последних достижениях было тавтологией. Возможно, я просто допустил бестактность, поскольку автор не был местным.
Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь подсознание. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ — скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее — циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях stazione, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.
Рядом со мной картина в нутрии объясняла почти шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, скорее всего, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же заговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась, так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились и если переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем небо на мгновение затмила гигантская мраморная скобка моста, и вдруг все залил свет. «Риальто»,— сказала она нормальным голосом.
В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, нёбо, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы Прочна ни была замена последней — палуба — у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Возможно, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде,— это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей — и взаимной — опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего, потому, что эта часть Canal Grande лучше освещена.
Мы высадились на пристани Accademia, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку — скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя,— и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель. Потом завалился спать.
Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напророчила, то лишь то, что обладателем этого города мне не стать; но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдет, правда, в моем знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он скорее означал конец. В тот раз я видел ее еще дважды или трижды; и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила облик Европы сильнее любого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных campi [6] своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту «структуру» (как в те дни выражались) он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу, решил я, лучше всего возложить на какого-нибудь их одно-партийца.
Разборчивость, с одной стороны; а с другой, когда в какой-то мрачный вечер несколько времени спустя я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моем ломаном итальянском, оборвал нить связи. Так что теперь дело и вправду было за нашими красноармянскими братьями.
Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Мир мал, и сколько ни живи, не найдется ни мужчины, ни женщины, от которых он стал бы шире. Так что ищи я утешенья, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю — уже другого материка. Похоже, конечно, на обращение Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род Чистилища, на что, впрочем, намекает и сам Данте. Единственная с ней разница, что ее небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налеты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние семнадцать лет я возвращался в этот город, или повторялся в нем, с частотой дурного сна.
За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то еще сердечных приступов и подобных происшествий, каждое Рождество или накануне я сходил с поезда / самолета / парохода / автобуса и тащил чемоданы, набитые книгами и пишущими машинками, к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры. Последнюю, как правило, предоставлял кто-то из немногочисленных друзей, которыми я успел здесь обзавестись вслед за тем, как картина померкла. Позже я попробую объяснить выбор сроков (хотя такое намерение тавтологично вплоть до перехода в собственную противоположность). Сейчас же замечу только, что хоть я и северянин, мое представление о рае не определяется ни климатом, ни температурой. Я бы, кстати, охотно обошелся и без его жителей, и без вечности в придачу. Рискуя навлечь обвинения в безнравственности, признаюсь, что это представление чисто зрительное, идущее скорее от Клода, чем от кредо, и существующее только в приближениях. Лучшее из которых — этот город. Поскольку сравнение с подлинником — вне моей компетенции, то я могу этим городом и ограничиться.
Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого. Не испугавшись обвинений в безнравственности, я легко снесу упреки в поверхностности. Поверхность — то есть первое, что замечает глаз,— часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни. Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, справлюсь с работой в духе Пуссена, то есть сумею нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени дня.
Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием, буквально заезженный гондолами и вторящий воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды в «неурочное время». Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое.
Безжизненные по природе, гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам — последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в зеркальной двери открытого гардероба; немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности: теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающее город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от содержимого. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания — даже по ценам несезона — ты, как буддийский монах, избавлен и от денег и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда кстати, если не сказать — обязательно.
Теперь обо всем этом, конечно, и речи нет, поскольку здешние умники закрывают на зиму две трети таких местечек; а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезет, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдается вместе с личными вкусами хозяина по части картин, стульев, занавесок и с легким оттенком нелегальности на собственном лице, которое видишь в чужом зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться: с самим тобой. Тем не менее зима — абстрактное время года: бедное красками, даже в Италии, и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года и не всегда усмиряет нервы, оно все-таки подчиняет их инстинктам: красота при низких температурах — настоящая красота.
В любом случае, летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек — еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их — и чьей угодно — анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что йх подвижность и все, чем она питается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень — всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой — хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором.
Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживленнее при низких температурах. Отчасти, конечно, потому, что зимою нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об атавистической тяге к смене меха. Правда, ни один турист не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.
Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности, анатомии, относительно несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, едва попав сюда—в первую очередь женщины, но мужчины тоже,— оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. Это не имеет ничего общего с тщеславием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное — сама вода. Дело просто в том, что город дает двуногим представление о наружном превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Вернувшись домой, человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать и выцветать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Имеются на этот случай и друзья. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей — само собой, в кредит,— которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта того языка, на котором я это пишу,— хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются. Это все — действие здешних видов и перспектив, ибо в этом городе человек — скорее силуэт, чем набор неповторимых черт, а силуэт поддается исправлению. Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, херувимы и анонимы, девы, ангелы, святые, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно; чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине с броскими нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных, точно лодки всех видов по Лагуне. Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель — быть замеченным. А в счете самом окончательном, этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются: они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень с атавистической негой покоится на отраженных палаццо, «шпильках», гондолах и т. д., опознавая самих себя в стихии, вынесшей отражения на поверхность бытия.
Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно в жемчужном небе за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью — сырой кислород, частью — кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,— ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе,— тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере — будущее. (Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон, хороший завтрак, но плохой ужин.) Источник этого оптимизма — дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов — как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что выше-предложенное может весьма неприятно отразиться на гостиничных ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это так, этот город мне по карману — что означает: до конца моих дней — и открывает дверь щедрому понятию будущего.
Человек есть то, на что он смотрит,— по крайней мере, отчасти. Средневековое поверье, будто беременная женщина, которая хочет красивого ребенка, должна смотреть на красивые предметы, не так уж наивно, учитывая качество снов, которые видишь в этом городе. Здешние ночи бедны кошмарами — судя, разумеется, по литературным источникам (тем более, что кошмары — основная пища этих источников). Скажем, больной человек — особенно сердечник — где бы ни оказался, непременно будет периодически в ужасе просыпаться в три часа ночи, думая, что умирает. Но здесь, должен признаться, со мной ни разу не случалось ничего подобного; правда, перенося это на бумагу, я стучу по дереву.
Конечно, для управления снами есть способы получше; и многое, конечно, говорит в пользу гастрономии как способа самого лучшего. Но по итальянским меркам местное меню не настолько исключительно, чтобы объяснить концентрацию действительно волшебной как сон красоты на одних только фасадах этого города. Ибо «ответственность», как сказал поэт, «рождается во сне» [7]. Как бы то ни было, кое-какие чертежные синьки — уместный термин в этом городе! — взялись именно оттуда, и ни к чему в реальности их не возвести.
Скажи поэт просто «в постели», фраза осталась бы верной. Архитектура — наименее плотская из Муз, поскольку прямоугольность здания, его фасада в частности, разбивает — и подчас наголову — то, как ваш аналитик толкует его (здания) не столько же-но-, сколько облако- и волноподобные карнизы, лоджии и прочее. Короче говоря, чертеж всегда яснее, нежели его анализ. Однако многие здешние frontone [8] напоминают как раз изголовье, торчащее над вечно незастеленной, будь то утро или вечер, постелью. Изголовья эти намного увлекательнее, нежели потенциальное содержимое самой постели, нежели анатомия того, кого любишь, чье единственное преимущество здесь — подвижность или тепло.
Если в мраморных последствиях этих чертежей и есть что-то эротическое, то это ощущение набитого на них глаза — ощущение, сходное с тем, какое возникает в кончиках пальцев, впервые касающихся груди — или, лучше, плеча — того, кого любишь. Телескопическое ощущение контакта с клеточной бесконечностью чужого тела — ощущение, известное как нежность и пропорциональное, видимо, лишь содержащемуся в этом теле числу клеток. (Это понятно всякому, кроме фрейдистов или мусульман, верящих в паранджу. Правда, этим, наверно, объясняется, почему среди мусульман столько великих астрономов. Кроме того, паранджа — грандиозный демографический инструмент, поскольку гарантирует каждой женщине по мужчине независимо от ее внешности. Даже на самый худой конец, она гарантирует, что шок первой ночи будет, по крайней мере, взаимным. Однако при всех ориентальных мотивах в венецианской архитектуре, мусульмане в этом городе — самые редкие гости.) В любом случае, что бы ни стояло в начале — реальность или сон,— в этом городе о твоих идеях касательно загробной жизни печется его отчетливо райская наружность. Никакая болезнь сама по себе, какой бы тяжелой она ни была, не наградит вас здесь ночной картиной ада. Чтобы на этой территории пасть жертвой кошмаров, требуется или выходящий за всякие рамки невроз, или сравнимая совокупность грехов, или то и другое сразу. Такое, конечно, случается, но не слишком часто. В более же легких случаях того и другого пребывание здесь — лучшая терапия, на чем и держится весь здешний туризм. В этом городе спишь крепко, поскольку ноги слишком устают, баюкая надорванные нервы или больную совесть.
Возможно, лучшее доказательство бытия Божия — то, что мы не знаем, когда умрем. Иными словами, будь жизнь чисто человеческим делом, человека при рождении снабжали бы сроком, или приговором, точно определяющим продолжительность его пребывания здесь — как это делается в лагерях. Из того, что этого не происходит, следует, что дело это не вполне человеческое; что в дело вмешивается нечто за пределами нашего воображения и контроля. Что имеется сила, не подлежащая ни нашей хронологии, ни, если на то пошло, нашему понятию о заслугах. Отсюда все наши попытки предсказать или вообразить собственное будущее, отсюда наша надежда на врачей и цыганок, которая усиливается, когда мы больны или несчастны, и которая есть не что иное, как попытка приручить — или демонизировать — божественное. То же верно и для нашей тяги к красоте, как природной, так и рукотворной, поскольку бесконечное подлежит оценке лишь со стороны конечного. Если вынести благодать за скобки, то причины взаимности остаются непостижимыми — если только не искать благодушных оправданий тому, что за все в этом городе платишь так дорого.
По профессии, или, скорее, по кумулятивному эффекту многолетних занятий, я писатель; по способу зарабатывать — преподаватель, учитель. Зимние каникулы в моем университете — пять недель, что отчасти объясняет сроки моих паломничеств — но лишь отчасти. У рая и каникул то общее, что за них надо платить и монетой служит твоя прежняя жизнь. Соответственно, мой роман с этим городом — с этим городом именно в это время года — начался давно, задолго до того, как я обзавелся умениями, имеющими спрос, и смог позволить себе эту страсть.
Примерно в 1966 году — мне было тогда двадцать шесть — один приятель дал мне почитать три коротких романа французского писателя Анри де Ренье, переведенные на русский замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым. В тот момент я знал о Ренье только, что он один из последних парнасцев, поэт неплохой, но ничего особенного. О Кузмине — кое-что наизусть из «Александрийских песен» и «Глиняных голубок» и славу великого эстета, набожного православного и отважного гомосексуалиста — по-моему, в таком порядке.
Мне достались эти романы, когда автор и переводчик были давно мертвы. Книжки тоже дышали на ладан: дешевые издания конца тридцатых, практически без переплетов, рассыпались в руках. Не помню ни заглавий, ни издательства; сюжетов, честно говоря, тоже. Почему-то осталось впечатление, что один назывался «Провинциальные забавы», но не уверен. Конечно, можно бы уточнить, но одолживший их приятель умер год назад; и я проверять не буду.
Они были помесью плутовского и детективного романа, и действие, по крайней мере одного, который я про себя зову «Провинциальные забавы», происходило в зимней Венеции. Атмосфера сумеречная и тревожная, топография, осложненная зеркалами; главные события имели место по ту сторону амальгамы, в каком-то заброшенном палаццо. Подобно многим книгам двадцатых, роман был довольно короткий — страниц двести, не больше — и в бодром темпе. Тема обычная: любовь и измена. Самое главное: книга была написана короткими — длиной в страницу или полторы — главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах, Петербург, перемещенный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, а именно: качество рассказа зависит не от сюжета, а оттого, что за чем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Если читатель теперь мучается, причина в этом.
Потом другой приятель, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения сложенный гармошкой набор фотооткрыток в сепии, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale[9], прикрывший валик на моем диване,— сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и — по нарастающей — таблетками и ампулами. Потом приятель, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр пиратской и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богардом. Увы, фильм оказался не первый сорт, да и от самой новеллы я был не в восторге. Тем не менее долгий начальный эпизод с Богардом в пароходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом.
Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус и вот-вот станет объемным. Он был черно-белый, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, на заднем плане слышался струнный гул Вивальди и Керубини, облака заменяла женская плоть в драпировках от Беллини / Тье-поло / Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, если вышеупомянутый угорь когда-нибудь ускользнет из Балтийского моря, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить, а на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин.
Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в двадцать восемь лет человек с мозгами всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполним ни водной своей части. Так что когда тридцати двух лет от роду я внезапно оказался в недрах другого континента, посреди Америки, то первую университетскую получку истратил на осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда-обратно Детройт — Милан — Детройт. Самолет был забит итальянцами с заводов Форда и Крайслера, едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли беспошлинную торговлю, они ринулись туда, и на секунду мне представился наш «Боинг», летящий над Атлантикой, словно распятие: раскинув крылья, хвостом вниз. Потом поездка на поезде, и в финале ее — единственный человек, которого я знал в этом городе. Финал был холодным, сырым, черно-белым. «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою», цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро. Воскресное утро, и все колокола звонили.
Я всегда придерживался той идеи, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Возможно, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — поскольку я северянин — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, новой пригоршни времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью.
Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно установить какую-то эволюционную — если не просто атавистическую или автобиографическую — связь между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на суше оставило время-оно-же-вода. Плюс, есть несомненное соответствие — если не прямая связь — между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем, не повредив.
Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени — три-четыре дня,— и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале сатро с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь тупиком. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление — вбок. Он окружает тебя, как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких взмахах руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска «А destra, a sinistra, dritto, dritto» [10], легко узнает рыбу.
Запутавшаяся в водорослях сеть — возможно, более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу, и жизнь развивается по имманентной логике сплетни. Территориальный\императив человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму (минимальному здесь), сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то темными делами, и как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит испытующий взгляд ветхозаветной остроты, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката лучше нанять со стороны. Приезжим, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не радует то, что зарисовывает художник или снимает фотолюбитель. Но все-таки кривотолки как принцип городской планировки (которая здесь становится членораздельной только задним числом) лучше современных квадратно-гнездовых окраин и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая, как пересуды за спиной, никогда не кончается. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба неприступны для чужака. Правда, раз или два за эти семнадцать лет я сумел втереться в святая святых Венеции, в лабиринт за амальгамой, описанный де Ренье в «Провинциальных забавах». Это произошло таким окольным путем, что теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами и изгибами, приведшими тогда к моему попаданию в этот лабиринт. Кто-то что-то кому-то сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал и позвонил четвертому, в результате чего однажды вечером энный человек пригласил меня на прием в свое палаццо.
Палаццо досталось энному совсем недавно, после почти трехвековых юридических битв, которые вели несколько ветвей семьи, подарившей миру пару венецианских адмиралов. Соответственно, два огромных с великолепной резьбой кормовых фонаря брезжили в гроте высотой в два этажа — во дворе палаццо, заполненном всяческими флотскими штуками, от Возрождения до наших дней. Сам энный был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет ожидания и к великому огорчению остальных — судя по всему, многочисленных — членов семейства. К флоту он отношения не имел: немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент заметнее всего в этом сорокалетнем, худом, невысоком существе в сером двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьезно болен. Пергаментная желтизна кожи указывала на перенесенный гепатит — или, может быть, на простую язву. Он ел только консоме и вареные овощи, пока его гости объедались тем, что имеет право на отдельную главу, если не книгу.
Итак, собравшиеся отмечали вступление энного в права, равно как и открытие основанного им издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы трое: коллега-писательница, ее сын и я — прибыли, прием был в самом разгаре. Народу была масса: местные и слегка международные светила, политики, знать, завсегдатаи кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени яркости, велосипедная звезда, американские профессора. Плюс компания хихикающих, резвых гомосексуальных молодцов, неизбежных в наши дни всюду, где происходит что-то мало-мальски приличное. Во главе компании стоял довольно безумный и злобный петух средних лет — очень белокурый, очень голубоглазый, очень пьяный мажордом этого здания, чьи дни здесь были сочтены и который поэтому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, ввиду его перспектив.
Они слишком галдели, и энный вежливо предложил нам троим осмотреть остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте. Покинув его кабину, двадцатый, девятнадцатый и большую долю восемнадцатого века мы оставили за — или, скорее, под — собой, точно нижние пласты на дне узкой шахты.
Мы оказались на длинной, плохо освещенной галерее со сводчатым потолком, кишащим путти. Свет все равно бы не помог, поскольку стены были закрыты большими, от пола до потолка, темно-коричневыми картинами, которые, очевидно, были написаны на заказ для этого помещения и перемежались едва различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия, мифологические сцены; самой светлой краской была винно-красная. Это были копи тяжелого порфира, заброшенные, во власти вечного вечера, где за холстами таились рудные пласты; безмолвие здесь царило поистине геологическое. Нельзя было спросить «Что это? Чья работа?» из-за неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно постороннему организму. Еще это было похоже на подводное путешествие, словно мы составляли собой рыб, проходящих сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту, но не раскрывающих рта, чтобы не наглотаться воды.
На дальнем конце галереи наш хозяин порхнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена семнадцатого века. Судя по книгам за проволочной сеткой в красном, размером с гардероб, шкафу, век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свиную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену — чуть больше, и он превратился бы в мыслителя, с плачевными последствиями для его манер или имущества. В остальном комната была довольно голой. Свет в ней был не многим лучше, чем в галерее; я различил стол и большой выцветший глобус. Затем хозяин повернул ручку, и я увидел его силуэт в дверном проеме, ведущем в анфиладу. Я заглянул в нее и вздрогнул: анфилада казалась вязкой и дурной бесконечностью. Я глотнул воздуха и ступил в нее.
Это была длинная череда пустых комнат. Рассудком я понимал, что длиннее параллельной ей галереи она быть не может. Тем не менее, была. У меня возникло чувство, что я перемещаюсь не столько в обычной перспективе, сколько по горизонтальной спирали, где приостановлено действие оптических законов. Каждая комната знаменовала твое дальнейшее убывание, следующую степень твоего небытия. Дело было в трех вещах: драпировках, зеркалах, пыли. Хотя иногда угадывалось назначение комнаты — столовая, салон, возможно, детская,— по большей части их роднило отсутствие понятной функции. Они были примерно одного размера или, по крайней мере, не сильно в этом отличались. И во всех окна были зашторены и два-три зеркала украшали стены.
Каким бы ни был первоначальный цвет и узор портьер, теперь они стали бледно-желтыми и очень ветхими. Прикосновение пальца, не говоря уже о бризе, означало бы их настоящую гибель, о чем говорили волокна, устилавшие паркет. Эти занавеси лысели, и на некоторых складках виднелись широкие проплешины, словно ткань ощущала, что круг ее бытия замкнулся, и возвращалась в свое дотканное состояние. Наверно, и наше дыхание было слишком фамильярным, но всё лучше свежего кислорода, в котором, как и в истории, ткань не нуждалась. Речь шла не о тлении, не о распаде, но о растворении в прошедшем времени, где твой цвет и расположение нитей не имеют значения, где, узнав, что с ними может случиться, они перестроятся и вернутся, сюда или куда-то еще, в ином обличье. «Простите,— словно говорили они,— в следующий раз мы будем прочнее».
К тому же — зеркала, два или три на комнату, разных размеров, но чаще всего прямоугольные. Все в изящных золотых рамах, с искусными гирляндами или идиллическими сценками, привлекавшими к себе больше внимания, чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле, рамы были логичней своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков отвыкнув отражать что-либо, кроме стены напротив, зеркала отказывались вернуть тебе твое лицо, то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать де Ренье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамах все меньше и меньше себя, все больше и больше темноты. Постепенное вычитание, подумал я; чем-то оно кончится? И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном — три на четыре фута — прямоугольнике в золоченой раме черное, как смоль, ничто. Глубокое и манящее, оно словно вмещало собственную перспективу — другую анфиладу, быть может. На секунду закружилась голова; но, не будучи романистом, я не воспользовался возможностью и предпочел дверь.
Всю дорогу хватало потусторонности; тут ее стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали; я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль; цвета и формы всего окружающего смягчались ее серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено все, иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданно благотворным эффектом: подчеркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно ее слой был толстым и густым; более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждет пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт; но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникнет в сами предметы, подумал я, сольется с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала; попадаются довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться: они просто посереют, раз время не прочь принять их форму, как оно это уже сделало в веренице пустых комнат, где оно настигало материю.
Последней была хозяйская спальня. Там царила гигантская, но незастеленная кровать с пологом: реванш адмирала за узкую койку на корабле или, возможно, знак уважения к самому морю. Второе вероятней, учитывая чудовищное штукатурное облако путти, нависшее над кроватью и игравшее роль балдахина. Вообще-то, это была скорее лепнина, чем путти. Лица херувимов выглядели до ужаса гротескно: все они, пристально глядя на кровать, улыбались порочной, развратной улыбкой. Они напомнили мне о смешливом молодняке внизу; и тут я заметил переносной телевизор в углу этой вообще-то абсолютно пустой комнаты. Я вообразил, как мажордом забавляет здесь избранника — судорожный остров нагой плоти в море белья, под изучающими взорами пыльного гипсового шедевра. Как ни странно, вообразил без брезгливости. Напротив, мне показалось, что с точки зрения времени как раз здесь такие забавы уместны, ибо не приносят плода. В конце концов, три века здесь не было полновластного хозяина. Войны, революции, великие открытия, гении, эпидемии не имели сюда доступа из-за юридических препятствий. Действие причинности прекратилось, поскольку ее носители в человеческом облике шагали по этой перспективе только в качестве смотрителей, раз в несколько лет в лучшем случае. Так что корчащийся островок в простынном море, в сущности, соответствовал окружающей недвижимости, поскольку и она никогда в жизни не смогла бы ничего породить. К счастью, остров — или правильней будет: вулкан? — мажордома существовал только в глазах путти. На глади зеркала его не было. Как и меня.
Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая nebbia, превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пароходное сообщение прервано, самолеты неделями не садятся, не взлетают, магазины не работают, порог уже не завален почтой. Словно чья-то грубая рука вывернула все эти анфилады наизнанку и окутала город подкладкой. Лево, право, верх, низ тасуются, и не заблудиться ты можешь лишь будучи здешним или имея чичероне. Туман густой, слепой, неподвижный. Последнее, впрочем, выгодно при коротких вылазках, скажем, за сигаретами, поскольку можно найти обратную дорогу по тоннелю, прорытому твоим телом в тумане; тоннель этот остается открыт в течение получаса. Наступает пора читать, весь день жечь электричество, не слишком налегать на самоуничижительные мысли и кофе, слушать зарубежную службу Би-би-си, рано ложиться спать. Короче, это пора, когда забываешь о себе, по примеру города, утратившего зримость. Ты бессознательно следуешь его подсказке, тем более если, как и он, ты один. Не сумев здесь родиться, можешь, по крайней мере, гордиться тем, что разделяешь его невидимость.
Меня, впрочем, содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше, чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычками романиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни. Не сумев здесь родиться, я не сумел, видимо, и еще чего-то, когда выбрал занятие, редко имеющее конечным пунктом бельэтаж. С другой стороны, есть, наверно, какой-то извращенный снобизм в привязанности к здешнему кирпичу, к его красным, воспаленным мышцам в струпьях слезающей штукатурки. Как яйца, особенно когда я готовлю завтрак, наводят меня на мысль о неизвестной цивилизации, дошедшей до идеи производства пищевых консервов органическим способом, так и кирпичная кладка напоминает об альтернативном устройстве плоти, не освежеванной, конечно, но все равно алой, составленной из мелких, одинаковых клеток. Стена или дымоход как еще один автопортрет вида на элементарном уровне. В конце концов, как и сам Всемогущий, мы делаем всё по своему образу, за неимением более подходящего образца, и наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди.
Как бы то ни было, порог обычных венецианских квартир я переступал редко. Кланы не любят чужаков, а венецианцы — народ весьма клановый, к тому же островитяне. Мешал и мой итальянский, бестолково скачущий около устойчивого нуля. За месяц или около того он всегда улучшался, но затем я садился в самолет, еще на один год уносивший меня от возможности этот улучшенный язык применить. Поэтому общался я с англоговорящими туземцами и американскими эмигрантами, в чьих домах встречал знакомый вариант — если не уровень — изобилия. Что касается говоривших по-русски персонажей из местного университета, то меня чуть не тошнило от их отношения к моей родной стране и от их политических взглядов. Примерно так же действовали на меня и два-три местных писателя и профессора: слишком много абстрактных литографий по стенам, аккуратных книжных полок и африканских безделушек, молчащих жен, бледных дочерей, разговоров, вяло текущих от последних новостей, чужой славы, психотерапии, сюрреализма к объяснениям, как мне быстрее добраться до отеля. Разнородность стремлений, сведенная на нет тавтологичностью конечного результата,— если нужна формула, то вот она. Я мечтал тратить дни в пустой конторе какого-нибудь здешнего поверенного или аптекаря, глазея на секретаршу, вносящую кофе из бара поблизости, болтая о ценах на моторки или о положительных чертах Диоклетиана, поскольку здесь практически у всех сносное образование и страсть к обтекаемым предметам. Я был бы не в силах подняться со стула, клиентов было бы мало; наконец, хозяин запирал бы помещение и мы отправлялись бы в «Gritti» или «Danieli», где я бы заказывал выпивку; если бы мне везло, к нам присоединялась бы секретарша. Мы устраивались бы в глубоких креслах, злословя о новых немецких десантах или вездесущих японцах, которые, кося объективами, возбужденно подглядывают, словно новые старцы, за бледными голыми мраморными бедрами Венеции-Сусанны, переходящей вброд холодные, крашенные закатом, плещущие воды. Потом он, может, звал бы к себе поужинать, и его беременная жена, возвышаясь над дымящимися макаронами, отчитывала бы меня за затянувшееся холостячество... Видимо, перебрал, смотря неореалистов и читая Звево. Для реализации подобных фантазий требуется то же, что для вселения в бельэтаж. Я этим требованиям не удовлетворяю; и никогда не задерживался здесь настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться окончательно. Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей, причем аккуратно. Убедительного результата достичь не удается никому, но иногда хорошую службу способна сослужить супруга в бегах или политическая система. О чужих домах, о незнакомых лестницах, странных запахах, непривычной обстановке и топографии — вот о чем грезят собаки из пословицы, слабоумные и одряхлевшие, а не о новых хозяевах. И фокус в том, чтобы их не тревожить.
Поэтому я ни разу не выспался, тем более не согрешил в чугунной фамильной кровати с девственным, хрустящим бельем, с покрывалом, отделанным вышивкой и бахромой, с облачными подушками в изголовье, над которым висит маленькое распятие, инкрустированное перламутром. Я никогда не наводил праздного взгляда на олеографию Мадонны, ни на выцветшие фото отца / брата / дяди / сына в берсальерском шлеме с черными перьями, ни на ситец занавесок, ни на фарфор или майолику кувшина, стоящего на темном комоде, набитом местными кружевами, простынями, полотенцами, наволочками, бельем, которые выстирала и выгладила на кухонном столе молодая, сильная, загорелая, почти смуглая рука, в то время как лямка сползала с плеча и серебряный бисер пота блестел на лбу. (Что до серебра, то оно, по всей вероятности, засунуто под стопку простынь в одном из ящиков.) Все это, разумеется, из кино, где я не был ни звездой, ни статистом, из кино, которое, насколько я понимаю, больше не будут снимать, а если будут, то с другим реквизитом. У меня в уме фильм называется Nozze di Seppia [11] и обходится без сюжета, кроме сцены со мной, идущим по Fondamenta Nuove с лучшими в мире красками, разведенными на воде, по левую руку и кирпичной бесконечностью по правую. На мне должна быть кепка, темный пиджак и белая рубашка с открытым воротом, выстиранная и выглаженная той же сильной загорелой рукой. У Арсенала я взял бы направо, перешел двенадцать мостов и по via Garibaldi пошел бы к Giardini, где на железном стуле в кафе «Paradiso» сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан chinotto, лежали panino[12], потрепанный «Моно-библос»[13] Проперция или «Капитанская дочка»; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию. Она подняла бы глаза горчично-медового цвета, остановила взгляд на фигуре в плотном пиджаке и сказала: «Ну и пузо!» Если что и спасет этот фильм от провала, то только зимнее освещение.
Когда-то я видел фотографию военной казни. Три бледных, тощих человека среднего роста с непримечательными лицами (камера снимала их в профиль) стояли у свежевырытой ямы. У них была внешность северян — снимали, по-моему, в Литве. За каждым стоял немецкий солдат, приставив пистолет к затылку. Невдалеке виднелась группа солдат — зрителей. Дело происходило в начале зимы или поздней осенью, судя по шинелям. Осужденные, все трое, тоже были одеты одинаково: кепки, плотные черные пиджаки поверх белых рубашек без воротничков — униформа жертв. Кроме всего прочего, им было холодно. Поэтому они втянули головы. И еще потому, что им предстояло умереть: фотограф нажал на кнопку за миг до того, как солдаты — на курок. Трое деревенских парней втянули головы в плечи и сощурились, как ребенок в ожидании боли. Они ждали, что будет больно, может, ужасно больно, они ждали оглушительного — так близко к ушам! — звука выстрела. И они зажмурились. Ведь репертуар человеческих реакций так ограничен! К ним шла смерть, а не боль; но их тела отказывались различать.
Однажды днем в ноябре 1977 года в гостиницу «Londra», где я жил за счет и по приглашению «Фестиваля инакомыслия», мне позвонила Сюзанна Зонтаг, остановившаяся в «Gritti» на тех же основаниях. «Иосиф,— сказала она,— что ты делаешь вечером?» «Ничего,— ответил я,— а что?» — «Я тут на площади наткнулась на Ольгу Радж. Ты с ней знаком?» — «Нет. Ты хочешь сказать — подруга Паунда?» — «Да,— ответила Сюзанна,— и она позвала меня вечером. Ужасно неохота идти одной. Не составишь компанию, если нет других планов?» Их не было, и я сказал, что, конечно, составлю, слишком хорошо понимая ее опасения. Мои, думал я, были бы даже сильнее. Начать с того, что в моей области Эзра Паунд важная шишка, практически целая отрасль. Масса американских графоманов обрели в нем и учителя и мученика. В молодости я довольно много переводил его на русский. Переводы вышли дрянь, но чуть не были напечатаны, заботами какого-то нациста в душе, работавшего в редакции солидного журнала (теперь он, конечно, ярый националист). Оригинал мне нравился за нахальную свежесть, за подтянутый стих, за стилистическое и тематическое разнообразие, за размах культурных ассоциаций, в ту пору мне недоступный. Еще мне нравился его лозунг «это нужно обновить» — то есть нравился, пока до меня не дошло, что настоящая причина «обновления» в том, что «это» вполне устарело; что, в конечном счете, мы находимся в ремонтной мастерской. Что касается его невзгод в лечебнице Св. Елизаветы, то, на русский взгляд, выходить из себя тут было не из-за чего и во всяком случае это было лучше девяти граммов свинца, которые бы он заработал в другом месте за свой радиотреп в войну. «Cantos» тоже не произвели особого впечатления: главная ошибка была стандартная — «поиски красоты». Для человека со столь давней итальянской пропиской странно не понимать, что целью красота быть не может, что она всегда побочный продукт иных, часто весьма заурядных поисков. Стоило бы, по-моему, издать его стихи и речи в одном томе, без всяких ученых предисловий, и посмотреть, что получится. Поэт первый обязан помнить, что время не знает о расстоянии между Рапалло и Литвой. Еще я думал, что достойней признать, что испохабил свою жизнь, чем коченеть в позе гонимого гения, который, вернувшись в Италию и вскинув руку в фашистском салюте, потом отрицает, что этот жест что-то значил, дает уклончивые интервью и надеется плащом и посохом придать себе облик мудреца, в итоге приобретая сходство с Хайле Селассие. Он все еще котировался у некоторых моих друзей, и теперь меня ждала встреча с его старухой.
Адрес был в Salute sestiere, районе города с самым большим, по моим сведениям, процентом иностранцев, особенно Aлglos. Немного поплутав, мы нашли нужное место — не так далеко, в сущности, от дома, где в десятые годы жил де Ренье. Мы позвонили в дверь, и первое, что я увидел за спиной маленькой женщины с блестящими черными глазками, был бюст поэта работы Годье-Бжешка, стоящий на полу в гостиной. Скука охватила внезапно, но прочно.
Подали чай, но едва мы сделали первый глоток, как хозяйка — седая, тщедушная, опрятная дама с запасом сил еще на много лет — подняла острый палец, попавший на невидимую умственную пластинку, и из поджатых губ полилась ария, партитура которой стала общественным достоянием как минимум с 1945 года. Что Эзра не был фашистом; что они боялись, что американцы (довольно странное заявление от американки) отправят его на стул; что о творившемся он ничего не знал; что в Рапалло немцев не было; что он ездил из Рапалло в Рим только дважды в месяц на передачу; что американцы опять-таки ошибались, считая, что Эзра сознательно... В какой-то момент я отключился — с тем большей легкостью, что английский мне не родной,— и просто кивал в паузах или когда она прерывала монолог непроизвольным как тик «Gapito?»[14]. Пластинка, решил я; «голос ее хозяина». Будь вежлив и не перебивай даму; это ахинея, но она в нее верит. Во мне, видимо, есть часть, всегда уважающая физическую сторону речи, независимо от содержания; само движение чьих-то губ существенней того, что их движет. Я глубже уселся в кресло и попытался сосредоточиться на печенье, поскольку ужина не подали.
Прервал дремоту голос Сюзанны, из чего я заключил, что пластинка кончилась. В его тембре было что-то необычное, и я навострил уши. Сюзанна говорила: «Но, Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач. Будь дело только в передачах, тогда Ээра был бы просто второй Токийской Розой»[15]. Это был один из шикарнейших выпадов, когда-либо слышанных мной. Я посмотрел на Ольгу. Она, нужно признать, встретила удар по-солдатски. Точнее говоря, профессионально. Или же просто не поняла Сюзанну, хотя вряд ли. «А из-за чего же?» — поинтересовалась она. «Из-за антисемитизма-Эзры»,— ответила Сюзанна, и я увидел, как палец старой дамы корундовой иглой снова скакнул в бороздку. На этой стороне пластинки было записано: «нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал...» — столь же знакомая, столь же длинная песня — минут на сорок пять; но нам уже было пора идти. Мы поблагодарили старую даму за вечер и распрощались. Лично я не испытывал грусти, обычно возникающей, когда уходишь из дома вдовы или вообще оставляешь кого-то одного в пустом месте. Старая дама выглядела молодцом, не бедствовала; плюс ко всему наслаждалась комфортом своих убеждений — и чтобы его сохранить, она, я понял, пойдет на все. С фашистами — молодыми или старыми — я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili[16].
Ах, вечная власть языковых ассоциаций! Ах, эта баснословная способность слов обещать больше, чем может дать реальность! Ах, вершки и корешки писательского ремесла. Разумеется, «Набережная Неисцелимых» отсылает к чуме, к эпидемиям, век за веком наполовину опустошавшим город с регулярностью производителя переписи. Название это вызывает в памяти безнадежные случаи — не столько по мостовой бредущие, сколько на ней лежащие, буквально испуская дух, в саванах, в ожидании, пока за ними приедут — или, точнее, приплывут. Факелы, жаровни, защищающие от заразных испарений марлевые маски, шелест монашеских ряс и облачений, реяние черных плащей, свечи. Похоронная процессия понемногу превращается в карнавал, или даже в прогулку, когда приходится носить маску, потому что в этом городе все друг друга знают. Добавьте сюда же чахоточных поэтов и композиторов; добавьте приверженцев маразматических взглядов и влюбленных в это место неисправимых эстетов — и набережная заслужит свое имя, реальность нагонит язык. И добавьте сюда же, что связь между чумой и литературой (поэзией в частности, особенно — итальянской поэзией) была тесной и запутанной с самого начала. Что спуск Данте в преисподнюю не меньше, чем путешествиям Гомера и Вергилия — проходным, в сущности, сценам в «Илиаде» и «Энеиде»,— обязан средневековым византийским текстам о холере, с их традиционным мотивом прежде временного погребения и последующих странствий души. Сновавшие по пораженному холерой городу ревностные агенты преисподней высматривали обезвоженное тело, приникали губами к ноздрям и высасывали его жизненный дух, тем самым объявляя его мертвым и готовым к похоронам. Оказавшись в преисподней, человек проходил по бесконечным залам и покоям, заявляя, что отправлен в загробное царство несправедливо, и требуя пересмотра дела. Добившись его — обычно после встречи с трибуналом под председательством Гиппократа,— он возвращался, полный рассказов о тех, кого он в подземных залах и палатах встретил: о царях, царицах, героях, о славных и бесславных смертных его времени, раскаявшихся, смирившихся, непокорных. Звучит знакомо? Это что касается ассоциативной силы данного ремесла. Никогда не знаешь, что чем порождено: то ли язык опытом, то ли опыт — языком. Оба они способны породить массу чего. Когда тяжело болен, воображаешь все виды последствий и осложнений, которые, насколько известно, никогда не реализуются. Может, это и есть метафорическое мышление? Ответ, я полагаю, утвердительный. С той лишь разницей, что когда человек болен, то надеется, даже вопреки очевидности, вылечиться, избавиться от болезни. Поэтому завершение болезни — это и завершение ее метафор. Метафора — или, говоря шире, сам язык — вещь, в общем и целом, незавершимая, она хочет продления — загробной жизни, если угодно. Иными словами (без всяких каламбуров), метафора неисцелима. Добавьте ко всему этому себя, носителя данного ремесла или данного вируса (а то и двух, уже точащих зубы на третий), шаркающего ветреной ночью вдоль Fondamenta, название которой ставит вам диагноз независимо от характера вашего недуга.
Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности — зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из «Нешнл Джиографик». Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия San Giorgio, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Palazzo Ducale, коренастые ребята в шубах наяривают «Eine Kleine Nachtmusik»[17], специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного сатро. Эспрессо на дне твоей чашки — единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз, точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов, как бегущие сломя голову школьники — прутьями по железной ограде парка или сада. «Изобрази»,— кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более — на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодаку за финансовой помощью — или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует это место, пока оно освещено зимним светом, акции Кодака — лучшее помещение капитала.
На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. «Изобрази»,— шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона San Zaccaria после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Zaccaria час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц — достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.
А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Оно может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенном роде занятий и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа — драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры,— пришедшие к нам из мифологии (достойной звания античного сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. При этом ничего фрейдистского, полили бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкование снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам — и к херувимам. Вероятно, и херувимы — этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую человеческое поголовье.
Однако из херувимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним вас причисляют чаще, чем к первым; хотя бы потому, что на нашем свете крылья обретаешь только в ВВС. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мраморных, бронзовых, гипсовых небылиц — конечно, в драконе, а не в св. Георгии. При ремесле, заставляющем макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих. В конце концов, святого без чудовища не бывает — не говоря уже о родстве чернил с осьминогами. Но даже не разводя эту идею ни чернилами, ни водой, ясно, что это город рыб, как пойманных, так и плавающих на воле. И, увиденный рыбой — если наделить ее человеческим глазом во избежание пресловутых искажений,— человек предстал бы чудовищем; может, и не осьминогом, но уж точно четвероногом. Чем-то, во всяком случае, гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гоняются.
Спроси простую золотую рыбку — даже не пойманную, а на свободе,— как я выгляжу, она ответит: ты чудовище. И убежденность в ее голосе покажется странно знакомой, словно глаза у нее гор-чично-медового цвета.
Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ты или дичь. Точно, что не святой, но пока что, возможно, и не полноценный дракон; вряд ли Тесей, но и не изголодавшийся по девушкам Минотавр. Впрочем, греческая версия звучит привычней, поскольку победитель не получает ничего, поскольку убийца и убитый родня. Чудовище ведь приходилось единоутробным братом награде; во всяком случае — итоговой жене героя. Ариадна и Федра были сестры, и, насколько известно, храбрый афинянин поимел обеих. Метя в зятья к критскому царю, он вполне мог пойти на убийственное задание, чтобы улучшить репутацию своей будущей семьи. От девиц — как от внучек Гелиоса — ждали чистоты и блеска; об этом же говорят и их имена. Ведь даже мать, Пасифая, при всех своих темных влечениях, была Ослепй-тельно Яркой. И возможно, она отдалась темным влечениям и, тем самым, быку как раз затем, чтобы доказать, что природе безразличен принцип большинства, так как рога быка напоминают лунный серп. Возможно, светотень интересовала ее сильнее, чем скотоложство, и она затмила собой быка по чисто оптическим соображениям. И тот факт, что бык, чья нагруженная символами родословная восходит к наскальной живописи, был настолько слеп, что обманулся искусственной коровой, сооруженной для Пасифаи Дедалом, доказывает, что ее предки берут верх в системе причинности, что преломленный ею свет Гелиоса все еще — после четверых детей (двух прекрасных дочерей и двух никчемных сыновей) — ослепительно ярок. А по поводу причинности следует добавить, что главный герой сюжета — именно Дедал, кроме очень правдоподобной коровы, построивший — на этот раз по просьбе царя — тот самый лабиринт, где быкоголовый отпрыск и его убийца однажды столкнулись с печальными последствиями для первого. В каком-то смысле, вся история родилась в мозгу Дедала, и в особенности лабиринт, так похожий на мозг. В каком-то смысле, все между собой в родстве, по крайней мере — преследователь и преследуемый. Поэтому неудивительно, что блуждания по улицам этого города, чьей самой крупной колонией в течение примерно трех веков был Крит, производят довольно тавтологическое впечатление, особенно когда смеркается, то есть когда убывают Пасифаины, Ариаднины и Федрины свойства города. Иными словами, особенно вечером, когда предаешься самоуничижению.
Светлое пятно здесь — конечно, множество львов: крылатых, с книгой, раскрытой на «Мир тебе, св. Марк Евангелист», или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своего ремесла я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может, но чье умение читать более сомнительно. Во всяком случае, лапой листать страницы удобнее, чем копытом. В этом городе львы на каждом углу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема и даже поместил одного на обложку книги: то есть на то, что в моем роде занятий точнее всего соответствует фасаду. И все же они — чудовища, хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в бескрылом состоянии. (Греки со своим быком оказались большими реалистами, несмотря на его неолитическую родословную.) Что до самого евангелиста, то он хотя и умер в Египте, в Александрии,— но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари. В общем, со львами дел христианский мир почти не имел, поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях. Что, конечно, сблизило их впоследствии с отцами-пустынниками; а помимо этого, христиане сталкивались с этим зверем лишь в качестве его пищи в римских цирках, куда львов ввозили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность — лучше сказать: их небывалость — и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с богами. Так что не совсем нелепо сажать льва на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража вечного упокоения св. Марка; если не церковь, то саму Венецию можно счесть львицей, защищающей львенка. К тому же, в этом городе церковь и государство слились совершенно византийским образом. Единственный случай, должен заметить, когда такое слияние обернулось, и очень скоро, выгодой для подданных. Поэтому неудивительно, что, как настоящий светский лев, он здесь в центре внимания и держится поэтому вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе, в конечном счете, имеют право зваться чудовищами (пускай добродушными), ибо в природе никогда не существовали. И еще потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и самого Спасителя. С другой стороны, зверя изваять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более — в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки.
Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золота горчично-медовые, обладательница последних и я увидели египетский военный корабль, точнее легкий крейсер, швартовавшийся у Fondamenta dell'Arsenale, рядом с Giardini. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ощетинившееся всевозможными антеннами, радарами, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычных орудий главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже и вблизи пришлось бы подумать, потому что форма и выучка экипажа отдавали Британией. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к темному пурпуру. Пока мы недоумевали, что привело сюда корабль — нужда в ремонте? новая помолвка Венеции и Александрии? надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке? — вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали: «Алла! Акбар Алла! Акбар!» Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву, обе мачты мгновенно превратились в минареты. Крейсер обернулся Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере, она сократилась на шесть веков: христианство стало ровесником ислама. Босфор захлестывал Адриатику, и нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура.
Зимними вечерами море, гонимое встречным восточным ветром, до краев, точно ванну, заполняет все каналы, иногда через край. Никто не бежит с первого этажа, крича: «Прорвало!», так как первого этажа нет. Город стоит по щиколотку в воде, и лодки, «как животные, на привязи у стен» (если вспомнить Кассиодо-ра), встают на дыбы. Башмак паломника, отведав воды, сушится в номере на батарее; туземец ныряет в чулан, чтобы выудить пару резиновых сапог. «Acqua alta» [18] — говорит голос по радио, и уличная толчея спадает. Улицы пустеют, магазины, бары, рестораны и траттории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм, пока мостовая ненадолго, поверхностно сравнивается с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни клиру, ни прихожанам хождение по водам не в новинку. Ни музыке, близнецу воды.
Семнадцать лет назад, переходя вброд одно сатро за другим, пара зеленых резиновых сапог принесла меня к порогу розового зданьица. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви крещен родившийся раньше срока Антонио Вивальди. В те дни я еще был довольно рыжий; я растрогался, попав на место крещения того самого «рыжего клирика», который так часто и так сильно радовал меня во множестве Богом забытых мест. И я вспомнил, что вроде бы именно Ольга Радж устроила первый фестиваль Вивальди в этом городе — вышло так, что за несколько дней до начала Второй мировой войны. Фестиваль, как мне рассказывали, проходил в палаццо графини Полиньяк, и мисс Радж играла на скрипке. Исполняя какую-то пьесу, она заметила краем глаза, что в зал вошел человек и стал у дверей, поскольку все места были заняты. Пьеса была длинная, и она начала беспокоиться, потому что приближалась к пассажу, где требовалось перевернуть страницу, не прерывая игры. Человек, которого она видела краем глаза, передвинулся и исчез из поля зрения. Пассаж приближался, беспокойство росло. И вот ровно в ту секунду, когда ей надо было перевернуть страницу, слева от нее возникла рука, протянулась к пюпитру и медленно перевернула лист. И она продолжала играть, а когда трудное место кончилось, взглянула налево, чтобы выразить благодарность. «Вот так,— рассказывала Ольга Радж моему приятелю,— я познакомилась со Стравинским».
Так что можно войти и отстоять службу. Петь будут вполголоса, вероятно, по причине погоды. Если вас устроит такое извинение, то Адресата тем более. Кроме того, вы не в состоянии разобрать слова, на каком бы языке — итальянском или латыни — ни пели. Поэтому вы просто стоите или садитесь на скамью подальше и слушаете. «Мессу лучше всего слушать,— говорил Уистан Оден,— не зная языка». И действительно, в таких случаях невежество помогает сосредоточиться не меньше, чем слабое освещение, от которого пилигрим страдает в любой итальянской церкви, особенно зимой. Кидать монеты в осветительный автомат во время службы не очень-то ловко. Кроме того, монет в кармане часто не хватает, чтобы как следует рассмотреть картину. В былое время я не расставался с мощным фонарем, каким пользуются нью-йоркские полицейские. Один из путей к богатству, думал я, это наладить производство миниатюрных ламп-вспышек, вроде фотографических, но долгодействующих. Я бы их назвал «Вечная вспышка» или, еще лучше, «Fiat Lux»[19] и через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на San-Lio или Salute. И даже женился бы на секретарше компаньона, которой у него нет, так как нет и его самого... Музыка замирает; ее близнец, однако, поднялся, как обнаруживаешь, выйдя на улицу,— поднялся незначительно, но достаточно, чтобы возместить тебе замерший хорал. Ибо вода тоже хорал, и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говорю уже — бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. Неудивительно, что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью. Чудо, что город, гладя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя Н20 (хотя пить ее и не станешь), что она по-прежнему поднимается. Она действительно похожа на нотные с затрепанными краями листы, по которым играют без перерыва, которые прибывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облигато мостов, узких окон, куполов на соборах Кодуччи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палаццо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу.
Это тревожит оркестр, точнее, дирижеров, отцов города. По их подсчетам, этот город только за последний век осел на 23 см. Чем наслаждается глаз туриста — для туземца настоящая головная боль. И если бы одна головная боль, все было бы еще ничего. Но к ней прибавляется опасение, если не сказать страх, что городу уготована судьба Атлантиды. Страх не лишен оснований, и не только потому, что неповторимость города дает ему статус особой цивилизации. Главной опасностью признаны высокие зимние приливы, довершают дело индустрия и сельское хозяйство материка, засоряющие Лагуну химическими отходами, и засорение каналов самого города. Правда, в рамках моей специальности еще с романтиков принято, если дело доходит до катастроф, возлагать вину на человека, а не на какую-нибудь forza del destino [20] (умение страховых фирм отличать первое от второго — настоящий подвиг воображения). Поэтому, поддавшись тираническим инстинктам, я бы установил какие-нибудь шлюзные ворота, чтобы запрудить человеческое море, за последние два десятилетия поднявшееся на два миллиарда и на гребень волны выносящее отбросы. Я бы заморозил производство и число жителей в двадцатимильной зоне вдоль северного берега Лагуны, вычистил бы дно каналов драгами и землечерпалками (наняв для этой операции войска или платя местным компаниям сверхурочные) и развел бы в них нужные для очистки воды породы рыб и бактерий.
Я понятия не имею, что это за рыбы или бактерии, но уверен, что они существуют. Тирания редко синоним компетентности. Во всяком случае, я позвонил бы шведам и спросил совета у стокгольмского муниципалитета: в Стокгольме, при всей его промышленности и населении, как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здоровается семга. Если же дело в разнице температур, то можно попробовать сбросить в каналы ледяные глыбы или, в случае неудачи, регулярно освобождать холодильники туземцев от кубиков льда, поскольку виски здесь не в почете даже зимой.
«А почему же вы туда ездите именно зимой?» — спросил меня однажды мой редактор, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? — подхватили они за своим потенциальным благодетелем.— Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об acqua alta; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые утренней бледностью; о голубях, не пропускающих, в своей дремотной склонности к архитектуре, ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс,— бедному Кверини, который слушает теперь в обществе Вагнера и Кардуччи шелест вечнозеленых в Giardini; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну,— сказал я,— это как Грета Гарбо в ванне».
За эти годы, за долгие визиты и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что приезжал я сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезет; просто побыть. То есть ни для медового месяца (ближе всего к которому я подошел много лет назад, на острове Иския, и еще — в Сиене), ни для развода. Вот я и работал. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не носиться со своей эмоциональной жизнью — это добродетель. Работы всегда вдоволь, не говоря о том, что вдоволь внешнего мира. В конце концов, всегда остается этот город. И пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии. Помню один день — день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Fondamenta Nuove жареной рыбой и полбутылкой вина. Заправившись, я направился к месту, где жил, чтобы забрать вещи и сесть на vaporetto. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Fondamenta Nuove и повернул направо у больницы Giovanni е Paolo. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. Оставив за спиной Fondamenta и San Michele, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь — или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня; если бы не он, я бы по сей день лез на стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике.
По вечерам здесь, в общем, делать нечего. Опера и церковные концерты, конечно, вариант; но они требуют предприимчивости и хлопот: билеты, выбор программы, все такое. Я в этом не силен; это все равно что готовить себе самому обед из трех блюд — или еще тоскливее. Кроме того, мне так везет, что когда бы я ни наметил вечер в La Fenice[21], там недельная полоса Чайковского или Вагнера — равноценных с точки зрения моей аллергии. Хоть бы раз Доницетти или Моцарт! Остается читать и уныло разгуливать, что почти одно и то же, поскольку вечером эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки, и стой же тишиной. Все «книги» захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься только по имени на корешке под дверным звонком. О, здесь ты найдешь твоих Доницетти и Россини, твоих Люлли и Фрескобальди! Может быть, даже Моцарта, может быть, даже Гайдна. Еще эти улицы похожи на внутренность гардероба: вся одежда из темной, облезшей ткани, но подкладка красна и отливает золотом. Гете назвал это место «республикой бобров», но Монтескье был, наверное, метче со своим решительным «un endroit ой il devrait n'y avoir que des poissons» [22]. Ибо иногда на другом берегу канала в двух-трех горящих, высоких, кругловерхих, полузавешенных газом или тюлем окнах ты видишь подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошную бронзу вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок — и кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую и что внутри у рыбы — званый вечер.
Издали — через канал — трудно разобрать, где гость, где хозяйка. При всем уважении к лучшей из наличных вер должен признаться, что не считаю, будто это место могло развиться только из знаменитой хордовой, торжествующей или нет. Я подозреваю и готов утверждать, что, в первую очередь, оно развилось из той самой стихии, которая дала этой хордовой жизнь и приют и которая, по крайней мере для меня, синоним времени. Эта стихия проявляется в массе форм и оттенков, с массой разных свойств, помимо связанных с Афродитой и Спасителем: штиль, шторм, вал, волна, пена, рябь, не говоря о морских организмах. На мой взгляд, этот город воспроизводит и все внешние черты стихии и ее содержимое. Брызжа, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась вверх так долго, что не удивляешься, если некоторые из ее проявлений обрели в итоге массу, плоть, твердость. Почему это случилось именно здесь, понятия не имею. Вероятно, потому, что стихия услышала итальянскую речь.
Глаз — наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты его внимания неизбежно размещены вовне. Кроме как в зеркале глаз себя никогда не видит. Он закрывается последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды. Спрашивается «почему?» — и ответ: потому, что окружение враждебно. Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая остается враждебной, как бы хорошо к ней ни приспособиться. Враждебность окружения растет пропорционально длительности твоего в нем присутствия, причем речь не только о стариках. Короче, глаз ищет безопасности. Этим объясняется пристрастие глаза к искусству вообще и к венецианскому в частности. Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и само ее существование. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя Аполлона не кусается, и не укусит пудель Карпаччо. Когда глазу не удается найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать, а если и это не выходит, приучается находить достоинства и в уродстве. В первом случае он полагается на человеческий гений; во втором обращается к запасам нашего смирения. Которого всегда больше, и поэтому, как всякое большинство, оно склонно диктовать законы. Возьмем какой-нибудь пример; возьмем молодую, скажем, девушку. В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без прикладного интереса, без желания на них взобраться. На манер телевизора, работающего в пустой квартире, глаз продолжает передавать изображения всех этих чудес 1 м 73 см ростом: светло-каштановые волосы, овал Перуджино, ланьи глаза, грудь кормилицы и талия осы, темно-зеленый бархат платья и немыслимо тонкие щиколотки и запястья. Глаз может нацелиться на них в церкви, у кого-нибудь на свадьбе или, того хуже, в поэтическом отделе книжного магазина. Достаточно дальнозоркий или прибегающий к подсказке уха, глаз может узнать, кто они такие (и тогда могут прозвучать такие захватывающие имена, как, например, Арабелла Ферри) и, увы, что у них с кем-то беспросветно прочный роман. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Фактически, чем данные бесполезней, тем резче фокус. Спрашивается «почему?» — и ответ: потому что красота — всегда снаружи; потому что она — исключение из правил. Вот это — ее местоположение и ее исключительность — и заставляет глаз бешено рыскать или — говоря рыцарским слогом — странствовать. Ибо красота есть место, где глаз отдыхает. Эстетическое чувство — двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики. Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.
Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света; разрыв — со скоростью звука. Падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз. Поскольку ты сам конечен, отъезд из этого города всегда кажется окончательным; оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств; в лучшем случае, в расселины и расщелины мозга. Ибо глаз отождествляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза, по соображениям чисто оптическим, отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное, вызывает грусть, независимо оттого, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленная глаза. После нее все разочаровывает. Слеза есть предвосхищение того, что ждет глаз в будущем.
Безусловно, у всех на нее, на Венецию, есть виды. У политиков и у капитала особенно, ибо самое большое будущее у денег. Оно такое большое, что деньги воспринимаются как синоним будущего и стараются им распорядиться. Отсюда обильное пустозвонство о ремонте города, о превращении всей провинции Венето в морские ворота Центральной Цвропы, развитии здешней промышленности, расширении портового комплекса Маргеры, увеличении танкерного судоходства в Лагуне и углублении Лагуны в этих целях, превращении венецианского Арсенала, обессмерченного Данте, в карикатуру на Бобур, то есть в отстойник самой актуальной мокроты, о размещении там Экспо-2000 и т. п. Вся эта околесица несется из тех самых ртов, которые еще не успели закрыться после болтовни об экологии, сохранении, реставрации, культурном наследии и т. п. Цель всего этого одна: насилие. Конечно, никакой насильник не захочет признать себя таковым, тем более попасться. Отсюда смесь планов и метафор, возвышенной риторики и лирического пыла, раздувающая могучие грудные клетки депутатов и commentatore[23].
Хотя эти персонажи гораздо опаснее — более того, вреднее — турок, австрийцев и Наполеона вместе взятых, поскольку у денег батальонов больше, чем у генералов, за те семнадцать лет, что я посещал этот город, здесь мало что изменилось. Венецию, как и Пенелопу, спасает от женихов их соперничество, конкурентная природа капитализма, которая свелась к родству толстосумов и партий. При демократии если чему и научились, так это совать друг другу палки в колеса, и чехарда итальянских кабинетов зарекомендовала себя самой надежной страховкой города. Как и путаница политических ребусов самой Венеции. Дожей больше нет, восемьюдесятью тысячами обитателей этих 118 островов руководит уже не чей-то великий замысел, а текущие, зачастую близорукие заботы, желание свести концы с концами.
Дальновидность здесь, впрочем, только навредила бы. В месте таких размеров 20 или 30 безработных уже повод для беспокойства городского совета, что — наряду с врожденным недоверием островов к материку — содействует настороженному отношению к материковым планам, сколь угодно захватывающим. Обещания полной занятости и развития, как бы привлекательно они ни звучали во всяком ином месте, мало что значат в этом городе, еле набирающем восемь миль в периметре и даже в апогее морских успехов не вмещавшем более 200 000 душ. Такие перспективы могут возбудить лавочника или врача; но похоронное бюро стало бы возражать, поскольку местные кладбища перенаселены, и мертвых пришлось бы хоронить на материке. В конечном счете, как раз на это материк и годен.
Правда, будь похоронный агент и врач членами разных партий, какой-то прогресс стал бы возможен. В этом городе они часто состоят в одной, и дело стопорится довольно быстро, даже если эта партия — ИКП. Короче, в основе всех этих склок, невольных или вольных, лежит та простая истина, что острова не растут. Этого деньги, они же будущее, они же говорливые политиканы и толстосумы, как раз и не могут понять. Хуже того, они чувствуют, что это место с ними не считается, поскольку красота, fait accompli [24] по определению, никогда не считается с будущим, ни во что не ставя ни его, ни напыщенное, беспомощное настоящее и его сокращающуюся почву. Если это место есть реальность (или, как утверждают некоторые,— прошлое), то, значит, будущее со всеми его псевдонимами из него исключено. В лучшем случае, оно сводится к настоящему. И нигде это не видно так ясно, как в современном искусстве, которое делает пророческим только его нищета. Нищий всегда за настоящее. Возможно, единственная цель коллекции Пегги Гуггенхайм и тому подобных наносов дряни двадцатого века, выставляемых здесь,— это показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали, привить нам смирение. Другой результат и немыслим на фоне этой Пенелопы среди городов, ткущей свои узоры днем и распускающей ночью, без всякого Улисса на горизонте. Одно море.
По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почем знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации. Пока что, кроме высадки на Луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое. Лично я против даже самого осторожного вмешательства. Кинофестивали и книжные ярмарки, конечно, уместны рядом с мерцающей поверхностью каналов, их вычурным, неразборчивым почерком под внимательным взглядом сирокко. И конечно, превратить это место в столицу научных исследований — тоже приемлемый вариант, особенно учитывая вероятную выгоду от местной фосфорной диеты для любого умственного труда. Такой же соблазн — перенести сюда штаб-квартиру Общего рынка из Брюсселя или Европейский парламент из Страсбурга. Конечно, лучшим решением будет предоставление этому городу и части его окрестностей статуса национального заповедника. Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И во-вторых, этот город не годится в музеи, так как сам является произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов — орды которых могут включать и вас.
Времена года суть метафоры для наличных континентов, и в зиме всегда есть что-то антарктическое, даже здесь. Город уже не полагается, как прежде, на уголь, теперь есть газ. Великолепные, тромбоноподобные дымоходы, напоминающие те средневековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта. В результате ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как здесь батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающей тело при первом шаге на мраморный пол, в тапочках или без, в туфлях или без. Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон свечей — не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Все источает холод, особенно стены. Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в то время как стены его копят. Помню, я как-то провел январь на пятом этаже в доме около церкви Фава. Владельцем квартиры был потомок не кого-нибудь, а Уго Фосколо. Он был лесовод или что-то такое и, естественно, уехал по делам службы. Квартира была не такой уж большой: две скудно обставленные комнаты. Зато потолок был исключительно высокий и, соответственно, окна. Их было 6 или 7, поскольку квартира была угловая. В середине второй недели отключилось отопление. В тот раз я был не один, и моя соратница и я тянули жребий, кому спать у стенки. «Почему мне всегда к стенке? — спрашивала она заранее,— Потому что я жертва?» И ее горчично-медовые глаза недоверчиво темнели при очередном проигрыше. Она укутывалась на ночь в розовую фуфайку, шарф, чулки, длинные носки и, сосчитав «uno, due, tre!», прыгала в кровать, словно втемную реку. Которой кровать, видимо, и была для нее — итальянки, римлянки с примесью греческой крови в жилах. «Единственное, с чем я не согласна у Данте,— говорила она,— это с описанием ада. Для меня ад холодный, очень холодный. Я бы оставила круги, но сделала их ледяными, и чтобы температура падала с каждым витком. Ад — это Арктика». И она действительно так считала. Замотав шарфом горло и голову, она напоминала Франческо Кверини на том памятнике в Giardini или знаменитый бюст Петрарки (который, в свою очередь, мне кажется вылитым Мон-тале — вернее, наоборот). Телефона в квартире не было, чаща дымоходных тромбонов маячила в темном небе. Все вместе напоминало Бегство в Египет, где она была и за мать и за младенца, а я за моего тезку и за осла; главное, был январь. «Между Иродом прошлого и фараоном будущего,— говорил я себе.— Между Иродом и фараоном, вот где мы». В конце концов я заболел. Холод и сырость одолели меня — вернее, мои грудные мышцы и нервы, испорченные хирургией. Сердечный калека во мне запаниковал, и она запихнула меня в парижский поезд, так как мы оба не очень доверяли местным больницам, при всем моем обожании фасада Giovanni е Paolo. В вагоне было тепло, голова раскалывалась от нитроглицерина, компания берсальеров в купе отмечала начало отпуска с помощью кьянти и орущего транзистора. Я не знал, дотянули до Парижа; но на мой страх накладывалось ясное чувство, что если мне это удастся, то скоро — скажем, через год — вернусь в холодное место между Иродом и фараоном. Даже тогда, скрючившись на деревянной скамье купе, я полностью понимал абсурдность этого чувства, но поскольку абсурдность помогала заглянуть дальше страха, я был ей рад. Толчки вагона и воздействие его постоянной вибрации на мою оболочку довершили, видимо, дело, расправив или еще сильнее попортив мои мышцы и пр. А может быть, просто то, что в вагоне работало отопление. Во всяком случае, до Парижа я добрался, ЭКГ вышла сносная, и я сел на свой самолет в Штаты. Иначе говоря, выжил, чтобы рассказать все это — и, вероятно, повторить.
«Италия,— говорила Анна Ахматова,— это сон, который возвращается до конца твоих дней». Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно, а их толкование нагоняет зевоту. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, непоследовательность. По крайней мере, в этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы. И еще — объяснение того, что в течение всех этих лет я пытался обеспечить повторяемость данного сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот. Само собой, по ходу дела мне пришлось платить за это насилие, либо размывая то, что являлось для меня реальностью, либо заставляя сон приобретать смертные черты, как это происходит с душой за время жизни. Я платил обоими способами; причем не имея ничего против, особенно против второго, принимавшего форму cartavenezia [25] (действительна до января 1988) в бумажнике, гнева в этих глазах особого цвета (привыкших, начиная с той же даты, к лучшим видам) или чего-то столь же окончательного. Реальность страдала сильнее, и часто я пересекал Атлантику на обратном пути с отчетливым чувством, что переезжаю из истории в антропологию. Несмотря на все время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просадил, я никогда не мог убедительно претендовать, даже в собственных глазах, на то, что приобрел хоть какие-то местные черты, что стал, в сколь угодно мизерном смысле, венецианцем. Слабая улыбка узнавания на лице хозяина гостиницы или траттории не в счет; и никого не могли обмануть купленные здесь костюмы. Постепенно я стал временным постояльцем в обеих половинах жизни, причем моя неспособность убедить сон, что я в нем присутствую, огорчала меня сильнее. Конечно, к этому неумению не привыкать. Но я полагаю, что можно говорить о верности, если возвращаешься в место, которое любишь, год за годом, в несезон, без всяких гарантий ответной любви. Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или идиосинкразии, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенном роде занятий ответная любовь, строго говоря, не обязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру per se [26], музыку, мертвых поэтов или, в случае определенного темперамента, божество. Ибо любовь есть роман между отражением и его предметом. Это, в конце концов, и приносит тебя обратно в этот город, как прилив приносит воды Адриатики и, тем самым, Атлантики и Балтики. Во всяком случае, предметы не задают вопросов; пока эта стихия существует, их отражение гарантировано — в форме возвращающегося путешественника или в форме сна, ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надежность, которой лишен человеческий род, хотя мы тоже отчасти вода.
Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода. Если этого не происходит, то либо потому, что у Всемогущего, по-видимому, тоже не так много альтернатив, либо потому, что сама мысль в своем движении подражает воде. Как и почерк, как и переживания, как и кровь. Отражение есть свойство жидких субстанций, и даже в дождливый день можно доказать превосходство своей верности над верностью стекла, встав за ним. От этого города захватывает дух в любую погоду, разнообразие которой, во всяком случае, несколько ограничено. А если мы действительно отчасти синоним воды, которая точный синоним времени, тогда наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения впрок до тех времен, когда нас уже давно не будет. Из них, как из засмотренных до дыр фотографий в сепии, время, может быть, сумеет составить, по принципу коллажа, лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, в своей Адриатике, или Атлантике, или Балтике, время, оно же вода, вяжет или ткет из наших отражений (они же любовь к этому месту) неповторимые узоры, совсем как иссохшие старухи в черном на здешних островах, навсегда погруженные в свое глазоломное рукоделие. Они, правда, к пятидесяти годам теряют зрение или рассудок, но их заменяют дояери или внучки. Среди рыбачек для Парок всегда найдется вакансия.
Чего местные никогда не делают, это не катаются в гондолах. Начать с того, что катание в гондоле — дорогое удовольствие. По карману оно только туристу-иностранцу, причем состоятельному. Понятен поэтому средний возраст пассажиров гондолы: семидесятилетний не моргнув глазом отстегнет одну десятую учительского оклада. Вид этих дряхлых Ромео и их немощных Джульетт неизменно вызывает грусть и неловкость, если не ужас. Для молодых, то есть для тех, кому такие вещи и предназначены, гондола так же недоступна, как пятизвездный отель. Экономика, конечно, отражает демографию: и это вдвойне печально, потому что красота, вместо того чтобы быть обещанием мира, сводится к вознаграждению за него. Это, в скобках замечу, и гонит молодых на природу, к ее даровым, точнее — дешевым — радостям, доступ к которым свободен — то есть освобожден от смысла и изобретательности, присутствующих в искусстве или в ремесле. Пейзаж может быть потрясающим, но фасад Ломбардини говорит тебе, что ты можешь сделать. И один из способов — подлинный — глядеть на такие фасады — это сидя в гондоле: так можно увидеть то, что видит вода. Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком жизни местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск. Ближе всего к поездке на гондоле они подходят, переправляясь через Canal Grande или везя домой какую-нибудь громоздкую покупку — стиральную машину или тахту. Но ни паромщик, ни лодочник не запоют по такому поводу «О sole mio». Возможно, свое безразличие туземцы переняли у самого искусства, безразличного к собственному отражению. Это могло бы служить им последним доводом против гондолы, если бы его нельзя было опровергнуть, предложив ночное катание, на что я однажды поддался.
Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро, включая ее владельца, местного инженера, который и греб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на огромный, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть,— по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Вскоре, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к San Michele. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то отчетливо эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде — похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое — из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверно, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. К тому же, приводимую в движение и мужчиной и женщиной, гондолу даже нельзя было уподобить мужскому началу. В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей. Ощущение было среднего рода, почти кровосмесительным, словно при нас брат ласкал сестру или наоборот. Мы обогнули Остров мертвых и направились обратно к Canareggio[27]... Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Madonna dell'Orto — не столько потому, что ночь — самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной «Мадонны с младенцем» Беллини. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм — даже гораздо меньше! — и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики. Но собор был закрыт, и мы проследовали по тоннелю гротов, по этому плоскому, освещенному луной штреку Пиранези с редкими искрами электрической руды, к сердцу города. Но теперь я хотя бы знал, как выглядит вода, ласкаемая водой.
Мы высадились около бетонного ящика отеля Bauer-Gruen-wald, взорванного под конец войны местными партизанами, потому что там располагалось немецкое командование, а затем восстановленного. В качестве бельма на глазу он составляет хорошую пару церкви San Moise — самому суетливому фасаду в городе. Вместе они похожи на Альберта Шпеера, поедающего «pizza capricciosa». Я не бывал ни там, ни там, но знал одного немецкого господина, который останавливался в этом ящичном строении и считал его очень удобным. Его мать умирала, пока он проводил здесь отпуск, и он ежедневно говорил с ней по телефону. Когда она скончалась, он попросил дирекцию продать ему телефонную трубку. Дирекция отнеслась с пониманием, и трубку включили в счет. Впрочем, он скорее всего был протестант, a San Moise католическая церковь, не говоря уже о том, что по ночам она закрыта.
Равноудаленное от наших жилищ, это место не хуже любого другого подходило для высадки. Пересечь этот город пешком в любом направлении можно примерно за час. В том случае, разумеется, если ты знаешь дорогу — которую к моменту, когда я вышел из гондолы, я знал. Мы распрощались и разошлись. Я пошел к своему отелю, усталый, пытаясь глядеть по сторонам, бормоча под нос какие-то дурацкие, бог знает откуда взявшиеся строки, вроде «Жгите это жито» или «Никакой пощады этому посаду». Напоминало раннего Одена, но это был не он. Вдруг захотелось выпить. Я свернул на Сан-Марко в надежде, что «Florian» еще открыт. Он закрывался; из аркады убирали стулья, на окна водружали деревянные шиты. Короткие переговоры с официантом, который уже переоделся, чтобы идти домой, но которого я немного знал, привели к желаемому результату; и с этим результатом в руке я вышел из-под аркады и окинул взглядом пьяццу. Она была абсолютно пустая, ни души. Четыреста кругловерхих окон тянулись в своем обычном сводящем с ума порядке, словно геометрические волны. Этот вид всегда напоминал мне римский Колизей, где, по словам одного моего приятеля, кто-то изобрел арку и не смог остановиться. «Жгите это жито»,— по-прежнему бубнил я.— «Никакой пощады...» Туман поглощал пьяццу. Вторжение было тихим, но все равно вторжением. Я видел, как пики и копья безмолвно, но стремительно движутся со стороны Лагуны, словно пехота перед тяжелой кавалерией. «Стремительно и безмолвно»[28],— сказал я себе. Теперь в любую минуту их Король, Король Туман мог появиться из-за угла во всей своей клубящейся славе. «Стремительно и безмолвно»,— повторил я. Это была строчка Одена, последняя строчка из «Падения Рима», и именно это место было «совсем другим». Внезапно я почувствовал, что он сзади, и резко обернулся. Высокое, гладкое окно «Florian»'a, хорошо освещенное и не прикрытое щитом, горело сквозь клочья тумана. Я подошел к нему и заглянул внутрь. Внутри был 195? год. На красных плюшевых диванах, вокруг мраморного столика с кремлем бутылок и чайников, сидели Уистан Оден со своей главной любовью — Честером Калманом, Сесил Дэй Льюис со своей женой и Стивен Спендер со своей. Уистан рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошел хорошо сложенный моряк, Честер встал и, не сказав даже «до свидания», пустился по горячему следу. «Я посмотрел на Уистана,— рассказывал мне Стивен годы спустя,— он продолжал смеяться, но по щеке у него катилась слеза». Тут окно потемнело. Король Туман въехал на пьяццу, осадил скакуна и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и его шаровары; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.
Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, этот город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся в будущее, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.
ноябрь 1989
(support [a t] reallib.org)