"Девочка и олень" - читать интересную книгу автора (Пашнев Эдуард Иванович)
Глава IX. Даная
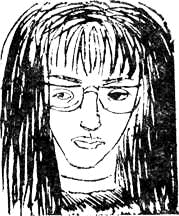 |
В комнате Нади помимо старенького платяного шкафа с зеркалом и деревянной кровати стоял у окна небольшой письменный стол, над ним полочка для книг да в противоположном углу тумбочка под проигрыватель, кресло. Вся мебель — немудреная, нестильная, немодная. Девочка жила среди простых вещей, но они были просты до поры до времени, как старая позеленевшая лампа Аладдина. Стоило снять с полки фломастер и потереть им о чистый лист бумаги, как распахивались ворота дворцов, анфилады комнат, целые эпохи и Надя входила в них, чтобы стать весталкой в Древнем Риме, Жанной д’Арк, идущей на костер, Наташей Ростовой, решившейся на побег с Анатолем Курагиным.
Перо торопливо скользило по бумаге, очерчивая полы фрака и всю фигуру Анатоля в танцевальном полупоклоне, Наташа подалась к нему и уже положила руки на плечи…
— Наташа! — крикнул Николай Николаевич на кухне жене. — Наташа!
Перо убыстрило бег.
— Что? — крикнула Надя, выглядывая из полуоткрытой двери, за которой только что собиралась обсудить во время танца последние приготовления к побегу. Музыка, под которую она рисовала, еще звучала на проигрывателе.
— Ты разве у нас Наташа? — засмеялся отец. — Я мамочку зову.
— Ты меня не звал? — переспросила дочь.
— Надюшка, что случилось? — встревожился Николай Николаевич.
— Пап, ты знаешь, я совсем зарисовалась. Мне показалось, что я Наташа Ростова.
Она улыбнулась, но все еще была немножко растерянна.
— Ну и чего ты испугалась?
— Я не испугалась.
— Значит, вошла в образ. Прошу прощения, что вызвал тебя нечаянно из девятнадцатого века, — пошутил отец.
Она вернулась в свою комнату и долго смотрела на рисунок. Наташа, которую обнимал Анатоль, была и Надей. Она себе это только что доказала.
Надя отодвинула в тень готовый лист, попыталась набросать портрет Андрея Болконского, но рука помимо воли вычертила профиль Марата Антоновича. Она взяла другой фломастер, другой лист бумаги, попыталась представить себе Пьера Безухова, но вместо него из глубины зачерченного линиями пространства опять глянули глаза вожатого. Папа не понял главного, что Анатоль Курагин не просто Анатоль Курагин, а еще и Марат Антонович.
Надя выключила настольную лампу, передвинула кресло к темному окну и стала смотреть на улицу. На подоконнике стоили плошки с кактусами, она машинально поглаживала их колючие иголки, смутно припоминая, что собиралась зачем-то совсем недавно, когда читала китайский трактат по живописи, отломить одну иголку.
В дверь позвонили. Мама торопливо прошлепала в коридор, потянуло по ногам холодком.
— Можно к вам? Надя дома? — послышался голос Ленки Гришиной.
— Дома, дома, Надюшка дома, заходи!
Надя ждала, не зажигая света. Скрипнула дверь, и Ленка недоуменно остановилась на пороге:
— Ты спишь, что ли?
— Нет, заходи.
— Чегой-то ты в темноте сидишь?
— Готовлюсь к проведению средневекового опыта, — она подняла на фоне окна руку с пальцами, сложенными в щепотку.
— Что это у тебя?
— Иголка от кактуса. Садись к столу, только лампу не зажигай.
Ленка опустилась на стул, стоявший сбоку, глаза привыкли к темноте, и она увидела Надю, неподвижно замершую в кресле с полузакрытыми глазами.
— Ты что… с чертями общаешься?
— Нет, — засмеялась Надя, — с китайским художником Гу Кай-Чжи. У меня там на столе, по правую руку от тебя, лежит «Трактат о живописи из сада с горчичное зерно». Как рисовать по китайским канонам лотос, бамбук, камни, человека. У Гу Кай-Чжи была интересная теория портрета. Он считал изображение на холсте или на бумаге двойником живого человека. Соседская девушка никак не хотела его полюбить. Тогда он нарисовал ее, уколол колючкой в сердце, и она его полюбила. Представляешь? Жили люди, верили…
— А ты кого хочешь уколоть? — тихо спросила Лена.
— Не знаю. Я ведь не верю в это. Одного человека, — добавила она грустно. — Одного хорошего человека.
— Из нашего класса?
— Одного хорошего человека не из нашего класса, но из класса млекопитающих.
Темнота располагала к откровенности, и Лена, понизив голос до шепота, спросила:
— Ты его любишь?
— Не знаю. Я о нем часто думаю. И на улице всегда помню, что могу встретить. Но он обо мне не думает, и потому мы никак не можем встретиться. Вот и все. Можешь зажигать свет. Никакого разговора про это не было.
— Нет, подожди, — сказала Ленка. — А иголка от кактуса? Ты уже провела опыт?
— Я передумала. Боюсь сделать ему больно, — засмеялась Надя.
Она потянулась к лампе, но Ленка перехватила руки и не дала прикоснуться к выключателю, а потом и вообще выдернула шнур из розетки.
— А может быть, это не просто так, — сказала она. — Китайцы, они не дураки. Может быть, это как-нибудь связано с телепатией. Они иголками лечатся. У тебя есть его портрет?
— Даже два.
— Коли оба, — решительно махнула Ленка рукой.
Надя молча покачала головой, потом нерешительно протянула колючку Лене.
— Не могу.
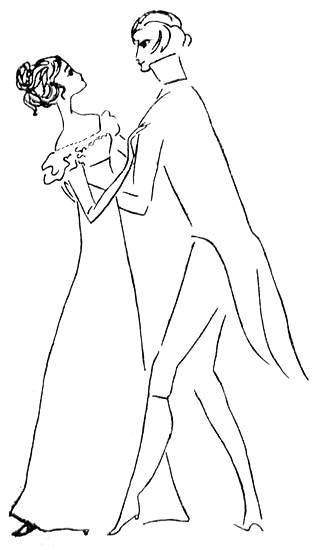 |
— Чего ты? Не веришь, а боишься? Давай сюда, я за тебя проведу эксперимент, — она забрала колючку, попробовала о ладонь, голосом палача сказала: — Ничего, подойдет. Где портрет?
— Может, не надо? Лучше не надо, Лена, не надо лучше.
— Этот, что ли? — взяла рисунок, на котором был изображен гордый молодой человек, стянутый жестким воротничком мундира.
— Нет, это я рисовала Долохова.
— Этот? — взяла Лена другой рисунок.
Надя промолчала.
— Значит, этот, — она наклонила лист к окну, пытаясь в слабом свете рассмотреть лицо Марата. — Ничего, симпатичный, если тут нету лакировки действительности. А куда же колоть?
— У Гу Кай-Чжи написано — в сердце, — напомнила Надя.
— У тебя не нарисовано сердце, только голова и шея.
— Ну, приблизительно, где оно должно быть на листе бумаги, — совсем тихо сказала Надя, обреченно откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза.
— Бумага твердая, с одного раза не проколешь, — сообщила Лена.
— Хватит, — попросила Надя, — хватит, — точно Марату в самом деле могло быть больно.
— Так! — произнесла Лена и засучила рукава платья. — Где тут второй портрет?
— Второй не надо, — Надя решительно поднялась. — Пойдем лучше погуляем.
Они вышли на улицу молча и молча дошли до кинотеатра «Космос». Стеклянный фасад был ярко освещен и пуст. Над зданием потрескивали огромные неоновые буквы вывески. Обе чувствовали, что нечаянная откровенность Нади сблизила их, сделала таинственными заговорщиками.
— Мы с тобой преступники, — вздохнула Надя.
Но это прозвучало как «мы с тобой друзья», и Ленка, желая быть честной в дружбе и желая отплатить Наде откровенностью за откровенность, сказала:
— Ты не думай, я умею хранить секреты. У меня беда в другом. Я всем приношу несчастье. Помнишь, несколько дней назад я тебе оказала, что я Печорин? Это правда. Мои родители, ты не смотри, что они сейчас такие милые и все покупают, что я ни захочу. Я им первым принесла несчастье. Они не хотели, чтоб я появилась на свет. Мама лекарства пила… Я лишний человек. Я письма их читала, они обсуждали проблему моего убийства, как бандиты. Теперь-то они хотят, чтобы я была, да я, может, не хочу.
— Тебе не надо было читать письма, — сказала Надя.
— Ты не говори, чего не знаешь. Про письма я узнала потом, а несчастья стала приносить с детства. В садике запихала одному Юрке в нос горошину. Он до сих пор с искривленной перегородкой и говорит противно. В прошлом году приезжал с матерью в Москву, останавливался у нас, так я два дня дома не ночевала. Не могла его видеть. В музыкальной школе, где я до седьмого класса училась, один мальчишка хотел поцеловать. Я сказала: «Прыгни из окна — я тогда тебя сама поцелую». Он прыгнул, сломал ногу и руку. Я пришла в больницу, чтобы выполнить свое обещание, а он попросил меня не пускать. Я и тебе какое-нибудь несчастье принесу, если мы будем дружить. Я знаю, я фаталист.
— Ты о себе все время говоришь в мужском роде, — улыбнулась Надя. — Просто у тебя трудный характер. Вредная ты бываешь.
— Ну и пусть. Я так думаю. Я Печорин, вот и все. Я лишний человек, и меня все равно никто не поймет. И ты не поймешь, не старайся.
— А как же мы тогда будем дружить?
— Не знаю, — миролюбиво опустила голову Ленка. — Я никому еще не говорила, что я Печорин. Тебе только сказала.
Ночью Надя неожиданно проснулась. Она посмотрела на дверь, приподнялась на локте. Ощущение было такое, словно кто-то легонько толкнул ее в плечо. Сквозь серебрящееся морозом стекло в комнату вливался лунный свет. Он струился по корешкам книг на полочке, по одежде, переброшенной через спинку кресла, по кровати. Надя поняла, что ее толкнул в плечо и разбудил свет. Ей показалось, что это с ней уже было, но когда и где? Ома стала вспоминать и окончательно проснулась. Пахло перегретыми батареями, было душно. Она скинула с себя одеяло и вспомнила. Это было не с ней, а с Данаей Тициана и Данаей Рембрандта. Художники написали свои картины на один сюжет, и по счастливому стечению обстоятельств обе картины попали в Эрмитаж, где Надя их и увидела впервые. Красавицу царицу заточили в неприступную башню и обрекли на вечное одиночество. Никто не мог проникнуть к ней, разве что узенький луч света сквозь решетку окна. И влюбленный Зевс проник в спальню к Данае, приняв облик света. Тициан дал в картине присутствие олимпийца намеком. В потоке золотых монет, льющихся дождем на тело обнаженной женщины, нечетко, но все же видны седые космы бороды Зевса. Наде больше понравилась картина Рембрандта. Великий голландец поступил более дерзко. Он растворил Зевса без остатка, превратив его в неосязаемое мерцание, струящееся в приоткрытый полог ложа царицы. Даная подалась обнаженными плечами, грудью навстречу теплому, ласковому излучению, навстречу свету, такому же золотому, как и тот, что вливался в комнату, где спала Надя. Она вспомнила картины Тициана и Рембрандта не одним умом, но и телом, потому что еще до того, как поняла это, вообразила себя на месте Данаи. Только ждала она не Зевса. Вечером Ленка уколола колючкой в сердце Марата Антоновича, он почувствовал боль и, растворившись в лунном свете, пришел к ней, чтобы коснуться своим сиянием ее обнаженных плеч, ее груди. Надя стащила через голову ночную рубашку и раскинулась на постели, предоставив тело свету. Его прикосновение было едва ощутимым, но она вздрогнула и открыла глаза. Лучи пробегали по рукам, по ногам, легонько щекоча кожу, вызывая испуганные мурашки. Надя инстинктивно закрыла грудь крест-накрест руками, словно защищалась от реальной опасности. Не любовь была фантастична, целомудренна и неосязаема, как свет на картинах Тициана и Рембрандта, но она, испугавшись своей смелости, схватила одеяло и накрылась с головой, спряталась в темноту. Ей было стыдно и страшно своих мыслей и чувств.
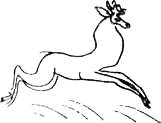 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |