"У лукоморья" - читать интересную книгу автора (Гейченко Семен Степанович)
ЖИЗНЁНОК
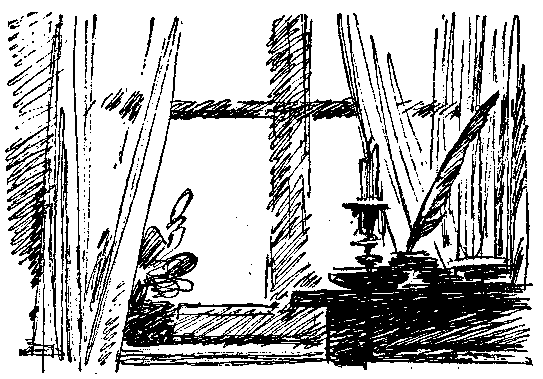 |
Он был любим, по крайней мере так думал он, и был счастлив. Работалось легко и радостно. Был в ладу со всеми окружающими и самим собой. Носился по комнатам колесом, пел на все лады, хохотал, лаял на пса, сидевшего на крепкой цепи около людской. Палил из пистолетов и дедовской пушчонки, пугая кур и индюшек, теснившихся возле погреба. Всюду совал свой нос: на конюшню, в птичник, на гумно, в пчельник, кузницу, сад. Был добр и ласков со всеми.
В это утро он проснулся рано. Ногой откинул полог, высунулся из кровати, лохматый, как домовой. Вскочил, подбежал к окну, ударил ладонью по раме и с треском распахнул створки. Крикнул в двор: «Во благодать-то!»
Сидевший под окном на кусте сирени скворец испуганно шарахнулся в сторону и закричал, как подстреленный. На его крик отозвался весь выводок мелюзги, теснившейся в скворечнике под окошком. Поперхнулась иволга, голосившая на вершине березы.
Махнул рукой — да ну вас!
Накинул рубашку. Подошел к зеркалу. Сделал страшную рожу. Отодвинулся. Погладил кудри. Причесался. Подумал: «Великолепен, многая лета болярину Александру!» Вздохнул. Сел верхом на локотник кресла. За отсутствием живых собеседников он любил в своем осадном сидении вести воображаемые разговоры с друзьями, с царем. Говорил, говорил, говорил… После таких разговоров на душе становилось легче и свежее.
Еще вчера, по получении очередного послания от брата Льва, решил по душам поговорить с ним. Ужо ему!.. Взял трубку. Потянулся за огоньком к лампадке. Раскурил табак. Всё вокруг стало как в тумане. Пересел в кресло так, чтобы в зеркале отражался портрет Жуковского — «побежденного учителя». Закинул ногу на скамейку, принял удобную позу. Пустил еще раз облако дыма и стал выговаривать брату:
— Милый друг мой, братец Лёвинька! Все вы давно за мной наблюдаете. Справки собираете… Я ведь всё знаю. Встревожились?! Извините, дорогие. Да, у меня всё не так, как вы хотите. Всё не так… Ах, как мне тошно от всех ваших родственных поучений, от всех этих «веди себя как следует, веди себя как следует…». Он должен вести себя как следует! Надоело! Мать вашу в рифму! Pardon. Ecoutez bien. Savez-vous pourquoi je voibais vous grander? Non? Миль пардон![7]
Так вот, слушай меня хорошенько, мой дорогой братец! Я прошу тебя запомнить раз и навсегда. Преображенье мое совершилось, и я воскрес душой. Между мною и всеми вами теперь легла великая пропасть. Вы — и те, и те, и те — на том, а я на другом берегу. Вы на этом, а я на другом свете. Поймите это хорошенько…
Брат Лев. Остановись, что ты говоришь! Как я боюсь за тебя!
Пушкин. Не бойся, хуже не будет. Не может быть! И не суди, пожалуйста, мои поступки вашим столичным аршином. Я порвал со всеми моими идолами.
Мне теперь стыдно за себя. Святое провиденье открыло предо мной путь к свету. Теперь я знаю — что я, где я, зачем я, для чего я!..
За окном громко запела иволга. Пушкин повернулся от зеркала к окну и увидел скворца, который сидел на ветке сирени, не решаясь приблизиться к скворечне. Птенцы ревели истошно.
— Ну иди, иди скорей, дурья голова, — крикнул ему Пушкин и захлопнул окно. И вновь стал выговаривать брату: — Ну что, милый, хочешь мои новые стихи послушать? Слушай же и не перебивай:
Брат Лев. Что это?
Пушкин. Нравится? Это про нее… Про мою Леилу…
Брат Лев. Прекрасно! Мило!
Пушкин. Мило?! Это — душа моя; недоступное для всех, всех, всех, и для тебя в том числе, хранилище коих помыслов, куда ни коварный глаз неприязни, ни предупредительный родственный взор не могут проникнуть. Там на страже меч архистратига, моего михайловского заступника…
Брат Лев. Нет, все же кто она?..
Пушкин. Ах, ты вот о чем? Не знаешь будто?! Пожалуйста. Она — та, кого я сегодня люблю. Люблю искренне и нежно… Та, которая вас всех так напугала, и вы решили меня навестить, чтобы предупредить, как вы говорите, страшные последствия… Ха! Ну что вы все толкуете, как мой святогорский игумен: «Подумай о будущем, сын мой, подумай о будущем!» Да я не хочу думать об этом будущем. Будущее мое не в этом… А впрочем, будущее… вероятно, оно будет невеселым. Но, как любит говорить дорогой Василий Андреич, мой старший друг и наставник на путях истины, «когда любят искренне — не думают»…
Тут Пушкин нахмурился и стал кричать:
— Это всё ты, болван! Бегаешь по гостиным, тявкаешь, как левретка: «А вы слышали, наш-то Александр Сергеич чудит… Променял музу свою на какую-то деревенскую девку, не то птичницу, не то телятницу, и занимается уже не поэзией, а прозой!» И друзья тоже хороши, и этот, — Пушкин покосился на портрет, — благостный тихоня… Ах, бог ты мой, ну я знаю, мы с ней не ровня… Но я люблю ее. Люблю! Почему вы думаете, что всё должно обернуться подлостью? А деды наши, а дядья наши — Василий Львович, Веньямин Петрович, а Вревские, Шереметевы? Они тоже любили своих дворовых, прижили с ними детей, дали им свое звание, фамилию. Они любили их…
Брат Лев (перебивая Пушкина). То они, а то ты.
Пушкин вскочил с кресла и ринулся на брата:
— Ну так пусть это дело будет только моим, моей совести, и ничьей больше. Моя любовь! Мое божье испытание. Я сам себе бог, судья, царь!..
Тут Пушкин совсем разъярился, побледнел, стал неузнаваем. Стал крепко браниться по-русски, по-французски, всяко… Схватил трубку и, как копье, бросил ее в своего собеседника. Закрыл глаза. Застыл. Рванулся к столу, схватил перо. Полоснул им о свою белую рубашку, словно ножом по сердцу. Сдвинул со стола вороха бумаги и стал быстро перебирать листы. Бумаги разлетелись по комнате… Разорвал лист, который был посвободнее, склонился к бумаге, навалился на стол всем телом и быстро вывел: «Нетерпение сердца. Судьба». Запнулся и медленно приписал еще одно слово: «Цыганка». Рухнул в кресло. Откинул голову и долго сидел, ничего не видя. Еще там, на юге, где всё было не так, как здесь, он был другим, он сам нагадал себе такую жизнь, какую ведет сейчас в деревне и должен будет вести дальше. Россия. Поля. Рощи. Деревня. Любовь. Она…
На окне красивый букет полевых цветов. Взял букет в руки, как священник чашу со святыми дарами, и долго сидел так.
Встал. Медленно выволочился на крыльцо. Остановился у стеклянной двери. Дверь отворилась. Зажмурился. В глазах потемнело. Стал считать: «Раз, два, три… Душой. Тобой. Ясен. Прекрасен… Раз, два, три…» Схватился за косяк двери. Подтянулся и повис. В голосу ринулись слова, всё новые и новые. Они заполняли промежутки между строчками, наконец стали сливаться в одно целое, сплетаясь в сплошной перепутанный клубок, в котором не осталось ни единого белого просвета, в сплошной черный клубок слов, непроницаемый и отчаянный, как вопль. «Раз, два, три…» Медленно открыл глаза, глянул на цветущее гульбище перед домом и удивился, увидев торжественную праздничность раннего июньского утра. Воскликнул радостно: «Господи, а всё-таки здесь рай!»
На усадьбе всё еще спало. Это только он, скворец да иволга предупредили зари восход. Ночью роса вышила крупным бисером дерновый круг перед домом. В каждой капельке сияли солнце и звезды.
Подтянул повыше штаны и пошел босыми ногами через круг к амбарчику. У амбарной лестнички встретился с котом, гревшимся на солнышке.
— Ну, как, брат Котофеич, хорошо тебе?
Кот промурлыкал, что ему здесь очень хорошо, что ночь была чудесной и что вообще по утрам лучшего места, чтобы полежать на солнышке, на всей усадьбе не сыщешь.
— И то правда, — вздохнул Пушкин, поправил рубашку и привалился к нему рядком.
У Пушкина очень широкая, красивая деревенская белая рубашка, вся в чудесных кружевах. Это подарок, поднесенный ему в день рождения, 26 мая… ею.
Лежал и судил себя: «Разбойник. Святотатец. Тать?! Нет, нет, нет!..»
Вскочил. Ждать больше не было мочи. Пошел. Остановился у низенького домика, в котором жила она, его возлюбленная… Припал к оконцу. Тихо постучал. Оконце открылось. Прошептал:
— Вставай, милая. Пора! Она была уже готова.
Мнилось, легче вкруг меня Воздух утренний струился; Я вольнее становился…
Они шли по берегу маленького озера. Озеро было синее, и небо синее, и у нее глаза синие. Часто останавливались, и он шептал ей: «Дай еще поглядеть!» Она вскидывала голову, и он смотрел ей в глаза и через их синь видел бездонное синее небо. Шел и думал: «Вот иду как царь». Рядом шла она. И смирялась тревога души, и он чувствовал себя высоким, головой до самого неба. И шел всё быстрее и быстрее. Рядом шла шагами великана его тень. А она — еле за ним поспевала, милое божье создание!
С нею всё было просто. С нею он не кокетничал, не паясничал. Ему не нужно было искать вычурных слов. Всё было просто и насущно, как хлеб и свежая вода в доме! Скажет: «Постоим. Сядем. Посмотри! Знаешь, милая?» И вдруг как крикнет: «Вот я!» И лес, и дол, и воды отвечали ему: «Да, да, да!..»
Цыгане приехали в Михайловское накануне вечером. Об этом ему доложил полесовник. Здесь, у дороги, «изрытой дождями», где она поднимается в Савкино, встали их шатры. На берегу Маленца паслись стреноженные кони. Около них, как статуя, стоял молодой красивый цыган, опершись на длинный кнут. Он любовался своими лошадьми. Такова уж цыганская природа.
Дым костров мягко стелился по земле. Завидев приближающихся людей, залаяли собаки.
Из крайнего шатра вышел другой цыган. Остановился в ожиданье.
— Добры день, лагоды вес, — сказал Пушкин, протягивая руку.
— Добры день, — ответил удивленный цыган и добавил: — Анатыр, туме, джанон ромено? Пушкин весело засмеялся и ответил:
— А ту надыкхеса, сомырым кокоро?
— Похоже-то похоже, что вы здешний барин. Но мы вас раньше не видели… А ее, — он кивнул на девушку, — мы знаем, она дочка Михаилы Иваныча… Красавица!.. Зачем пожаловали?
— Да вот пришел в гости к себе звать. Хочу песни ваши послушать. Люблю цыганские песни и много их знаю.
На разговор из шатра вышла цыганка с маленьким цыганенком на руках. Низко поклонилась и сразу же начала свое:
— Погадаем, жизнёнок, погадаем, краля!
— Ну, мне гадать, я сам гадать умею, а вот ты ей погадай, да хорошенько, хорошенько… Цыганка протянула руку:
— Положи денежку… На кого гадать будем? — И она лукаво глянула на Пушкина.
Пушкин вынул из кармана золотой и положил гадалке на ладонь. Глаза цыганки вспыхнули радостью.
— А теперь, жизнёнок, иди… Это наше бабье дело… А ты, дитёнок, иди сюда!
Женщины отошли в сторону, уселись у костра, и началось гаданье.
Пушкин подошел к молодому цыгану. Залюбовался красивой лошадью.
— Меняться будем! У меня конь-огонь!
— А мои чем хуже? — отвечал цыган. — Попробуй!
Пушкин лихо вскочил на коня и понесся вскачь по Тригорскому проселку. Цыган вдогонку стал стрелять кнутом — трах! трах! трах!..
…Когда пришло время уходить, она низко поклонилась гадалке и еле слышно промолвила:
— За ваши речи — бог вам навстречу! А потом, когда они отошли к дороге, горько зарыдала.
— Что с тобой, душа моя? — спросил Пушкин.
Она взглянула на него и, махнув рукой, промолвила тихо:
— Не знаю… так… — И добавила: — Недостойная я!
— Ангел мой, — перебил ее Пушкин. — Не надо, не надо… Всё будет хорошо…
Мать и отец всё видели. Гневались и убивались за судьбу единственной дочери. Отец кричал, что убьет, ежели она осрамит семью. Виданное ли это дело! О чем девка думает? На что надеется?..
Ночью, когда весь дом засыпал, она и мать становились на колени перед образом святогорской владычицы и шептали:
— Пресвятая дева, благодетельница, херувимов святейшая и серафимов честнейшая, воспетая, непрестанно пред вседержителем о всех девах молящаяся и обо мне, недостойной, — воспошли прощенье! Избави меня от совета лукавого и от всякого обстояния и сохранитеся мне неповрежденной. Соблюди меня своим заступлением и помощью. Прими, заступница, усердную горькую молитву мою. Матерь-заступница, прими мой грех, беду мою безмерную, помоги мне, неможной, дай опереться на тебя любови моей. Нет мне иной помощи, кроме тебя, утешительница. Спаси меня! Помилуй и спаси нас!
Но владычица смотрела с иконы на молящихся черными глазами цыганки и не принимала ни горячей молитвы девы, ни мольбы ее матери.
В келье Пушкина всю ночь тоже горела лампадка. Он сидел молчаливо и тихо за столом и переписывал свои стихи:
Переписав стихи набело, он взглянул на портрет Жуковского, подмигнул ему и приписал название — «Младенцу». Затем открыл крышку сундучка-подголовника, положил в него рукопись, закрыл сундучок на ключ. Взял чистый лист бумаги и стал писать письмо брату Льву.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |