"Переодетый генерал" - читать интересную книгу автора (Склянский Юрий)
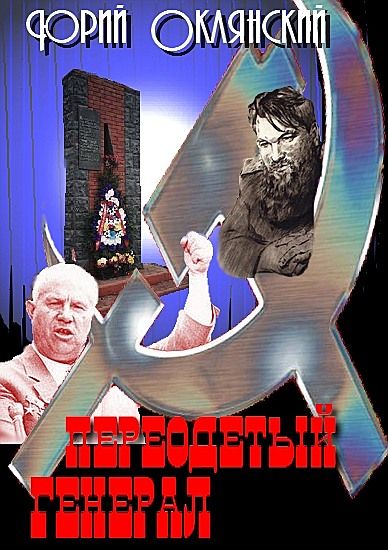 |
Юрий Оклянский Переодетый генерал
Во всем облике Петра Петровича Вершигоры, как это вижу теперь, меня поражала смесь какой-то чуть напыщенной шутейной маскарадности и глубокой человеческой подлинности.
Дело происходило на торжественном пуске Куйбышевской гидростанции в августе 1958 года. Знаменитому партизану и писателю было пятьдесят три года. По надобностям тех дней П. Вершигора иногда облачался в военную форму, и контраст тогда особенно выпирал. На плотном невысоком туловище крепко сидела большая голова. Весь он был какой-то коричневый — роскошная шелковая борода, разлохмаченные каштановые волосы, карие глаза, глядевшие умно, понимающе и, может, чуть с доброй грустной иронией. Эта большая коричневая голова, почти как у горбуна, казалось, заслоняла собой все остальное. Только потом уже замечал, что необычный человек одет в генеральскую форму, а из-под разводов бороды выглядывает золотая звездочка Героя. При таком параде мне лично по молодости лет Петр Петрович иногда почему-то напоминал доброго лесного колдуна, обрядившегося в военную форму.
Как и подобает колдуну-лесовику, и спутница у Вершигоры была соответствующая — напудренная Баба-Яга. А за той, понятно, водились свои чудеса.
Начать с того, что у жены Петра Петровича было два имени. По документам и для всех она была Антонина Семеновна, но Вершигора звал ее Оля. В отличие от плотного и задумчивого Петра Петровича это была худющая более чем сорокалетняя непоседливая особа, не по возрасту пудрившаяся и одевавшаяся с мнимо велико-светской экстравагантностью. Она тоже была партизанского поля ягода, говорила хриплым голосом, много курила и столь же часто и непринужденно материлась. Как выяснилось потом, к тому же охотно прикладывалась к бутылке.
На первых порах нашей совместной журналистской работы деликатный Петр Петрович пытался ее урезонивать:
— Оля, что о нас могут подумать? Ты же культурная женщина, жена писателя, тут молодой человек… Как тебе не совестно!
— А x…лишь! — вместе с клубами папиросного дыма отпускала Антонина Семеновна из-за своего рабочего стола. — Юрочка ведь не девушка… И чего вы стучитесь, когда заходите к нам в номер?! — напутствовала она меня в другой раз. — Когда нам надо заняться этим самым делом, мы запираемся на ключ.
Впрочем, напудренной бабой-ягой Антонина Семеновна была лишь до тех пор, пока вы проходили у нее своего рода нравственный карантин. За эксцентричностью скрывалась прямая и верная душа. Женщина это была энергичная, властная и достаточно деловая. (Петр Петрович поручил Антонине Семеновне перепечатывать на машинке наши совместные очерки, и делала она это всегда быстро, точно и безукоризненно грамотно.) Когда же она принимала человека душой, то и вовсе менялась. Мою жену, с трудом носившую большой живот по гостиничным коридорам и в следующем месяце собиравшуюся родить, Антонина Семеновна окружила такой неподдельной нежностью, надавала ей столько чисто женских советов на сейчас и впрок, что та не могла ею нахвалиться.
Не замедлила Антонина Семеновна пересказать и историю двойного имени.
С Петром Петровичем они познакомились за год до войны, случайно, где-то в городском парке. Вершигора работал кинорежиссером на Киевской студии, и гордой независимой девушке показалось, что ухажер держится чересчур самоуверенно. Как будто добыча уже у него в кармане. Да и вообще поначалу он ей не приглянулся.
— Он ведь почти на пятнадцать лет старше меня. Такое знакомство мне было ни к чему. Вот я и наврала по-девчоночьи, дескать, я — Оля. А оказалось, Борода — мой суженый. Розыгрыш открылся только в серьезный момент решения. Но тут уж он, Борода, по-хохлацки заупрямился. Так вот и повелось с той поры у нас — Оля да Оля…
Антонине Семеновне суждено сыграть заметную, даже драматическую роль на некоторых дальнейших витках этой истории.
Как и внешний его облик, столь же необычна и контрастна общественно-литературная судьба П.П.Вершигоры.
В первые послевоенные годы он считался одним из светочей тогдашней советской литературы. Ныне известность П. Вершигоры поугасла. Неизбежно поэтому нечто вроде реконструкции образа. Своего рода краткая вылазка литературно-биографического свойства. Раздобытые по разным источникам факты заодно пояснят натуру генерала.
Несмотря на тень надвинувшегося забвения, писательские заслуги П.П.Вершигоры и поныне не оспаривают даже самые придирчивые ценители, выделяя книгу «Люди с чистой совестью». Приведу оценку, которую дает книге западногерманский знаток Вольфганг Казак.
В статье о П.П.Вершигоре своего «Лексикона русской литературы XX века» (доработанное немецкое издание — 1992 г., русское издание — 1996 г.) он пишет: «Книга «Люди с чистой совестью», которую неоднократно хвалил В. Каверин, предлагает в своей первоначальной редакции «интересный и явно достоверный рассказ» (Struve) о боевых действиях во вражеском тылу. Повесть, выдержанная как рассказ от первого лица, в свое время была очень популярна; благодаря напряженности и стилевой ясности изложения она принадлежит к той части сов. лит-ры, которая воспринимается всерьез. В перераб. ред. некоторые места повести — особенно о бесплановости партизанских действий — обрели совершенно противоположный смысл» [1].
Отчего же автор взялся за добровольное ухудшение книги? Было это отчасти следствием общего «оледенения» и духовного зажима, последовавшего с началом «холодной войны», а в сфере культуры выразившееся в серии партийных постановлений ЦК по литературе и искусству 1946–1948 годов. Причем с книгой П. Вершигоры получилось это особенно курьезно.
В первоначальной редакции «Люди с чистой совестью» были удостоены Сталинской премии второй степени за 1946 год. Идеологические церберы, чей нюх слегка притупился от парадно-банкетных головокружений всеобщей Победы, как-то не сразу усекли, что крамольную правду в литературе станет протаскивать проверенный боевой генерал, Герой и тому подобное. П. Вершигору, что называется, «проглядели».
Но не минуло и двух лет, как газета Агитпропа ЦК партии «Культура и жизнь» (для политического надзора была создана и такая) обрушилась на прославленный и успевший уже в соответствии с тогдашними разнарядками растиражироваться чуть ли не во всех центральных и областных издательствах страны лауреатский шедевр с потоком обвинений. Автора упрекали в натурализме, в искажении исторических фактов, в попытках посеять рознь между братскими советскими народами, в противопоставлении украинского партизанского движения белорусскому и т. п. Да и просто, наконец, в литературной безответственности и лени — в нежелании устранять вопиющие недостатки книги при ее переизданиях (в качестве «голоса масс» на этом настаивало, например, помещенное «Культурой и жизнью» некое «Письмо в редакцию», 1948, 30.XI).
Сопоставляя даты и выражения, теперь можно определить, откуда подул ветер и что происходило за кулисами событий.
Как выясняется из опубликованных недавно документов, перемену в отношениях к книге «Люди с чистой совестью» и ее автору исподволь и, вероятно, немалый срок готовило Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), а окончательный знак подал сам И.В.Сталин.
18 июня 1948 года на заседании Политбюро рассматривался текущий план производства кинофильмов в стране. На Киевской киностудии уже готовились съемки фильма по лауреатской книге П.П.Вершигоры под названием «Рейд на Карпаты». Оставалось только окончательно утвердить его в производственном плане.
С некоторых пор патронат над сферой кино осуществлял лично Сталин. Он любил проводить часы отдыха в персональном кинозале. Может, во время одного из таких пребываний в полутемном зале у него и зародилась гениальная в своей простоте идея: зрительские массы страны, по возможности, должны смотреть четыре-пять равноценных идеологических шедевров в год, и ничего больше.
Исходя из этой своей установки «лучше меньше, да лучше» на этом самом заседании 18 июня Сталин в пространном выступлении размашисто «порубил» многие названия в представленных на утверждение планах. Однако персонально вождь ни о ком не отозвался с такой убийственной резкостью, как об авторе фильма «Рейд на Карпаты». Чувствовалось, что за накипевшей фразой стояло многое.
«Надо не давать воли республикам, — внушал Сталин, — очень много денег на кино тратят. А что выпускают? Вот хотят делать «Рейд на Карпаты». Зачем? Вершигора будет врать» [2].
В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б), принятом в тот же день, «Рейд на Карпаты» значился вторым в списке отверженных фильмов. Он предшествует там среди прочего «Спутникам» Веры Пановой, «Двум капитанам» Вениамина Каверина и другим картинам, о которых сказано: «исключить из плана и прекратить работы по постановке» [3].
Короткая фраза Сталина: «Вершигора будет врать», — по правилам тех лет, содержала квинтэссенцию того, что вначале аппаратным способом было доложено, преподнесено, внушено, выдано на усмотрение вождя. Печатным органам, начиная с газеты Агитпропа ЦК ВКП(б), оставалось подготовить расширенные толкования на тему о том, в чем состоит ущербность еще вчера прославляемой книги и ее автора.
Исполнение деликатной задачи облегчил сам П. Вершигора. Неискушенный в закулисных интригах, удаленный от коловерти столичной литературной жизни, писатель-генерал считал себя скромным документалистом, а то и просто «бывалым человеком». Послесловие к рукописи книги «Люди с чистой совестью», которую именовали то повестью, то романом, П. Вершигора завершал словами: «Книга писалась легко. Мне она доставляла удовольствие: вспоминать… Была лишь одна трудность — найти в себе мужество говорить обо всем только правду.
Это не роман и не повесть, а просто записки-воспоминания».
В реальном факте, в документе писатель-партизан искал противоядие необузданной лжи все затоплявшей советской беллетристики. Удача мемуарной книги его окрылила. Вершигора уверился даже, что нашел свой особый путь в литературе. Ему захотелось поддержать других «бывалых людей», которые подвергались издательским утеснениям и критическим проработкам как раз за то, что имели мужество писать о лично пережитом и происходившем в действительности. Одновременно он провозглашал собственное творческое «кредо».
Так в 1948 году родилась статья П. Вершигоры «О «бывалых людях» и их критиках». Она стояла в уже готовом июньском номере журнала «Звезда», когда грянул гром.
Может быть, цензура даже специально не стала останавливать выпуск и вынимать статью из номера, чтобы затем легче было проучить автора. Теперь бить в основном полагалось как бы не попа (лауреатскую книгу), а попову дочку.
Литературу честного и неоспоримого «факта» писатель-партизан с наивной отвагой противополагал беллетристике «управляемого вымысла». Так, так… Но упрямые факты жизни как раз больше всего и не вмещались в пропагандистские схемы. «Резко противопоставляя книги воспоминаний современников всей остальной нашей литературе, — говорилось затем в одной из печатных проработок, — он приходит к выводу, что все подлинно правдивое, жизненное, волнующее создается и может быть создано только в книгах «бывалых людей». «Настоящая» художественная литература, как пишет П. Вершигора, так и закавычивая презрительно это слово «настоящая», способна только фальшивить и лакировать действительность»[4].
В статье П. Вершигоры, печатавшейся в ленинградском журнале, среди других фигурировали и ленинградские примеры. «На одном высокопоставленном совещании, посвященном судьбам литературы о войне, — писал он, — один известный литератор, проведший всю блокаду в Ленинграде, жаловался, и не без оснований, что о днях блокады ему невозможно писать правду приблизительно с 1944 года, т. е. с тех пор, как литературные и критические каналы наполнены людьми, которые не нюхали блокады.
Почти полное отсутствие большой литературы на достойную и нужную тему героической защиты Ленинграда, — продолжал наивный генерал, — убеждает меня в том, что вышеупомянутый товарищ прав. Грубую (а она всегда грубая, особенно для тех, кто ее не нюхал) правду писать нельзя, а прилизанную «правдочку», которая всегда хуже откровенной лжи, писать пока еще, вероятно, откровенно стыдно. А результат? Нет, нет и нет нужной книги о великом подвиге Ленинграда!»
Газета «Культура и жизнь» в большой публикации критика А. Тарасенкова назвала позицию П. Вершигоры в этой статье «теоретическим обоснованием натурализма» (1948, № 33, 21 ноября). «Натурализм» требовалось выгребать и из самого текста книги «Люди с чистой совестью».
Две отповеди П. Вершигоре посвятила «Литературная газета». Особо возмутил ее пример с изображением ленинградской блокады. «Трудно поверить, — комментировала газета, — что этот злобный выпад против нашей литературы сделан автором «Людей с чистой совестью»… Не понятно, чем руководствовалась редакция журнала «Звезда», предоставляя свои страницы для политически вредного выступления П.Вершигоры».
В Ленинграде было созвано общее писательское собрание. Из Москвы прибыл властолюбивый генсек СП СССР А.А.Фадеев. Пример П.Вершигоры он использовал для дальнейших назиданий на тему, что из исторического постановления партии о журналах «Звезда» и «Ленинград» все еще не извлечены необходимые уроки… Вновь и вновь досталось на орехи редакции журнала «Звезда», где «П.Вершигора нашел… поистине прекраснодушного и всепрощающего друга, который целиком солидаризируется со всеми его грубо ошибочными рассуждениями»[5].
Вот под каким прессом происходила вынужденная доработка повести, после чего, если вспомнить оценку Вольфганга Казака, «некоторые ее места… приобрели совершенно противоположный смысл». Книга стала более пухлой и в некоторых частях надутой.
Но кто же, однако, был этот возмутитель спокойствия, этот явившийся из лесов партизанский батька, писатель-генерал?
Он родился в 1905 году в селе Севериновка (Молдавия) в семье учителя. В три года потерял отца, к двенадцати годам также и мать. Пробивался в жизни своими силами. Прежде чем в новой своей судьбе стать театральным актером, а затем режиссером Киевской киностудии (многое и сам с изумлением узнаю теперь из разных источников), Вершигора был пастухом, избачом, председателем сельсовета, добровольцем Красной Армии, старшиной полковой музыкальной команды, студентом Одесской консерватории и слушателем Московской киноакадемии. Бывший пастух закончил два художественных вуза.
Пробовал и писать. Влекли его натуры удалые, бунтарские, может, слегка разбойные. До войны сочинил, например, пьесу «Дуб Котовского».
Сразу же после германского вторжения кинорежиссер отказался от брони, полагавшейся ему как «ценному работнику». Середина июля застала Вершигору на футбольном стадионе в Полтаве, где в сутолоке формировалась 264-я стрелковая дивизия.
От почтительной растерянности перед двумя дипломами о высшем образовании его с ходу определили интендантом полка. Но начхоз не совладал с первой же простейшей задачкой: разделить 688 селедок на 985 бойцов, когда по рациону причиталось 82 грамма соленой рыбы на человека. Куда деть хвосты и головы? Затеял канитель со взвешиванием на весах. В результате с почетной верхотуры новый назначенец слетел в помощники командира взвода.
Впрочем, незадачливый «селедочный интендант» через две недели в боях у села Степанцы явил совсем другие свойства натуры. В рукопашной схватке в окопах он задушил немецкого автоматчика. Происходило это во время всеобщего бегства. «В бою бывают моменты, — напишет Вершигора, — когда сознание уходит… Только помню, что гитлеровский автоматчик лежал мертвый, а я стоял около него… Опомнившись только тогда, когда немец стал трупом, я взял его автомат, мой первый трофей, догнал взвод и заставил людей подчиниться себе».
Командир взвода был убит. Так началось стремительное возвышение «в должностях». За несколько дней боев под Степанцами были выбиты командиры рот, четыре командира батальона. Пятым пришлось заступать Вершигоре. Ошметки батальона на восточный берег Днепра он вывел относительно благополучно. Но тут сам был ранен осколком мины в ногу.
От полубредовых первых месяцев войны в памяти растянулись четверо суток блужданий по немецким тылам. «Это четырехсуточное окружение, — замечает Вершигора, — было для меня первой репетицией перед настоящей партизанской борьбой в тылу врага».
Репетиция позже преобразилась в партизанский быт. Были там и скачки на невесть где раздобытых лошадях. И захват в предрассветной тьме фашистской грузовой машины, с переодеванием шофера в немецкую форму. И гонка на ней по изрытой воронками дороге, напрямик, почти сотню километров. И, наконец, ползание по-пластунски по «ничейному полю» под колючей проволокой, чтобы перебраться к своим…
Есть писатели, приватная жизнь которых настолько вросла в их художественное творчество, что литературные герои здесь неотделимы от биографии автора. В результате, по наблюдению Г.К.Гуковского, те и «живут не сами по себе, а благодаря обязательному примышлению его биографического облика».
Литературоведом это сказано о творчестве знаменитого партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Действительно, нельзя читать лирику поэта-гусара «пушкинской плеяды», хотя бы на минуту забыв, кем он был.
По-своему вполне относится это и к нашему случаю. Вспомним слова из предисловия к книге «Люди с чистой совестью»: «Это — не роман и не повесть, а просто записки-воспоминания». Книга перелагает таким образом и биографию автора.
Одним из людей, чей образ тревожил воображение Вершигоры, был именно Денис Давыдов. Петр Петрович воспринимал его как натуру себе родственную, с которой он так или иначе отмечен общим знаком судьбы. На этого человека хотелось походить, он поддерживал в трудные минуты, не давал унывать.
Сотоварищ П. Вершигоры по ковпаковским походам Герой Советского Союза П. Брайко вспоминает, скажем, как летом 1943 года именно пример Дениса Давыдова помог Вершигоре вызволить «партизанскую армию» Ковпака (около двух тысяч штыков) из западни.
У самых Карпат немцы решили наконец разделаться с донимавшими их «бандитами». Сосредоточили на сей раз более чем двадцатикратно превосходящие силы, с танками и самолетами, забрав партизанский лагерь в сжимающееся кольцо.
«Когда… — рассказывает П. Брайко, — ковпаковцам оставалось одно — драться до последнего патрона, Вершигора предложил спасительный выход: разделиться на небольшие группы, ночью незаметно просочиться сквозь вражеское кольцо, разойтись в разные стороны и на время затаиться, так сказать, исчезнуть для противника…»
Это вроде бы означало временную ликвидацию «партизанской армии» как единой ударной силы. Но так и было сделано. «В книге «Люди с чистой совестью», — продолжает П. Брайко, — Петр Петрович Вершигора назвал этот маневр ковпаковцев «давыдовским» — в честь родоначальника партизанской тактики Дениса Давыдова, который, внезапно нападая на отстающие части наполеоновской армии и нанося им значительный ущерб, отходил потом несколькими группами в разных направлениях, чтобы противник не мог организовать преследование»1. Исторический двойник протянул руку помощи!
При всей вроде бы несопоставимости поволжского аристократа начала XIX века и поднявшегося из низов молдавского украинца первой половины XX многое поражает в этом созвучии и перекличке натур и судеб.
Прежде всего оба были художники. И не просто людьми, волей обстоятельств надевшими мундиры, но самыми активными и в своей сфере выдающимися военными. Они соединили в себе, казалось бы, несоединимое. Безначальное по своей природе искусство, что погружено в служение неосязаемым духовным идеалам, требует сосредоточенности, самоуглубленности и даже затворничества (Денис Давыдов, например, в пятьдесят лет уединился в своем поволжском имении, целиком отдавшись литературным трудам), и самую деятельную, беспрекословную, как приказ, не терпящую сантиментов и четкую, как шагистика, профессию военного. Как это внутренне укладывалось в каждом из них?
Прославлена поэтическая лирика Дениса Давыдова (до нас дошло около ста стихотворений!). Но современный читатель мало знает того же автора как прозаика. Между тем соотношение тех и других жанров в собственном творчестве сам Д. Давыдов оценивал по-иному: «…Я пишу много прозою, — отмечал он, — т. е. записки мои; стихи ничто, как десерт после обеда, рюмка ликера, чашка кофе». Да и В.Г.Белинский утверждал, что «как прозаик Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской лит-ры».
Не сравниваю, конечно, масштабы талантов, говорю лишь о сходстве натур, поступков и творчества. Вершигора учился не только «залетным поискам» конного отряда далекого предшественника. Образцами искусства были для него книги документальной прозы Д. Давыдова.
Почти всю жизнь с перерывами Денис Давыдов работал, в частности, над своим «Дневником партизанских действий 1812 года». Но подобным же «партизанским дневником» стала для П. Вершигоры его книга «Люди с чистой совестью», а затем и примыкающие к ней сочинения.
Военный писатель Денис Давыдов занимался не только мемуаристикой, но и теорией военного искусства. Ему принадлежит исследовательская работа «Опыт теории партизанского действия».
Тот же путь избрал и П. Вершигора. Его увлек всеохватный замысел — проследить формы и тактику партизанских движений на территории России с испокон веков до новейших времен. Многие годы работал он над исследовательской книгой, которая в отструганном и отутюженном контрольными инстанциями виде вышла, в конце концов, под названием «Военное творчество народных масс. Исторический очерк» (1961). В 1947–1954 годах П. Вершигора состоял также старшим преподавателем Академии Генерального штаба Советской Армии по кафедре военного искусства.
«С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною как смоль бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем…» — так описывает зрелого Дениса Давыдова один из литературных современников.
Оба бородача отличались скрытым бурным темпераментом. Оба были невысокого роста. Известно, что малый рост сильно вредил Давыдову в начале военной службы. Прикрыть декорумом свое не слишком видное телосложение подчас старался и Петр Петрович. Главные свои ратные кампании оба военных писателя закончили даже в одном чине — генерал-майора… И даже прожили почти одинаково: Д.Давыдов — 54 года, П.Вершигора — 57 лет…
Так что, будь я поклонником новомодных теорий, я бы даже заговорил о некоей реинкарнации — переселении душ умерших.
В партизанском выборе военной судьбы П.П.Вершигоры, надо полагать, сплелось и суммировалось все. И «репетиция» блужданий по немецким тылам. И заложенная в характере давняя склонность к рискованным переменам и авантюрным ситуациям. Он ведь и прежде стремительно менял жизненные поприща и занятия. Полный сирота с мальчишеских лет, не страшился жизненных колдобин и крутых виражей, а порой, кажется, даже испытывал томление без них.
В оккупированных областях Украины уже в первый год войны начало организовываться партизанское движение. Для руководства и участия в нем подыскивали людей.
Несколько месяцев П. Вершигора после выхода из лазарета с учетом профессии кинорежиссера возглавлял бригаду фронтовых корреспондентов в политотделе 40-й армии. Отсюда он и попал в систему военной разведки, которая, опираясь на партизан, добывала сведения о положении в немецких тылах.
В июне 1942 года с радисткой и помощником впервые сброшен на парашюте в освобожденном «партизанском крае» Брянского фронта. А уже в сентябре того же года разведгруппа П. Вершигоры вливается в Первое украинское партизанское соединение С.А.Ковпака, располагавшееся неподалеку на кратком отдыхе. Там развертываются основные события, описанные в книге «Люди с чистой совестью».
Очутившись в своей стихии, П. Вершигора совершает быстрое восхождение. Из командира роты он становится помощником Ковпака по разведке, а практически одним из трех руководителей всего рейдового соединения.
В 1943 году П. Вершигора уже командует 1-й Украинской партизанской дивизией. А в декабре того же года, когда раненый в Карпатах Ковпак лечился на Большой земле, перенимает командование всем соединением. И самостоятельно проводит два крупных рейда по тылам врага… Остальное мы уже знаем. За исключением одного болезненного для Петра Петровича обстоятельства, которое продолжало мучить его еще и летом 1958 года, на Куйбышевской гидростанции.
После лауреатского взлета первой послевоенной поры для П.П.Вершигоры настала длительная полоса опалы и неприятностей. Передряги были разного калибра и свойства. Иногда как будто чисто литературные, иногда более серьезные. Но те и другие, если вдуматься, имели общий корень — ершистый партизанский «батька» не вписывался в крутую регламентацию последних лет сталинского правления.
Особо тяжкую роль суждено было сыграть так называемому «делу» о Винницком подполье. Фальсифицированное, а затем раздувавшееся органами госбезопасности «дело», в которое Петр Петрович вмешался на стороне ни в чем не повинных людей, едва для него самого не кончилось катастрофой. Петр Петрович был близок к тому, чтобы оказаться за решеткой, а может, и того хуже.
В 2001 году радиостанция «Свобода» в передаче «Факты и мнения» устроила «круглый стол» под названием «Чекисты на празднике жизни». Стержнем обсуждения был юбилей ФСБ, с торжественным размахом отмечавшийся в Большом Кремлевском дворце. Участники радиопередачи пытались разобраться в различных сторонах «всеобщей фээсбизации страны», въедливо и липко насаждаемой в новой России.
Среди других в «круглом столе» участвовал писатель Георгий Владимов. При работе над своим известным романом «Генерал и его армия» (1994) он много занимался фактическими раскопками истории Отечественной войны. Долю вины за нынешний оборот событий, по его мнению, несут и деятели пера.
«…Мы, наверное, сами виноваты, — высказывался Г. Владимов, — мы воспели эту службу, мы романтизировали ее. Вот этого самого Штирлица подняли на такую высоту, на какой ни один герой, наверное, не был. Да и другие тоже — скажем, «Адъютант его превосходительства» и прочие фильмы. А были ли такие случаи, когда выражались опасения по поводу засилья чекистов? Как ни странно, были, и даже при Сталине. Писатель Петр Вершигора в своем романе «Люди с чистой совестью» о партизанах рассказал о том, как чекисты в свое время травили прекрасного человека, позднее партизанского вожака Руднева. Вершигора получил Сталинскую премию, так что сажать его было не с руки. Поэтому арестовали его адъютанта и пытались из него вытянуть компромат на командира. Адъютант такого компромата не дал, он все допросы вынес, и это спасло Вершигоре жизнь».
В первые «оттепельные» годы главное «дело» о Винницком подполье вроде бы зашаталось, потом рухнуло окончательно. Но в Комитете госбезопасности в своих кабинетах благоденствовали люди, его организовавшие. А по ответвившемуся от «дела» обвинению у Вершигоры продолжал висеть партийный «строгач», и за писателем тянулся шлейф двусмысленной молвы и слухов.
Примерно с таким общественно-литературным багажом П. Вершигора в начале августа 1958 года и прибыл на Среднюю Волгу, чтобы совместно с собственным корреспондентом «Литературной газеты», то есть со мной, освещать открытие Куйбышевской гидростанции. Этой крупнейшей из ступеней волжского энергетического каскада, да и вообще самой большой тогда гидростанции в мире.
В расчеты генерала, взявшего редакционную командировку, входили встречи с Н.С.Хрущевым, поездки которого по Куйбышевской области намечались в связи с празднествами. Хрущев знал Вершигору еще по Украине и в целом к нему благоволил. Здесь Петр Петрович надеялся добиться того, что не удавалось в Москве. Выговорить специальную аудиенцию у Хрущева. А там уж, если удастся, — подвести окончательный баланс «делу» о Винницком подполье, разобраться с его устроителями и рассчитаться с клеймом на собственной репутации.
То, что мы порой рассматриваем лишь в качестве средства, само нередко превращается в своенравного игрока нашей судьбой.
звучала тогда песня, сочиненная самодеятельным поэтом там же, на Гидрострое.
Пульсация энергетического гиганта — Куйбышевской гидростанции — ощущалась даже за сто с лишним километров ниже Жигулевских гор, по течению. Разительно вела себя Волга в этих местах накануне описываемых событий — зимой 1957/58 года. Даже бывалые старожилы, повидавшие много неожиданных капризов великой русской реки, такого, как было у Куйбышева в ту зиму, не припомнят. Волга давно стала в верховьях. Уже ощетинилось ледяными торосами и застыло новое Куйбышевское море, но ниже плотины, вопреки всем срокам, даже и в конце января могучая река по-прежнему несла свои черные, как деготь, воды.
Волга окутывалась седыми космами, когда на гористом правом берегу, вдоль которого на тридцать пять километров протянулся старинный торгово-промышленный город, бесконечным разбросом мерцающей желтой подсветки зажигались электрические огни. Сквозь пар проплывало «сало», волны, набегая, тяжело ворочали, скрипели прибрежными льдинами. Казалось, волжская вода еще больше густела, река текла медленнее, словно преодолевая дремоту, вот-вот готовая остановиться, застыть в зимней спячке. Но наступало утро, и взнузданная там, у Жигулей, Волга снова оживала.
Только к февралю стал низовой лед. А через два месяца Волга вскрылась. Но не так, как привыкли к этому старожилы: ни оглушительной ледовой перестрелки, ни грандиозных заторов. Лед просто приподнялся и смирно уплыл, как бурлацкие плоты, снятые с якорей. А в действительности ледостав просто подняли поворотом рычага там, у Жигулей, и плавно пустили вниз, по славно поработавшим усталым водам великой реки. Построенная у Жигулей гидростанция уже с осени 1957 года трудилась на полную мощь всех двадцати своих агрегатов. Это она командовала ледоставом и ледоходом на Волге…
Собственно говоря, официальное открытие гидростанции вполне могло состояться еще в ноябре предыдущего 1957 года. Тогда тоже намечались подобного размаха торжества, включая приезд Н.С.Хрущева. Первый человек государства должен был собственноручно перерезать символическую ленточку на одном из агрегатов, что означало бы ввод в строй крупнейшей в мире ГЭС.
Ажиотаж подготовки и ожидания тогда тоже достиг пика. На срочное благоустройство областного центра и ближайшей гидростроевской округи были брошены шальные миллионы. На въезде в город, как водится, ломали и закрывали заборами ветхие домишки. Облюбованные улицы асфальтировали прямо по осенней слякоти, в лужи, в рытвины, без грунтовки (лишь бы продержалось!). В некоторых деревнях, что по дороге на ГЭС, на крайних крестьянских избах сдирали с крыш солому и крыли черепицу, ничего не объясняя радостно-растерянным хозяевам. И повсюду белили и красили, малевали, латали все, что только можно. В ту пору ходил местный анекдот: «Как узнают самарца в Москве? Очень просто: если весь, как маляр, в краске и белилах, глаза на лбу, а в зубах гвозди — значит, из Куйбышева…»
В довершение потемкинского ража разом опустели полки продуктовых магазинов. Кроме сиротливых буханок хлеба, не было ничего — ни сахара, ни мяса, ни селедки, ни сливочного масла. Чтобы затем с приездом главного лица, как скатерть- самобранку, развернуть на прилавках и явить миру почти коммунистическое изобилие.
В гостиницах города проводилось спешное выселение. В гулких коридорах нашей многоэтажной гостиницы «Ленинградская» два месяца одиноко, как призраки, слонялись только мы с женой, которых некуда было вытряхнуть, да еще пара-тройка ответственных товарищей в пижамах, коротавших время в ожидании празднеств. Даже почтенного московского репортера Евгения Ивановича Рябчикова, автора детской книжки о прославленном довоенном дальневосточном пограничнике Карацупе и его верной сторожевой овчарке, вызванного для переиздания книжки в местном издательстве, удалось пристроить с великими трудами, с помощью липового командировочного удостоверения.
Из редакции ко мне на подмогу тогда тоже приезжал соавтор — хотя, правда, и меньшего ранга, — столичный журналист Ваграм Захарович Апресян. И мы совместно подготовили и даже напечатали в «Литературной газете» очерк-увертюру «Огни Жигулей», кончавшуюся словами: «…как же не радоваться, как не ликовать при виде электрического солнца в Жигулях!»
Но официально взойти этому солнцу в ту осень так и не привелось. Другие занятия задержали Н.С.Хрущева. Торжества ной. Она работала на полную мощность, но не была принята, действовала, но не былбыли отложены. И без малого год гидростанция находилась в статусе незаконнорождена открыта.
Вообще начальные годы хрущевской «оттепели» — время, полное всяческих вывертов и чудес.
Достаточно представить одну только фигуру — начальника «Куйбышевгидростроя» Ивана Васильевича Комзина, с которым ближе других сошелся П.П.Вершигора. Что за поразительный это был человек! Ненаписанная книга!
Как сейчас слышу его раскатистый бас. Нередко по какой-нибудь, чаще торжественной, надобности приходилось брать у него очередное телефонное интервью для «Литературной газеты». «Пишите! — не откладывая дело в долгий ящик, распоряжался он на том конце телефонного провода. — Мы, инженеры-строители, приветствуем вас, инженеры человеческих душ…» И пошло-поехало. Иван Васильевич без запинки произносил почти все, что от него требовалось. Сыпал цифрами, фактами. Умел ввернуть производственный анекдот, пару последних интересных происшествий, ловко их изукрасив. И все это споро, гладко, точно, в лад. Говорил, будто пел. Править его почти не приходилось.
Человек это был разносторонне одаренный. Волжский богатырь, средних лет, что называется косая сажень в плечах, носивший хорошие костюмы, на которого заглядывались женщины и который сам многих из них мимо себя не пропускал. В этом смысле о нем не без оснований шутили, что он был «отец для своих подчиненных». Но и работать он тоже умел.
«Куйбышевгидрострой» — строительный колосс. Силами треста и сотрудничавших с ним бессчетных субподрядчиков организовывалось «великое переселение» со дна будущего моря. Возводилась шестикилометровая плотина, перегородившая Волгу. Сооружалась сама гидростанция вместе с разбегавшимися по-паучьи во все стороны на многие сотни километров линиями высоковольтных энергопередач… Но и не только это. «Куйбышевгидрострой» заложил основу нового экономического района, жизнь которому давала гидростанция. Поднимались коробки завода синтетического каучука, а рядом отпочковывались уже и другие предприятия — подоснова и фундамент будущего волжского автомобильного гиганта — ВАЗа с его знаменитыми «Жигулями» в городе-двойнике ушедшего под воду Ставрополя (позже — Тольятти)… И все ведь это тоже по первости обмозговывал, зачинал и двигал он, Иван Васильевич Комзин.
И тот же Комзин, между прочим, построил многокилометровую подвесную канатную дорогу над Куйбышевским морем — дорогую и никому не нужную. Да вдобавок еще и бахвалился ею:
— Такое встретишь только у нас! И нигде больше на всем земном шаре! Ни в какой там Америке! — изрекал он. — Техническая скорая помощь, в любую бурю и непогоду! А красиво ведь — не правда ли?! Вверху — железная черная птица, вон она, порхает, летит, а внизу — водяная пропасть! Сплошная стихия! — Примерно так внушал Комзин толпившимся вокруг журналистам.
Но груженые вагонетки по натянутым стальным канатам проскользили над морем недолго. Да и тогда, кажется, только для кадров кинохроники и для форса перед приезжими делегациями. Никакой производственной надобности в подвесной дороге не было. Гораздо верней и проще грузы можно было перевозить по не столь уж отдаленной плотине. Между тем в распыл пошли миллионы. Начальник стройки обожал подобные трюки и театральные эффекты.
Старинный городок Ставрополь-на-Волге (еще задолго до моего собкоровского назначения в июне 1957 года), как и многие селения, попавшие в ложе будущего моря, был перенесен, а точнее, сломан, разобран и сожжен безжалостно. Когда я впервые приехал на ГЭС, там кое-где еще встречались остаточные охраняемые зоны. В строительстве мировой гидростанции участвовали заключенные, правда, к 1957 году лишь бытовики со сроками до пяти лет. Но раньше были и другие. Сам главный строитель в прежние времена якобы одновременно даже имел звание генерала МВД.
Чтобы стать к тому же профессором (давняя мечта!), Иван Васильевич отгрохал в «новом» Ставрополе филиал Куйбышевского политехнического института и сам возглавил инженерную кафедру.
Для надобностей вящего представительства и прочего пиетета (как бы теперь сказали — «имиджа») Иван Васильевич завел особого референта, «ученого еврея» — Якова Кауфмана. За глаза его иронически именовали — «бюро услуг». Это был полный, круглый человек, безотлучно пребывавший либо в приемной Комзина, либо в соседней с ней комнатке и умевший ловить в воздухе рождавшиеся начальственные флюиды еще даже до того, как они были высказаны и словесно оформлены. В отведенном ему пространстве Кауфман стремительно перемещался на своих коротких ногах, что делало его слегка похожим на ученого кенгуру. Но человек это был образованный и культурный, даже писал и издавал книжки детских стихов с цветными картинками, а уж исполнитель и улаживатель всяческих надобностей был бесподобный.
Одним словом, Иван Васильевич был человек не просто разнообразный, но более чем со всячинкой. Однако когда потребовали интересы стройки и собственное достоинство, тот же Комзин вступил в рискованное единоборство с первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС М.Т.Ефремовым. Здешним наместником, всесильным, изощренным и жестоким, будущим заворготделом ЦК. Это стоило Комзину должности.
Его перебросили главным советским экспертом на строительство Асуанской плотины в Египет. А позже, уже на пенсии, Иван Васильевич приобрел дачу в подмосковном писательском поселке Переделкино. Здесь, на рубеже 80-х годов, я вновь встречал его в компании с писателем Павлом Филипповичем Нилиным, автором известных повестей «Жестокость» и «Испытательный срок», с которым они состояли в домашних друзьях.
Приятельской стариковской парочкой, оба высокие, могутные, знающие себе цену, почти всегда что-то обсуждая, неторопливо вышагивали они по асфальтированным переделкинским дорожкам, мимо садов и заборов. Иногда, впрочем, в охотку совершали и передышки. То ли на даче Комзина — чтобы выпить «наперсток коньяку», то ли в другом конце поселка, на даче Павла Филипповича, — чтобы отведать знаменитой чуть ли не с сибирских времен нилинской настойки. А заодно уж — и там, и тут — досказать недоговоренное…
Таких вот людей тоже производило Время, рождала Волга.
Хрущева ругали впоследствии за волюнтаризм и прожектерство, за то, что он, «кукурузник», бросил пустой вызов могущественной Америке и намеревался построить основы коммунизма к 1980 году. Но прожектером был не только этот невежественный и неотесанный, однако же полный многих добрых намерений, наделенный практической сообразиловкой половинчатый реформатор. Величайшим иллюзионистом было само Время.
После долгой исторической полосы сталинской тирании и зашнурованного существования казалось, что страна пробуждается и нащупывает дорогу к новой жизни. И действительно — многое было сделано. От освобождения из-за колючей проволоки и надзора комендатур миллионов политических заключенных, бывших военнопленных, «ссыльных народов» до возвращения паспортов и гражданских прав колхозникам, отмены самых драконовских трудовых ограничений, уменьшения рабочей недели, сокращения на миллион двести тысяч человек непомерно раздутой армии и т. д. Добавим сюда начало переговоров с Западом и достижение первых реальных соглашений о предотвращении атомной гибели…
В 1958 году в ночном августовском небе над Куйбышевской гидростанцией можно было видеть летящую голубую звездочку первого советского искусственного спутника. Самое фантастическое нередко казалось возможным. Хотелось надеяться и верить.
У меня сохранился дневник с записями тех дней 1958 года. Воспроизводимым там событиям предшествовал только телефонный звонок из редакции, уведомлявший, что в поддержку и на помощь ко мне прибывает П.П.Вершигора.
Это известие слегка ошеломило. Через несколько лет после окончания университета по опыту и выучке я оставался еще вполне провинциальным журналистом, не так давно взятым на работу в центральную «Литературную газету».
Вершигора! Со школьных лет для меня это было легендарное имя. Литературная знаменитость. Дважды генерал! Одно дело — поднаторевший московский журналист Апресян, другое — Вер-ши-гора! Литературная гора! Интересно, как же я буду с ним работать?!
Неискушенный литературно, достаточно наивен был я и политически. Если время и плодило легковеров, то я был из их числа. Благомыслие отразилось и на страницах дневника, которые воспроизвожу, ничего не меняя.
Итак…
«…Пятого августа поздно вечером мне позвонили из Ставрополя. То был наконец-то прикативший из Москвы на собственной «Победе» мой долгожданный соавтор Петр Петрович Вершигора (а передавать нашу первую большую совместную статью надо было уже 7-го — в номер на 9-е).
— Юрий Михайлович? — голос глуховатый, мягкий, немного надтреснутый баритон. — Это говорит Петр Петрович. Вот я наконец и приехал.
— Очень рад, я уже беспокоился, не случилось ли с вами что-нибудь в пути… Как вы устроились? Вам, наверное, номер в гостинице нужен? Как вы доехали? — я сдерживался, но не мог скрыть своих чувств: наконец-то! Ведь статью надо делать, делать надо!
— Я по-партизански приехал, сам за рулем. Тут еще со мной жена и сын. Завтра я поеду на ГЭС, надо же все осмотреть. И что-нибудь, если не увлекусь, часика в четыре буду у вас, и мы засядем и напишем, — с эпическим спокойствием цедил на том конце провода хрипловатый баритон.
— А когда же мы будем писать?!
— Засядем на ночку и напишем.
Около шести вечера на следующий день он наконец приехал (в Куйбышев). В дверь постучали.
— Войдите! Заходите, пожалуйста.
Вершигору по его книге «Люди с чистой совестью», которую я читал еще, кажется, в восьмом классе, я представлял себе почему-то высоким, стройным, молодым и почему-то красивым (я прочел тогда, что его довоенная специальность — кинорежиссер, а по моим тогдашним школьным представлениям, кинорежиссеры должны быть именно таковы).
Но в комнату не зашел, а скорее вкатился низенький толстый человек, с большой рыжей бородой, с такими же рыжевато-карими глазами, в домашних туфлях и в коричневой, в полоску, пижаме. Он походил на украинского батьку-лесовика, как ни чудовищно это сравнение, такими, очевидно, были батьки-атаманы из числа «зеленых», хотя в его облике не было ничего свирепого или воинственного.
— Давайте знакомиться. Петр Петрович Вершигора, — он произнес свою фамилию с ударением на «и» — Вершигора, хотя я всю жизнь думал, что он Вершигорб.
— Дайте я на вас погляжу. Ось вы какий!
Я показал, что у меня уже было написано. Он прочел:
— А вы не самолюбивый автор?
— Нет, что вы! Пожалуйста.
Слушая, он смотрел на меня своими немного маслянистыми карими глазами, не мигая, как-то уж чересчур пристально, изучающе, это было не совсем приятно, — позже я узнал, что он просто немного туговат на ухо.
Мы составили план. Распределили куски.
— Ну, добре, я пойду. Часика через два напишу.
Такие темпы для меня были в новинку.
Часа в два ночи — все это время мы работали каждый в своем номере, и он часто звонил: «Юрий Михайлович, это Петр Петрович…» — следовал какой-нибудь вопрос, — он позвонил, сказал, что кончил и укладывается спать. Я же работал часов до пяти утра.
Часов в девять я постучался к нему в номер. Петр Петрович уже сидел за столом и черкал, вписывал что-то в отпечатанные на машинке листы. Он успел, оказывается, написать страниц десять на машинке. Это было больше, чем я написал за предыдущие дни, и по качеству, честно говоря, хотя и поверхностнее, чем у меня, хорошо знавшего материал, но зато написано с несравненно большей легкостью и кое-где (например, описание машинного зала и насчет «голубого молока народной кормилицы Волги») даже с блеском.
Мы занялись «монтажом» совершенно разностильных и часто дублировавших друг друга кусков, и к половине дня статья на 16 стр., что было почти в два раза больше, чем требовалось, была готова.
Против окна у второго стола за машинкой сидела Антонина Семеновна, жена Петра Петровича, сухопарая женщина лет сорока, за уменьшающими стеклами очков — темно-синие, со стальным отливом буравчики глаз, и курила сигареты.
— Мама, вот это еще перестучи! — подавая лист, обращался к ней Петр Петрович.
Она отвечала в том же стиле. Например — когда я только появился:
— Борода, к тебе человек пришел, предложи ему хоть стул.
Позже я с любопытством наблюдал за отношениями этой своеобразной партизанской пары.
— А Женька-то, наш вылупок-то, все еще его величество изволит спать, — с грубоватой ласковостью оповещала Антонина (Ольга) Семеновна.
— Давай, давай, мама, работай, не отвлекайся!
Когда мы с Антониной Семеновной ближе узнали друг друга, то даже подружились. Во всяком случае, она не называла меня иначе, как «Юрочка», и проявляла тысячи знаков своеобразного эксцентрического внимания, от которого я не знал куда деться. Они при мне шутя переругивались матом, «инициатива», правда, всегда исходила от нее, и Петр Петрович даже как-то сказал ей…» Дальше в дневнике идут записи, уже излагавшиеся в пересказе, — как Петр Петрович пытался урезонивать свою склонную к излишним матюганиям супружницу.
Затем следует запись разговора, обычного во время «перекуров» при работе втроем. По какому-то поводу Петру Петровичу пришло воспоминание об одной из выходок своей непредсказуемой супруги.
История касалась на сей раз видного руководителя Союза писателей, соседа по квартире в Лаврушенском переулке в Москве, Н.М.Грибачева. Позже в официальных кругах этого многократного лауреата назовут «автоматчиком партии». Но, казалось, этот публицист и поэт существовал всегда — лысый, бритый, похожий на Фантомаса, хотя ему не было еще и пятидесяти. Грибачева знали и побаивались не только в московской литературной среде.
«… — А однажды, знаете, как она Грибачева, этого старого пер…на отдула?! — покуривая, П.П. рассказывал с особым воодушевлением. — Он живет над нами, в Лаврушенском, этажом выше… Нервный такой, знаете, издерганный, желчевик. Всю жизнь его неудачи преследовали, рвался в люди, а признания не было.
— А вам разве не нравится его публицистика? По-моему, он первоклассный публицист. Его репортажи из Америки, вроде «Кактусов в меду», и другие — это неплохо написано.
Петр Петрович сощурился, сказал без улыбки, как он умеет говорить смешное:
— Нашел себя. Человек он осторожный, знает, что на внутренние темы желчь опасна, пишет розовенькое, лакировочные стихи… А тут натура совпала с публицистической задачей, вот и успех! Так вот. У нас в шкафу всякая там посуда стояла. Дети бегают — сервизы звенят, работать ему, видите ли, мешают.
Однажды было заседание, посвященное чествованию литературного патриарха Федора Гладкова. Сидим мы в президиуме: я, тут А. Сурков (первый секретарь Союза писателей СССР), тот же Н. Грибачев и прочие. И вот он подает мне записку: «Петр Петрович, я придумал, как сделать, чтобы звона не было. Оберните сервизы ватой. Искренне Ваш
Я только посмеялся про себя. А он потом однажды с тем же вопросом к моей супруге является. И тут уж она ему дала! «Ах ты, пер…н старый! Убирайся отсюда, пока я тебе…» и т. д.
Он еле-еле ноги унес.
Разговоры эти происходили в разное время, над статьями о ГЭС мы работали совместно с П.П. около двух недель…
После передачи (по телефону) первой статьи — в тот же день П.П. уехал (на своей «Победе») на ГЭС, где ему И.В.Комзин отвел для работы комнату в коттедже…
Перед отъездом мы вчетвером — я, Антонина (Ольга) Семеновна, «вылупок», мальчишка лет семнадцати, в узких, ярко-синих стиляжьих брюках, с соломенно-белыми волосами и синими, но, в отличие от матери, мягкими, глазами под стеклами очков, и П.П. обедали в ресторане при (нашей) гостинице. П.П. был в светлом чесучевом костюме и узбекской ковровой тюбетейке, на одной стороне пиджака — звездочка Героя, на другой — медаль лауреата. Официантка, одна из нарпитовских самарских хабалок, была поэтому с нами предельно вежлива.
За обедом я что-то рассказывал курьезное о нашем куйбышевском житье-бытье и старался как можно больше выспросить (о московских новостях).
— Ну, как идет подготовка к съезду среди писателей (к Третьему съезду СП СССР, намеченному на май 1959 года)? Чувствуется хотя бы какой-то подъем, оживление? Или же мы, в «Литературке», кричим и все это как об стенку горох?
П.П. опять простовато сощурился:
— Какой там подъем?! Кто-то получит теплое местечко, тысяч пять оклада, еще одну персональную машину и спокойную жизнь на несколько лет. Вот и все. Ведь было недавно так: шестнадцать министров кинематографии, чуть ли не в каждой союзной республике — министр, и — пять фильмов в год! Так и в литературе сейчас: на кучу секретарей Союза писателей — полтора опубликованных в стране романа. Секретари есть, а литературы нет. Старики уже в тираж выходят, молодежь заражена карьеризмом — так-то!..»
На этом прерву пока выписки из дневника. Были и другие разговоры, туда не попавшие.
Во время одного из дальних перегонов на машине вдвоем заговорили о маршале Г.К.Жукове, не полный год тому назад раскассированном со всех постов и пребывавшем едва ли не под домашним арестом.
Я напирал на моральную сторону дела: в июне 1957 года Жуков фактически спас Хрущева от сталинистов из группы Молотова — Маленкова и других, а тот как его отблагодарил?!
— Всего через четыре месяца снял заспинным образом со всех постов, когда тот находился в командировке по Югославии, да еще обвинил в бонапартизме… Все газеты продолжали тогда с придыханием освещать государственный визит знаменитого маршала и министра обороны, а у нас тут, в Куйбышеве, в Доме офицеров, спешно собрали пленум обкома партии, где читалось закрытое письмо ЦК и клеймили Жукова на чем свет стоит… Так, конечно, было и по всей стране… Хорошо ли так?! Как-то стыдно…
Это была одна из пока еще немногих моих моральных претензий к Хрущеву. Я не сомневался, что П.П. полностью поддержит мой нравственный пыл. Но услышал нечто другое.
— Конечно, коварством попахивает… — раздумчиво произнес он, смерив меня потвердевшим взглядом карих глаз. — Но ведь это, мой друг, армия! Когда палец лег на спусковой крючок, тут осторожность и даже военная хитрость не помешают… Ведь он, Жуков, тогда, в июне, что сделал? Он сам подписал себе приговор. Когда, явившись на заседание Президиума ЦК, сказал: «Если вы здесь не прекратите спорить, я двину войска». Заявил он это в поддержку Хрущева. Но участь его после этого была решена, кто бы ни победил. Армия за ним бы пошла. А ни один правитель не потерпит возле себя такого министра обороны…
Теперь я видел перед собой другого человека — не писателя, а профессионала-военного, политика, к тому же посвященного в такие тонкости из жизни верхов, о которых я тогда представления не имел.
Однако чаще я ощущал Вершигору своим братом-литератором, и разговоры больше шли о литературе.
Лежа грудью на подоконнике гостиничного номера и глядя на городские крыши и дребезжащие внизу трамваи, Петр Петрович говорил о себе:
— Работы много, в том числе поденной, черновой, — внутренние рецензии, выступления, командировки от газет… Ведь на переиздания с моим багажом не прокормишься. Я не принадлежу к литературным генералам…
Эта фраза меня удивила. Можно, оказывается, быть героем, лауреатом, генералом, но еще не литературным генералом!
— А что вы сейчас пишете?
— Та всякое-разное. Вспоминать не хочется… — Петр Петрович помолчал, медленно покачал переплетенными в замок пальцами, потом произнес: — Вот закончил том «Истории партизанского движения», отослал в инстанции. Но эта вещь трудная, много непроходимого, не один годок еще полежит… Другое дело — мы с вами! Напишем, так напишем! — и словно для закрытия темы добавил: — Впрочем, и в периодике иногда крупно появляться нужно. Пусть видят, чем занимается Петр Петрович Вершигора!
В другой раз говорил: «Беспроигрышно писать в любой ситуации только о трех вещах — знаете? Нет? О детях, о вождях и о собаках. Тут никто не возразит, все будут довольны. А всякое-другое — ого-го!»
Поражал он меня и манерой своей журналистской работы.
Во время нашей репортерской страды на Гидрострое, когда я как белка в колесе носился по лестницам, сновал по служебным кабинетам, карабкался в верхотуру на самые малодоступные и диковинные места, добирая у эксплуатационников и гидростроителей всех специальностей недостающий материал, — Петр Петрович относился к моему разыскательскому энтузиазму, я бы сказал, с терпеливым великодушием.
Возвращаясь после каждой такой очередной деловой пробежки взмыленный, с затуманенным взором, напичканный новыми потрясающими сенсациями, я заставал обычно Петра Петровича где-нибудь на холодке или в тенечке на скамейке лениво покуривающим папироску и неторопливо беседующим со случайно подсевшим таким же, как он, праздным курякой. По правде сказать, вначале меня это даже удивляло.
С гораздо большим и подлинным интересом относился он к пейзажам и панорамам, встречавшимся на пути следования его серой потрепанной «Победы», которой он хозяйственно и несуетливо рулил. Тут, по моим подсказкам, он нередко останавливал машину. Мы выходили. И Петр Петрович подолгу смотрел.
На черневший вдали легендарный Царев курган, по преданию названный так потому, что это земляное надгробие какого-то великого царя, насыпанное шлемами воинов. «На вершине его не растет ничего», — поется в народной песне. Там некогда сидел и размышлял Степан Разин. Теперь срезанный конус Царева кургана был причудливо «обкусан» и даже наполовину съеден экскаваторами, бравшими здесь грунт для строек.
Смотрел с противоположного берега, когда ближе подъехали, на перерезавшее новое море шестикилометровое серое бетонное тело плотины и синеющее вдали в теплом мареве под разбегающимися вереницами ажурных железных мачт-высоковольток приземистое и отсюда как будто даже неказистое здание гидростанции. A на середине плотины Петр Петрович, остановив машину, вышел и, перегнувшись через парапет, долго глядел вниз на огромные, как водопады, пенисто бурлящие потоки, вырывавшиеся из-под рабочих колес каждого из двадцати агрегатов…
Вот такие вещи, кажется, больше его занимали. А насчет того, что мы должны написать или, точнее, что в итоге все равно будет напечатано, в отличие от меня, новобранца, Петр Петрович, кажется, с самого начала особых иллюзий не питал.
Впрочем, достаточное безразличие к репортерской прыгучести и журналистским потугам по преодолению мыслительных штампов за счет новизны фактов сочеталось у Петра Петровича с усердием сидения за столом и вниманием к самой процедуре литературного письма. У меня сохранилась кипа машинописных листов, исчерканных его рукой, пестрящих мелкой скорописью поправок, вклейками и вставками.
Если подытожить направленность этой литературной работы, то, пожалуй, можно сказать, что маститый соавтор гнул наши тексты «под роман».
Он придумывал в действительности не существовавшие сцены, ударялся в воспоминания военных и партизанских лет, эпически обыгрывал подробности судеб и фамилии встречавшихся нам людей, несколько романтически, иногда чуть ли не в стилистике запорожского «Тараса Бульбы», выстраивал и лепил эстафету народного подвига. От героических ратных дел до теперешних богатырских свершений по перекрытию великих рек и созданию трудно представимой индустриальной нови.
Я противился этой патетике, как умел. Но без большого успеха.
Петр Петрович от письменного стола поверх очков только хитровато взглядывал на меня живыми карими глазами и продолжал скрести пером по бумаге.
Тогда еще не открывшаяся мне авантюрная сторона натуры сочеталась в этом человеке с добродушием и терпеливой усидчивостью. Он был трудолюбив, как крестьянин. И это не только мое впечатление.
В комплектах старых журналов начала 70-х годов я натолкнулся на мемуарное стихотворение Бориса Слуцкого о П.П.Вершигоре. Два бывших фронтовика встретились в учебной аудитории одного из самых первых послевоенных совещаний молодых писателей. Задумчивый бородач резко выделялся среди почти сплошных юношеских лиц. Шарообразная полнота тела Петра Петровича объяснялась болезнью сердца: к той поре он уже перенес инфаркт. Недуг в дальнейшем удалось подлечить, но тогда, как говорится в стихотворении: «Ему (по собственному счету) оставалось года два (или четыре?), четыре (или два?) инфаркта, и надо описать то, что увидел, а как писать?»
В огромном зале совещания — атмосфера молодой беспечности и самоупоенности:
В подобного усердного пахаря обращался он, мне кажется, и в тогдашних занятиях за письменным столом.
О так называемом «деле» Винницкого подполья я впервые услышал от самого П.П.Вершигоры. Что побудило его к такой все-таки неординарной откровенности?
Возможно, чету Вершигора поначалу расположила к себе наша бездомность.
Уже в одну из первых встреч, сочувственно моргая, чтобы не смутить взглядом дохаживающую девятый месяц жену, Петр Петрович поинтересовался:
— А куда же вы собираетесь привезти ребенка?
Несмотря на протесты замахавшей руками виновницы внимания, я рассказал забавную историю своих отношений с местным начальством.
В отличие от других новоприбывавших собкоров центральных газет нас уже больше года томили и мариновали в гостинице. Без всяких перспектив на получение жилья. Хотя обычно в таких случаях квартиру давали немедля и по высшему разряду.
Загадочную ситуацию с неприкаянным корреспондентом очень скоро раскусили маленькие гостиничные начальники. Главный администратор, бывший энкавэдэшник, верткий чернявый человечек, похожий на черта из табакерки, буквально травил нас. Под угрозой двойной оплаты он постоянно перегонял бездомных постояльцев с места на место, заставляя, как верблюдов, перетаскивать весь громоздкий и многообразный скарб с этажа на этаж. Так продолжалось уже год и два месяца.
— Вот ведь что делают! — громко возмутилась Антонина Семеновна.
— Подожди, подожди, Оля! — успокоил ее Петр Петрович. — Ну и как вы добиваетесь? Были вы у первого?
Конечно, я был и у первого, и у последнего. Но М.Т.Ефремов, сумевший расправиться позже даже с самим новоиспеченным Героем Соцтруда начальником Гидростроя Комзиным, повидал и не таких, как я. А он-то и был скрытой пружиной происходившего.
Появившись в Куйбышеве, я, на свою беду, приохотился писать фельетоны. А никакого вынесения сора из избы здешний правитель не терпел. После одной особенно задиристой статьи М.Т.Ефремов, по внешности устроивший мне самый разлюбезный кабинетный прием, столь же любезно в финале сообщил, что квартиру в Куйбышеве мне в ближайшие годы, к сожалению, предоставить не смогут, так как в очереди на жилье давно уже стоят нефтяники, сталевары и т. д. Сталеваров в этом поволжском центре, правда, отродясь не водилось. Но это уже другое дело.
Ситуация заинтересовала Петра Петровича.
Расспросы продолжались. Пришлось выложить и некоторые факты биографии. Я признался, что сын «врага народа». Отец отбыл десять лет лагерей и ссылки и только недавно после реабилитации получил возможность вернуться в Москву. По счастливому стечению обстоятельств, окончание Московского университета произошло через три месяца после смерти Сталина и в момент ареста Берии. В результате я не был отослан школьным учителем куда-нибудь к черту на кулички, а допущен к работе в «идеологии». По распределению трудился в областных газетах Марийской Республики. А теперь вот даже взят в центральную «Литературную газету»!!. Так что здешние происшествия — пустяки. Дают или не дают квартиру — не так уж важно, как-нибудь обойдется, устроится.
Благодарность за то лучшее, что происходило на глазах, мешала думать, заслоняла другие реальные жизненные пласты, обиды и горечь прошедших лет. Всякие ефремовы к «генеральной линии» отношения не имели. Хрущев казался мне чуть ли не народным вожаком. А коммунизм не таким уж недосягаемым будущим.
Думаю, что, выслушав подобную исповедь, Петр Петрович вполне понял, кто перед ним.
В свою очередь, момент ответной откровенности, вероятно, тоже выпал подходящий.
Мы уже передали по телефону первый очерк в редакцию. И теперь по какой-то очередной надобности в «Победе» Вершигоры вдвоем возвращались из Ставрополя в Куйбышев. Ехать предстояло сто с лишним километров. По дороге по просьбе П.П. мы останавливались, и я знакомил его с достопримечательностями округи Гидростроя. Неторопливая экскурсия сопровождалась и рассказами о местных нравах.
Среди прочего я рассказал П.П., как в Куйбышеве недавно Ефремов и его команда за одну лишь критическую статью в печати убрали собкора «Известий» Степанова. У здешнего правителя было любимое изречение: «Не так грызет орехи». Ближайшая его «сплотка» такие вещи схватывала на лету. Степанов «не так грыз орехи» — и участь его была решена.
Подробности расправы чиновной своры над честным журналистом, похоже, подействовали на Петра Петровича.
Был тихий августовский вечер, и мы, выйдя из машины, как раз созерцали панораму «объеденного» экскаваторами Царева кургана.
— А вы мою историю знаете? — искоса взглянув на меня, спросил Вершигора. — На мне ведь до сих пор партийный выговор висит…
П.П. едва ли мог предположить, что об этой истории, которая, должно быть, нашумела в столичных литературных кругах, штатный сотрудник «Литературной газеты» понятия не имеет.
Поэтому с тем большей охотой и в красках он мне всю дорогу ее перелагал.
Сожалею, конечно, что по свежему впечатлению не записал рассказа. Но не сделал я это сознательно. После двух арестов отца и очередей в лубянской приемной, где узнавал о его судьбе, во мне жил страх, а заодно и убеждение, что не всякие вещи стоит доверять бумаге. Память зато многое ухватила цепко.
Проверял теперь, насколько мог, наводя справки, собирая дополнительные материалы и факты. В совокупности история выглядит так.
В первые послевоенные годы в Винницкую область был назначен новый первый секретарь обкома партии, переброшенный туда, кажется, с Сахалина. Человек это был сильный, властный, со связями. Через жену состоял даже в каком-то отдаленном родстве с тогдашним «хозяином» на Украине Н.С.Хрущевым.
Поначалу все шло хорошо. Пока новый наместник не столкнулся с землячеством бывших партизан-подпольщиков.
Во время войны неподалеку от Винницы располагалась ставка Гитлера. Поэтому попытки сопротивления пресекались здесь особенно жестоко и беспощадно. За годы оккупации были схвачены и погибли участники партизанских групп и подпольных явок не одной «волны». Но зато уж те, кому посчастливилось уцелеть, держались вместе навсегда. «Партизанская мораль» была некоей разновидностью этики фронтового братства, чем-то похожей на ту, что литературно воспета еще в книгах от Ремарка — Хемингуэя до Виктора Некрасова.
С возвращением мирной жизни многие партизаны в городе и области оказались на руководящих постах, преимущественно «среднего звена». Их-то стойкий противовес и ощутил вскоре партийный вождь, склонный к необузданному диктаторству.
У сахалинского новопришельца не было в Виннице ни давних друзей, ни близких знакомых. Но зато в его руках находилась испытанная дубина — партийный аппарат и услужливые органы безопасности. С их помощью после некоторого промедления он и стал наводить «порядок», обычный для позднесталинских времен. По подстроенным наветам и клеветническим обвинениям наиболее активные «смутьяны» были исключены из партии. За последующую их «разработку» принялись органы МГБ.
Ветераны кинулись искать защиты и справедливости на стороне. Их выручкой и опорой стал «свой брат» — известный партизан и писатель, Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Медведев. В годы войны он возглавлял партизанские отряды, действовавшие на Брянщине и в некоторых соседних с Винницей областях.
С Вершигорой Медведев был знаком еще с февраля 1943 года. Их первую встречу в немецком тылу он описал в своей книге «Это было под Ровно». «…Через час я уже познакомился с представителем Ковпака, — читаем там. — Я увидел человека среднего роста, коренастого, с большой русой бородой. Он слез с седла и представился:
— Вершигора, начальник разведки отряда Ковпака.
На петлицах его гимнастерки — три прямоугольника, означавших, что он подполковник. На левой стороне груди — новенький орден Красного Знамени».
«Когда мы проезжали через села… где расположились подразделения Ковпака, — повествует далее автор, — я забыл, что нахожусь во вражеском тылу. По улицам ходили бойцы, вооруженные автоматами и ручными пулеметами. На шапках ярко горели красные ленты и красноармейские звезды. Многие ковпаковцы были награждены, и новенькие ордена и медали поблескивали на гимнастерках. Кое-где у хат стояли станковые пулеметы и даже орудия» [6].
Массовые представления о партизанском движении периода Отечественной войны и некоторых выдающихся его фигурах по сю пору до примитивизма искажены у нас подмалевками сталинских мифов типа «Идет война народная, священная война». Война, она, конечно, и вправду была народной и священной. Но при этом почти рядом сосуществовали в ней и «заградотряды», и «смерши», и Русская освободительная армия генерала Власова, и «штрафные батальоны», и ГУЛАГи для миллионов своих же вчерашних воинов, оказавшихся в плену вовсе не по своей вине… Сложный жизненный конгломерат являло собой и партизанское движение, состоявшее вовсе не из одних только стихийных «народных мстителей».
Однажды, в конце «перестроечных» времен, мы разговорились на близкую тему с давним моим приятелем Алесем Адамовичем. Было уже попрощались возле его дома, неподалеку от площади Маяковского, где он жил, да и проговорили еще часа полтора.
Адамович сам с пятнадцати лет вместе с матерью и братом партизанил в белорусских лесах. Участвовал в рискованных вылазках, диверсиях и стычках с карателями, а под рекой Березиной — и в прямом тяжелом бою с немецким фронтовым соединением. Уцелеть тогда удалось немногим.
Повод, который я невольно задел, был этот самый — я поделился с Александром Михайловичем впервые мелькнувшим у меня намерением написать о покойном П.П.Вершигоре.
Адамович поддержал мои планы. Но почти тут же заговорил о различиях партизанского движения на Украине и в Белоруссии. Эти различия он усматривал как в составе участников, так и в образе действий.
— Понимаешь, — говорил Адамович, — у нас, в Белоруссии, — топи, леса, болота. Есть где землянки откопать, и даже, если повезет, приспособить кое-что из хозяйства — козу или корову. За чащи и торфяники немцы без большой подготовки не нагрянут. А уж ночь — отместка и расплата им за все, что сотворили. Считай, девяносто процентов в составе лесных отрядов — это самостийники, жители сожженных немцами деревень. Сколько Хатыней заживо спалено! Каждый четвертый белорус погиб от войны! Обычно в отрядах только процентов десять не местные: прибившиеся окруженцы, кадровые военные и так далее… Другое дело — на Украине…
— А что там?
— Украина — она ведь какая? По крайней мере та ее часть, откуда больше шли в партизаны? — продолжал Адамович. — Это степь или лесостепь. Почти оголенные пространства. Естественных укрытий никаких. Там больше было организации сверху. Подпольные партийные комитеты, заброшенные через фронт элитные армейские подразделения, которые наращивались добровольцами или мобилизованными из местного населения. Пропорция по составу если и не обратная, чем в Белоруссии, то близко к тому. А на открытых пространствах лучшей подмогой для налетов и маневров становились быстроногие кони. Та самая «тачанка-ростовчанка», известная еще со времен Гражданской войны. Рейды, удары и мгновенные исчезновения! Там действовала полурегулярная армия, даже иногда в воинской форме, кавалерийские части и все прочее. Все так, как описано в книге Медведева, о которой ты упоминал. Ударную роль среди них играло соединение Ковпака — Вершигоры. Образно говоря, у нас были «Бабы Василисы», кого Толстой в «Войне и мире» назвал «дубиной народной войны». А на Украине, если хочешь, это действительно какая-то ветвь тактики Дениса Давыдова… У Вершигоры все это также правдиво проглядывает, можно вычитать. За это, кстати говоря, его не раз поколачивали — что слишком мало представлены стихийные народные мстители. Но так было в жизни…
— Конечно, — не остывал Адамович, — и на Украине были самостийники. Но гораздо меньше! И в наших партизанских отрядах действовали заброшенные из центра сотрудники военной армейской разведки, диверсионные и террористические группы НКВД и так далее. В любом партизанском движении, как похлебка в солдатском котле, варилось все вместе. Да ведь и партизанским главкомом в стране, знаешь, был кто? Ворошилов! Луганский слесарь, кремлевский чинодрал, не назовешь большим народолюбцем! Но в Белоруссии сопротивление питалось прежде всего жителями спаленных деревень. Кстати, в качестве пособников-полицаев немцы часто завозили украинцев, стараясь стравить два народа… И некоторые белорусы украинцев уже за это ненавидели. У меня об этом тоже есть — в повести «Каратели». Вот, видишь, вроде бы братья-соседи, а два разных лица партизанского движения. Так что о партизанах писать надо! Тут много еще предстоит санитарной работы по очистке мозгов от тромбов полуправды, всяких шаблонов и мифов…
Примерно так втолковывал мне Адамович.
Нелишне добавить, что книги самого А. Адамовича, в особенности «Хатынская повесть» (1972), документальная трагедия «Я из огненной деревни…» (1975) (совместно с Я. Брылем и В. Колесником) и «Каратели» (1980), бесспорно, принадлежат к лучшему, что создано литературой послесталинской поры о партизанском движении. Документальная, а то и автобиографическая основа отчетливо проглядывают в них даже и тогда, когда не заявлены впрямую. И именно это их качество при сопоставлении с «рейдовой» прозой П. Вершигоры, пожалуй, дополнительно иллюстрирует то, о чем столь запальчиво и страстно говорил мне тогда милый и незабвенный Александр Михайлович…
Но осевшие в Виннице партизаны были как раз местные, самостийники. А самая главная, гэбистская претензия к ним, если в ней разбираться, как раз в том и состояла.
Вроде того, мол, что никто им не велел, не приказывал и не поручал быть партизанами («фабула», трудно представимая в Белоруссии, но по-своему подогнанная под украинские условия!). Согласно существующим в Киеве и Москве картотекам и делопроизводствам нигде это не отражено. А раз так, то еще бабушка надвое сказала, кто они на самом деле. Герои ли? Или самозванцы, мошенники, грязное политическое отребье, которому выгодно примазаться к рискованному и почетному теперь званию? Чтобы снимать пенки с народной крови! А, может, даже и того хуже — фашистские недобитки, перекрасившиеся националисты, волки в овечьей шкуре?! На это тоже есть теперь многие данные оперативной проверки! Для чего встали они на этот преступный путь? Для того ли только, чтобы прикрыть свое грязное нутро и сомнительное поведение в годы оккупации, а теперь благоденствовать и стричь купоны? Хорошо, если так. Но не кроется ли здесь кое-что покрупней и посерьезней? Тщательно разработанный план? Один из масштабных замыслов фашистских шпионских центров? Провокация по внедрению своих людей в советскую систему управления? Тогда пусть лучше сразу раскалываются и все вываливают! Пароли, явки, задания!..
Но нет, они в один голос твердят, что все-таки были партизанами. Поют одну песню. О якобы свершенных подвигах. Явный и очевидный сговор! Басни, выдуманные легенды, заранее расписанные роли членов одной преступной банды! Где свидетельства тех людей, которые к этому мнимому партизанскому отряду не принадлежали? Чьим показаниям можно было бы верить? Нет их! И не может быть! Потому что не существует в природе! Все только ссылаются друг на друга. Иван кивает на Петра, Петр на Ивана. Знаем таких! Но мы их выведем на чистую воду. Заставим говорить правду. Они не обманут зоркий чекистский глаз! Им не удастся уйти от карающей десницы советского правосудия! За свой змеиный обман они поплатятся сполна. Еще приползут на коленях, с блюдцем в зубах, на котором будет лежать голая правда. Мы превратим их в лагерную пыль. В такое, что родная мама не узнает. Пусть кончают свой гнусный сговор. И рассказывают только правду. Пусть покажут хотя бы одного человека за пределами повязанной круговой порукой банды, который бы подтвердил, чем они занимались во время оккупации. Что они — партизаны, не фашистские недобитки, не лжецы. Есть такой человек? Или нет? Где он?! Пусть представят, покажут, назовут!
Но один такой человек все-таки нашелся. Им был Герой Советского Союза полковник Дмитрий Николаевич Медведев, чье партизанское соединение во время войны действовало в соседних с Винницей областях Украины.
Он подтвердил, что группа винницких партизан, руководимая Трофимом Корнеевичем Кичко (один из главных теперь обвиненных), выходила с ним на связь и просила радиоподдержки… Винницкий партизанский отряд, стало быть, существовал и лично Медведеву был известен.
Медведев, конечно, был фигура!
Произошло короткое спотыкание… Но затем, после недолгой заминки, кампания, несколько развернувшись («левое плечо, вперед!»), приняла новый оборот. А кто такой, собственно говоря, Медведев?
Вроде бы свой, да не совсем. Все время норовит играть не по правилам. Поделом уже бит за это однажды, да, получается, недобит. Недобиток, одним словом!
О партизане-писателе Дмитрии Николаевиче Медведеве много рассказывал мне другой мой приятель, известный кинодраматург Анатолий Борисович Гребнев (фильмы «Июльский дождь», «Прохиндиада», «Петербургские трущобы», «Дом для богатых» и др.). Дмитрий Николаевич был личностью крупной и яркой. Чуть ли не под два метра ростом, сын бежецкого сталеплавильщика из Брянщины, человек большой личной храбрости, Медведев в годы войны командовал партизанскими отрядами в Смоленской, Орловской, Могилевской, Ровенской и Львовской областях.
Гребнев был старшекурсником московского ГИТИСа, когда их впервые познакомили. С отставным полковником вместе они написали пьесу «Сильные духом» (1948). Пьеса открыла для публики разведчика Н.И.Кузнецова, «первого советского Штирлица», который, действуя по подложным документам в немецкой армейской среде, проводил невероятные по дерзости и риску операции. Н.И.Кузнецов находился в подчинении у здешнего руководителя партизанского движения Д.Н.Медведева.
Сценический успех и популярность пьесы «Сильные духом», а также документальной повести Д. Медведева на ту же тему «Это было под Ровно» (1949) в конце
40-х — начале 50-х годов были феноменальны. Работая и встречаясь с Д.Н.Медведевым в течение ряда лет (включая 12 декабря 1954 года, за день до внезапной смерти), молодой драматург сумел его оценить.
Д.Н.Медведев был кадровым чекистом, членом партии с 1920 года. Однако принадлежал к тем редким единицам, кому по свойствам натуры и стечению обстоятельств удалось не погрязнуть в кровавой тине, а остаться честным. Это показали все последующие события. Но уже и до войны среди сослуживцев он выглядел «белой вороной», с репутацией неисправимого чудака, излишне приверженного догмам и романтике начальных лет революции.
Разумеется, вечно так продолжаться не могло.
Осенью 1937 года Д. Медведев был исключен из партии, с лишением всех наград и званий. Отреагировал он на это, как «белой вороне» и подобало. Вместо благодарности «за то, что хотя бы не посадили», Медведев учинил бессрочную голодовку.
— Он сел у памятника товарищу Сталину на одном из московских вокзалов, — передавал события Анатолий Гребнев, — с требованием: «Верните все или расстреляйте!» За ним пришли, забрали. Но ничего не сделали, хотя, конечно, и ничего не вернули… О нем вспомнили только в начале войны, как вспоминали о многих разжалованных или сидевших за решеткой военачальниках и специалистах. Отправили командовать партизанским отрядом на Брянский фронт… Отсюда все и началось…
О партизанской деятельности Героя Советского Союза Д.Н.Медведева существует библиотека литературы. В то время как аппаратные кураторы, приставленные к организации подрывных действий в тылу врага, сверлили дырки на мундирах для очередных наград, реальные действия зависели от смекалки и силы духа таких командиров, как Медведев. Это было каждодневное хождение по лезвию бритвы. Картотеки в такой обстановке показались бы смехотворной затеей, а отчеты составлялись лишь для потребы все тех же верхних штабов.
— Однажды Дмитрий Николаевич, — рассказывал А. Гребнев, — показал мне старый написанный им карандашом полный отчет на ста страницах о действиях его спецгруппы, которую он тогда лично возглавлял… Чего там только не было! Удивляла при этом почти полная самодеятельность подобных групп, которым из центра не только не помогали, но нередко мешали. Не поставляли даже элементарного технического обеспечения. К примеру, печати для поддельных немецких паспортов «медведевцам» приходилось вырезать самим из резиновых подошв. Из-за неповоротливости центрального ведомства была сорвана подготовленная в отряде Медведева кара немецкому наместнику Украины Эриху Коху… И т. д. и т. п.
Между тем к прославленному собрату тянулись ходоки от преследуемых и травимых бывших партизан из Винницы.
Их защиту, как и подобает человеку рискованной профессии, Д. Медведев повел круто и неожиданно. Изучив фактические материалы, он сел за письменный стол. Так возникла новая документальная повесть Д. Медведева «На берегах Южного Буга», напечатанная в трех номерах украинского журнала «Жовтень» (1952, № 7–9).
Однако круги от «дела» о Винницком подполье давно уже достигли Москвы. С подачи местных спецслужб и стоявшего за их спиной бывшего дальневосточного партаппаратчика к нему повышенный интерес проявила центральная Лубянка. Как выяснилось позже, его взял под личный контроль замминистра МГБ генерал Иван Серов. «Дело» было включено в разряд «перспективных».
Из такой чадящей головешки, если ее как следует вздуть, могло возгореться даже очень красивое и видное пламя по обезвреживанию внутренних «врагов». Одна из тех далеко приметных акций, которыми бдительные органы на исходе сталинского правления не уставали будоражить болезненную подозрительность стареющего вождя.
Появление документальной повести Д. Медведева вызвало приступ ярости. Накал ее ощутим даже в газетных подшивках, в окаменелостях строк. Областная партийная газета «Винницкая правда» и центральная «Литературная газета» выстрелили почти дуплетом одной и той же обкатанной статьей.
Статья называлась «Раскроем псевдонимы. О фальшивой повести Д. Медведева «На берегах Южного Буга»». Д. Медведев, говорилось там, «стал на порочный путь… Он не ознакомился с документами, а очевидно, писал свою повесть на основании фальшивых отчетов отдельных проходимцев, которые… пытались примазаться к подполью и выдать себя за его организаторов и руководителей». В статье далее изобличались, то бишь смешивались с грязью, главные «организаторы» и «руководители» подполья, чьи «подвиги» якобы документально, под слегка измененными «псевдонимами», вознамерился живописать автор [7].
От повести не было оставлено камня на камне, а от автора разве лишь мокрое место. Травля велась и дальше, причем самыми низкими и непотребными средствами.
После долгого неравного противостояния Дмитрий Николаевич умер от сердечного приступа в возрасте 56 лет. «Недобитка» добили! Это случилось 13 декабря 1954 года.
Об этом и вел свое повествование Петр Петрович, по-хозяйски руля машиной по дороге из Ставрополя в Куйбышев. Он явно не спешил перейти к истории, какими же бедствиями для него самого обернулось его собственное, чуть ли не с момента возникновения винницкого «дела» заступничество за оклеветанных партизан.
У Лубянки сталинских времен для исполнения всякого стратегического замысла имелась своя, пусть не блещущая многообразием, но зато испытанная методика.
Первое, что требовалось предпринять в таких случаях и что делалось обычно, — «обрубить концы и подходы». Отсечь доброхотов. Сделать «намеченные объекты» беззащитными. Оставить жертвы глядеть в безнадежные очи своей судьбы. Новичок на общественно-литературном поприще, Дмитрий Медведев был блокирован со всех сторон; а затем и намертво выбит из седла.
Из других охотников подать голос имелся еще его давний знакомец, действовавший впристяжку, писатель-лауреат, член бессчетных общественных организаций, депутат и генерал Петр Вершигора, имевший тьму всяческих связей. Требовалось «изъять из обращения» его. Способ был найден рутинный, однако же для генерала неожиданный.
В один далеко не прекрасный день Петра Петровича вызвали в прокуратуру. Недоуменно моргавшему генералу следователь предъявил возбужденное против него дело об изнасиловании несовершеннолетней.
Преступление, оказывается, имело место на исходе войны, лет шесть или семь назад. Папка начиналась с двух тетрадных листков в косую линейку, содержавших свежее заявление. Написано оно было фиолетовыми чернилами, чуть ли не школьной вставочкой. Заявление принадлежало некоей Ганне Д.
Напрягши память, Петр Петрович с грехом пополам вспомнил эту веснушчатую деревенскую девочку-подростка. Неуклюжую и робкую Ганну. Несколько таких же, как она, «детей полка», приставших из соседних деревень, гужевались во время передышки на постоянной базе возле партизанского штаба. Командир, может быть, слегка выделял Ганну, иногда заговаривал с ней, давал поручения. На вид девочке было лет четырнадцать или пятнадцать.
После предъявления формального обвинения с Петра Петровича была взята подписка о невыезде. А главное, как затем обнаружилось, приняты меры для стремительной «утечки» информации. Через несколько дней в разных концах Москвы разве что воробьи не чирикали, что боевой генерал, писатель-лауреат и человек «с чистой совестью» обвинен в каком-то грязном бытовом преступлении.
— Ну и что же вы стали делать? — не удержался я. — И как отнеслась к этому Антонина Семеновна?
— Оля?! — от руля мягко улыбнулся Петр Петрович. — Она набила мне морду, а потом бросилась меня защищать…
Вскоре домашние и сам Петр Петрович убедились, что квартира взята под наблюдение. У подъезда, на выходе в Лаврушенский, и во дворе прохаживались, посменно меняясь, переодетые под уличных парней «топтуны».
Здравый смысл подсказывал, что надо немедленно выезжать на Украину, разыскивать Ганну, отзывать заявление. Но как это сделать теперь — находясь «под колпаком», на приколе карающей подписки о невыезде?
После головоломных сидений с друзьями выход отыскали. Чисто партизанский: был разработан и утвержден вариант «двойника».
В назначенный вечер шумная ватага из двух десятков гостей, мужчин и женщин, ввалилась на Лаврушенский. Во всех окнах квартиры сиял свет. Гремела радиола. Доносились возгласы и звон бокалов. Дружеская пирушка разворачивалась полным ходом.
А тем временем заканчивались последние приготовления. У «двойника», комплекцией и видом напоминавшего Петра Вершигору, имелся крупный изъян. На лице совсем недоставало подходящей буйной коричневой растительности. Явиться же в гостевой компании на Лаврушенский, допустим, с приклеенными «под Вершигору» бородой и усами — означало бы излишне испытывать подозрительность стражей.
Так что Петру Петровичу пришлось пойти на крайнюю жертву. В то время как дом оглашался танцевальными ритмами, радостными криками и тостами, знаменитая борода уже в самом жалком виде лежала сбритой в тазу.
Остальное прошло более или менее гладко. Билеты на самолет были куплены заранее. «Двойник» в пижаме Петра Петровича остался дома домывать тарелки в обществе Антонины Семеновны. В ближайшие дни он должен был отсиживаться в квартире, изображая болезнь. Фальшивая борода и усы «под Вершигору» на крайний случай у него тоже имелись.
А сам Петр Петрович, позаимствовавший у «двойника» значительную часть верхнего гардероба, ближе к полуночи, вместе с одной из кучек пошатывающихся гостей беспрепятственно проскользнул за ворота. Гэбистские «мальчики» были погружены на сей раз лишь в сведение баланса вошедших и вышедших.
Утром следующего дня Вершигора и четверо бывших партизан, его спутников, были уже в одной из дальних деревень Западной Украины.
Ганна Д. с матерью, младшими братьями и сестрами ютилась в закоптелой мазанке. Разговор сумели провести наедине.
Узнав партизанского комдива и других сослуживцев военных лет, девушка пунцово побагровела, а затем разрыдалась.
Из сбивчивых объяснений получалось, что сплетню о ее отношениях с комдивом пустил бывший ковпаковец, живший по соседству и теперь совсем спившийся.
А не так давно к ним на дом приезжали трое штатских, явно не здешних, хотя один вроде бы украинец. Они сказали, что теперь точно установлено, что Вершигора никакой не героический партизан, а враг народа. Он уже арестован. Сидит в тюрьме, и его ждет стенка. Многое на его катушку намоталось. И за войну, и в мирные годы. Он полный перерожденец. Докатился до пособничества тем, кто снимает пенки с крови защитников Родины. Закоренелого этого батьку-махновца давно было пора вывести на чистую воду! У них есть факты о ее отношениях с Вершигорой в годы войны. Конечно, тогда она была малолеткой, но отвечать по всей строгости придется теперь. Так что пусть соображает по своей женской линии. Вершигоре это уже ничем не повредит, но для полноты картины важно. Харю этого разложенца надо показать народу во весь оскал. Воздух тогда в стране будет чище. А не захочет помочь — пусть пеняет на себя. Отсидит положенное в тюрьме, а мать и братьев с сестрами отправят в сибирские лагеря. Сейчас в мире идет смертельная борьба и миндальничать с чуждыми элементами некогда…
Долго так мытарили ее. А потом продиктовали и заставили подписать это письмо. Прямо на вырванных листках из братишкиной школьной тетрадки.
— А, оказывается, все это неправда! И вот вы они! Живы-здоровехоньки! Ой, простите, миленькие! Ой, лихо мне! — плакала девушка. — Все это злая лжа! И со мной ничего этого не было… Та и не могло стать. Я даже, что такое хлопец, что такое человик, до сих пор не ведаю…
— Как не знаешь — что такое мужик?! — прервал ее один из спутников Петра Петровича, по натуре прямой и жесткий. — Может, ты до сих пор и свою дивичность сберегла?!
— Та при мне она, со мной! — был горестный вздох.
— А не можешь ты об этом взять справку у врача? У гинеколога?
— Та, конечно! Стыдно, но могу…
Остальное было делом стремительности натиска, а также разнообразия и непредсказуемости человеческих отношений. Издержек межведомственной секретности, из-за которой медицинские начальники ничего не знали и не имели права знать о происходившем, старых «завязок» еще партизанской поры, а также и просто душевной расположенности врачебного персонала к почетным и именитым гостям из Москвы, с которыми кое-кто был знаком еще со времен войны.
Как бы то ни было, к середине дня группа, включая Ганну, отъезжала из районного центра, имея на руках не просто справку от врача-специалиста. Но заключение комиссии экспертов, правда, наспех сколоченной при райбольнице, но зато с приложением всех требуемых подписей и печатей.
Губительный зловещий замысел на глазах превращался в посмешище.
Кстати сказать, почти как веселая побасенка история эта ходила позже в кругу ветеранов-партизан.
Уже в конце 70-х годов в ответ на мой осторожный вопрос, не знает ли он об этой истории, я услышал ее красочный повтор из уст одного из друзей П.П.Вершигоры — Ильи Захаровича Вергасова, бывшего командира соединения крымских партизан и тоже писателя.
Блестя своими веселыми голубыми глазами на загорелом моложавом лице, Илья Захарович говорил:
— Конечно, прибор у Петра был изрядный, и он не упускал случая им махать! Но не до такой степени. А в данном случае Борода был чист, как стеклышко…
Живо откликнулась на мои расспросы и бывшая соседка по квартире на Лаврушенском переулке Мария Иосифовна Белкина, прозаик и очеркист, автор известной биографической книги о Марине Цветаевой «Скрещение судеб», едва я ей позвонил:
— Как же?! — воскликнула Мария Иосифовна. — А она оказалась целкой!..
Теперь, конечно, можно сколько угодно потешаться. Но тогда речь шла о человеческих судьбах, о жизнях.
Летом 1953 года, после смерти Сталина и ареста Берии, «топтуны» под окнами исчезли. Но ощутимого перелома в винницком партизанском «деле» не наступило.
Один из главных его рукоделов генерал И. Серов стремительно шел вверх. И уже в 1954 году был назначен председателем КГБ СССР. Придавать этому делу былой раскрут он теперь, может, уже и не имел резона. Но отступаться от прежних своих действий и распоряжений и тем более извиняться за них тоже не собирался. А поскольку как раз на этом настаивали и этого не могли не требовать пострадавшие и их защитники, борьба приняла подспудный и затяжной характер.
Впрочем, некоторые пиковые ее моменты иногда вырывались на поверхность. Своеобразно запечатлевались даже на страницах печати. Однажды, например, центральный партийный орган газета «Правда» поместила огромную статью — «простыню» на журналистском жаргоне, подписанную четырьмя научными мужами — академиком, двумя профессорами и кандидатом наук. Последний, очевидно, по чьему-то заданию это сочинение и накатал.
Внешне статья — пустопорожнее восхваление незадолго перед тем вышедшего первого тома «Истории Украинской ССР» (Киев, 1953). Она состоит из изжеванных фраз, где глазу не за что зацепиться. Единственное живое место и острие наукообразного опуса — выпады против П. Вершигоры. Речь идет все о той же горячей теме — о партизанском движении. А в усиленном козырянии «украинской картой» проглядывает одна из попыток перетянуть на свою сторону нового партийно-государственного лидера Н.С.Хрущева, многими корнями связанного с Украиной.
Как ни осмотрительно держался в те годы писатель-генерал, стараясь не усугубить и без того трудное положение свое и подзащитных, это ему не помогло. Стоило Петру Петровичу в журнальном выступлении допустить всего один неосторожный абзац — и гром грянул. Главное охранное ведомство и партийные аппаратчики увидели в статье партизанского писателя намерение взять реванш — и удар последовал сокрушительный.
«Недоумение читателей, — вещают авторы коллективки в «Правде», — вызвал политически ошибочный и грубо бестактный выпад П. Вершигоры против «Истории Украинской ССР». П.Вершигора в четвертом номере журнала «Октябрь» походя, одним абзацем пытается очернить работу многочисленного коллектива историков. Он облыжно утверждает, что в труде не показано «творчество народных масс»… Чем же вызваны такие оценки Вершигоры? Оказывается, тем, что в «Истории Украинской ССР» якобы не показано творчество масс в партизанско-казацкой войне».
Окончательный вывод бьет наотмашь: «Таким образом, П.Вершигора и редколлегия журнала «Октябрь» допустили грубую ошибку, незаслуженно охаяв первый том «Истории Украинской ССР». Это безответственное выступление П. Вершигоры вызвало справедливые протесты советских ученых» [8].
Вот как этот биографический эпизод подает западногерманский литературовед Вольфганг Казак в статье о П.П.Вершигоре «Лексикона русской литературы XX века». «В поздние сталинские времена, — читаем там, — В. активно выступал в защиту преследовавшихся партизан… В 1954-м выступил против искажения картины войны в одном академическом изд. (ж. «Октябрь», 1954, № 4), за что были сняты ред. «Октября» — Ф. Панферов и И. Падерин» [9].
Всего один абзац в пространной журнальной статье — и такой камнепад! Даже непотопляемый «октябрист» — главный редактор журнала и почти классик соцреализма Федор Панферов из-за этого абзаца на время лишился своего поста! А сделать это невозможно было без ведома высших партийных сановников, вероятней всего, и самого Н.С.Хрущева…
После назначения генерала Серова председателем КГБ СССР (уже спустя некоторое время после смерти Д.Н.Медведева и провала личных обвинений) Петр Петрович попытался с ним встретиться, чтобы решительно объясниться и полностью закрыть антипартизанское «дело». Но объяснение положения не исправило. Напротив, высокая аудиенция едва не закончилась катастрофой.
Хозяин кабинета оказался бесцветным полноватым белокурым чиновником, с раздраженной амбицией, расположенным к бессчетным наставлениям. Он лишь изредка отвлекался, чтобы слушать собеседника. В остальном же втолковывал, поучал, ссылался на партийные авторитеты, доходя до откровенных издевок и скрытых угроз. Иногда тонкий голос его возвышался почти до крика.
Все это, как рассказывал Петр Петрович, он еще переносил. Вернее, терпел, напрягаясь всем телом. Пока грубый зонд не стал ковыряться в свежей ране. Высокий начальник начал разбирать, как он выразился, случай «изнасилования малолетней».
Тут, ускользнув, вырвалась, вероятно, натура беспризорника и партизана. Внезапно Петр Петрович потерял контроль над собой, им овладело отчаяние. В какой-то момент, уже не думая о последствиях, он схватил со стола и хотел швырнуть в обидчика мраморную чернильницу.
Хорошо, что руку успел толкнуть пришедший вместе с ним и сидевший рядом представитель военного отдела ЦК. Чернильница ударилась в стенку.
Небывалый скандал получил огласку. Стоял вопрос об исключении из партии, но в конце концов за анархизм, хулиганство и невыдержанность писателю-партизану впаяли строгий партийный выговор с занесением в учетную карточку.
Со взысканием он, конечно, счастливо отделался. Но генерал Серов оставался на этом посту еще четыре года. И какого же кровного врага нажил с той минуты Вершигора!
Десятилетия пребывавший у чекистских кормил, один из заместителей Берии, сыгравший позже видную роль в подавлении венгерского восстания октября 1956 года, генерал Иван Серов имел свое маленькое хобби. Он всегда питал даже некий завистливый интерес к бунтарям и строптивцам от культуры.
Скажем, в книге мемуаров Майи Плесецкой И.Серов — один из сквозных персонажей, хотя в жизни она наблюдала его только дважды и раз говорила с ним по телефону. Но долголетним занесением в тайную картотеку «подозрительных» и «невыездных» уже в хрущевскую «оттепель» выдающаяся балерина многим обязана именно этому человеку.
Своего гонителя, явившегося однажды с женой на спектакль «Лебединое озеро», которого она впервые воочию узрела из-за кулис, М. Плисецкая рисует с откровенной ненавистью: «Разглядываю бесцветное, вошное лицо скопца, с белобрысым проборчиком редких волосенок. Молнией — жуткая ассоциация. Как он похож на сталинского наркома по Смертям Ежова (его фотографии перед тридцать седьмым сновали днем за днем по газетам). Профессия палачей или природа делает их похожими друг на друга» [10].
О Серове подробно пишет и другой мемуарист — государственный и партийный деятель А.И.Микоян. Бессменный царедворец всех кремлевских режимов — «от Ильича до Ильича» — выделяет такие причины пятилетней «непотопляемости» Серова уже в пору хрущевских реформ: при Сталине Серов начинал наркомом внутренних дел Украины и многое знал о личном участии Хрущева в политических репрессиях 30–40-х годов, а «их дружба домами началась еще в то время». Как выражается А. Микоян, «Хрущев долго питал слабость к нему и не хотел убирать, хотя Серов был заместителем Берии и вообще прошлые дела его компрометировали…» [11].
Серов платил шефу безоглядной преданностью. Вдвоем с министром обороны Г.К.Жуковым в июне 1957 года, когда подняла голову группа Маленкова, Молотова, Кагановича и других сталинистов, они рассылали военные самолеты для срочного сбора в Москве членов ЦК. Согласованные действия главных «силовиков» обеспечили идейную победу Хрущева на собравшемся пленуме ЦК и окончательное утверждение его у власти.
Впрочем, в дальнейшем, видя, что Хрущев все больше увлекается либеральными реформами, Серов стал «поглядывать на сторону», исподволь подыскивать себе другую, более надежную опору. Микоян подробно повествует о кремлевских интригах и внутригрупповой борьбе вокруг Хрущева с целью развести Серова с «хозяином».
В характере Хрущева было много черт, взращенных в сталинском окружении. Он был коварен, нетерпим к людям, склонен к самодурству и произволу. Но в нем было и многое другое, исходившее от народных корней этого простолюдина. «Но я видел и его положительные качества, — пишет А. Микоян о тогда уже давно отставленном Хрущеве. — Это был настоящий самородок, который можно сравнить с неотесанным, необработанным алмазом. При своем весьма ограниченном образовании, он быстро схватывал, быстро учился. У него был характер лидера: настойчивость, упрямство в достижении цели, мужество и готовность идти против сложившихся стереотипов».
Хрущев постепенно отдалялся от Серова. Но не спешил сдавать своего порученца. Летом 1958 года тот все еще заправлял Лубянкой.
Однако чем больше слабели позиции И. Серова, тем везучей и удачливей становились его противники. Постепенно самые тяжкие обвинения против винницких подпольщиков рассыпались и отпали. А в ноябре 1957 года издательство «Молодая гвардия» впервые выпустила повесть Д. Медведева «На берегах Южного Буга» в Москве. Для отдельного издания сочинение покойного писателя дорабатывал его соавтор по пьесе «Сильные духом» кинодраматург А.Б.Гребнев.
А уже две недели спустя, то есть почти за год до поездки на Гидрострой, П.П.Вершигора напечатал свой отзыв на страницах той же «Литературной газеты»:
«Эта книга не просто написана, она выстрадана автором. Живые герои его повести были объявлены «лжеподпольщиками» и «проходимцами»… Д. Медведев не стал дожидаться, пока будет восстановлена правда… Он опубликовал эту повесть в журнале «Жовтень», ясно представляя, что последует для него самого…
Он мечтал о книге-памятнике погибшим героям-винничанам.
Книга эта станет памятником и самому Д.Н.Медведеву, нашему другу, простому и обаятельному человеку, смелому и принципиальному борцу…» [12].
В строках газетного отзыва можно уловить, пожалуй, нотки армейского поминовения над гробом павшего товарища. И это не слуховая иллюзия. Потому что автор газетной статьи одновременно внутренне давал слово пройти еще остававшийся отрезок пути и довести оплаченное дорогой ценой дело до конца.
С этой клятвой «полуштрафной» писатель-партизан и прибыл на Волгу, чтобы поставлять газетные очерки об открытии Куйбышевской гидростанции, а еще больше — для возможной встречи с Н.С.Хрущевым.
Вернусь к записям из дневника.
«Девятого (августа) в полдень я вместе с собкором «Советской России» Александром Дурасовым прикатил на ГЭС. К концу дня ожидался приезд правительственной делегации. На станции, вернее, на маленьком полустанке «Жигулевское море», где, кроме асфальтированного перрона и небольшой, тоже асфальтированной площадки вокруг белого здания вокзала, больше ничего другого и нет, уже с утра жарилось на солнце много штатских, рослых, цветущих ребят, в прекрасных шерстяных костюмах и, как правило, в темных защитных очках (охрана КГБ). Тут же на площадке генерал-полковник муштровал роту почетного караула. В три шеренги стоял духовой оркестр.
К пяти часам из городков гидростроителей натекло много народа. «Победы» и «ЗИМы», пробираясь сквозь толпы, отчаянно пипикали. Приближался час, к которому готовились почти год…
Корреспондентов, которых понаехало много, обком обеспечил пропусками. К тому же за Вершигорой, у которого, как у Черномора, сила была в бороде и в высовывавшихся из-под нее золотых регалиях — Звезды (Героя) и лауреатской медали, — я чувствовал себя довольно уверенно. Мы стояли в первых рядах, у самых железнодорожных путей. На рельсах с киноаппаратами, в беретах и синих бумажных куртках, вертелись чешские журналисты. На перроне сгрудилась обкомовско-гидростроевская делегация встречающих.
Наконец, подошел специальный поезд из нескольких вагонов…
Минуту из него никто не выходил. Минута лихорадочного разглядывания вагонов поезда, мысленного гадания — откуда, из какого вагона выйдут? Из этого, с большими шелковыми занавесками на окнах, который в середине? Есть еще вагон-ресторан. Или — из двух крайних вагонов?
Вышли из среднего. Первым — секретарь обкома М.Т.Ефремов, за ним, приветственно размахивая рукой, Хрущев, потом Суслов и другие. Никита Сергеевич нагнулся к подбежавшим к вагону с цветами пионерам (почему-то у нас всегда для этой роли используются пионеры?!)… Минуту его не было видно.
Затем все они направились на пристанционную площадку. Аплодисменты. Кто-то натужно и заученно крикнул заранее подготовленное: «Центральному Комитету партии, ура, товарищи!» Но почему-то его не поддержали.
Хрущев остановился от меня в двух шагах. Офицер почетного караула, с эспадроном на плече, отдавал рапорт Председателю Совета Министров СССР. Я смотрел, впитывал в себя образ человека, с которым связаны все события, происшедшие после 1953 года. Значительная минута…
Никита Сергеевич — среднего роста, очень полный, полнота ему мешает, он чуть неуклюж. Когда он стоял ко мне спиной, принимая рапорт, вот что бросилось в глаза, — это по-мальчишески оттопыренные хрящевидные уши, я бы сказал, простонародные уши. Лицо и (лысая) голова у него покрыты ровным изжелта светло-коричневым загаром.
После того как сыграли гимн, Хрущев, Суслов, худой, высокий, в своем неизменном пенсне, с растрепанными по-юношески волосами и со своей столь же неизменной фуражкой в руках (он и Брежнев очень похожи, как их изображают на портретах; Хрущев не похож, его родинку, например, которую рисуют на всех портретах, я так и не приметил), направились к машинам.
В этот момент огромная толпа народа сзади сделала рывок и прорвала кордоны. Правительственную делегацию оттиснули, меня на какую-то минуту прижало к спине Хрущева. Задние толпы не видели, что делается впереди, и продолжали напирать. Возвышенность момента нарушена, все смешалось. Странное ощущение!
Охрана, изо всех сил работая локтями, с трудом овладела ситуацией. Правительственная делегация по узкому коридорчику еле выбралась из толкучки. Кое-как села в машины и уехала…
На следующий день Н.С. спозаранку, говорят, в шесть утра, уехал осматривать сооружения гидроузла. В полдень, в присутствии журналистов, состоялся осмотр машинного зала (и сам торжественный акт пуска).
Запомнилось лицо директора ГЭС А. Рябошапки (в машинном зале), когда он рапортовал Н.С.Хрущеву: станция работает нормально, действует 16 агрегатов, четыре находятся в резерве. В окостеневшей, вытянувшей руки по швам толстой фигуре этого седеющего, обычно самоуверенного, одетого в дорогие костюмы, цветущего вида сановника было одновременно и усердие, и испуг унтера перед генералом. Синие рыбьи глаза вытаращены, смотрит и от трепета ничего не видит.
Рябошапко, директор мировой гидростанции, еще раз продемонстрировал то, что зовется холопством. Не в пример ему, с какой восточной уважительностью и достоинством держался главный инженер (ГЭС) Саркисов или Иван Васильевич Комзин, который вел себя с простотой и нецеремонностью русского гостеприимного хозяина-хлебосола.
Впрочем, много чинопочитания изначально заложено в самом ритуале. Зачем-то Н.С. заставили перерезать символические ленты на четырех агрегатах, для чего надо было пройти взад-вперед по почти километровому (машинному) залу. Было жарко, люди теснились. Атмосферу дополнительно нагревали «юпитеры», постоянные синеватые вспышки магния. Н.С, видимо, устал. Говорил отрывисто, голос глухой, с хрипотцой. Больше слушал.
Во время обхода машинного зала правительственной делегацией имели место «инциденты». Причем два из них внесла в торжество «неорганизованная семья» Вершигор. Один — маленький и вроде бы для них благоприятный, а другой — скандальный, который чуть было не погубил весь замысел Вершигоры…»
Тут я прерву дневниковые записи, чтобы подробней рассказать о случившемся.
10 августа по официальному календарю отмечался День строителя. Эту дату и изукрасили пропагандистской акцией высшего разряда — открытием мировой ГЭС.
Впрочем, новый гидроузел на Волге и без того вызывал интерес. По железной дороге прикатил целый спецвагон зарубежных корреспондентов. Еще больше в нарядной толпе, с утра начавшей запруживать огромную площадку перед обращенным в трибуну крылом белокаменного здания гидростанции, кишело, крутилось и шныряло всякого рода доморощенных надсмотрщиков и сотрудников спецслужб. Вообще происходившее здесь в тот день, из удаления глядя, представляло собой причудливую смесь воплощенной мощи инженерной мысли, организованного хаоса какого-нибудь очередного первомайского празднества с неотвратимой вездесущностью политического сыска.
До назначенного часа еще оставалось время. Хрущев осматривал какой-то близлежащий показательный совхоз. Загодя собранные людские толпы жарились на солнце.
Во время этого вынужденного простоя к нам с П.П.Вершигорой подошел куйбышевский собкор Фото-хроники ТАСС Алексей Б., что называется, теплый парень, которого я до сих пор держал за одного из приятелей. Он принялся фотографировать Петра Петровича, и я не сразу заметил, что с ним был какой-то тип в добротном коричневом костюме и солнцезащитных очках.
Тот, в свою очередь, отозвал меня в сторонку и вкрадчиво спросил:
— А не могли бы вы взять интервью у корреспондента агентства Франс Пресс?
— Для чего?! — удивился я.
— Пусть он расскажет о своих впечатлениях. Мол, какая это замечательная, выдающаяся гидростанция и тому подобное. А потом… понимаете… ему будет труднее, как это у них принято, писать обратное. У нас против него — связочка…
— Позвольте, а вы кто такой?! Как ваша фамилия? Должность?
— Я здесь работаю, — был односложный ответ.
— Вы знаете, я — собкор «Литгазеты». У нас здесь свои дела. И редакция брать такие интервью мне не поручала. Пусть сначала редакция даст команду, — уклонился я.
— А-а… тогда другое дело, — разочарованно протянул тип и растворился в толпе.
Когда я, задетый за живое, в сердцах поведал о происшествии Петру Петровичу, тот только добродушно сощурился:
— А вы что хотите?! Они все тут заполонили, все хотят под себя подмять…
Наконец, как передали по рядам: «Прибыли!» — кавалькада правительственных автомашин.
До митинга под открытым небом предстоял еще «акт торжественного пуска» в машинном зале. Из корреспондентского корпуса туда допустили не больше полусотни человек.
Петр Петрович был с Антониной Семеновной, в этот день повсюду его сопровождавшей. Пропуск на нее выдал И.В.Комзин, благоволивший к Вершигоре. Впрочем, супружеская пара уже побывала здесь сразу же по приезде, несколько дней назад. Причем не только в машинном, но, как оказалось, и в турбинном зале.
Машинный зал представлял собой огромное бетонное здание, напоминавшее изнутри гигантских размеров ангар, в несколько десятков метров высотой и почти километр длиной. Все здесь было приготовлено для торжеств, сияло и блестело. Пол отделан серо-голубым кафелем, с ковровыми дорожками, люминесцентные лампы с подвесных потолков источали мягкий дневной свет.
Вдоль зала в уменьшающейся перспективе выстроились свежеокрашенные кремовые с красным бордюром посередине, опять-таки многометровой высоты шлемы двадцати агрегатов. Наверх, к купольной макушке каждого, вела винтовая лесенка с перилами и системой железных площадок. В зале было тихо и, если бы не дальнее утробное урчание и не гигантские размеры, можно было бы сказать — даже уютно.
Основная работа по преобразованию механических ударов воды в поток мчащихся частиц, называемых электричеством, совершалась не здесь, а много ниже — в так называемом турбинном зале, который не могли видеть гости. Туда через вращающиеся стальные валы, каждый толщиной в три обхвата, передавалась мощь ударов волжских водопадов, бьющих с огромной высоты плотины в лопасти турбин.
Там отсек каждой турбины, если в него заглянуть, напоминал черный зев, где бушевали горячие ураганы. Там над головой наблюдателя, как потолок размером под стать доброму конференц-залу вращался ротор генератора. Там неслись бешеные вихри, было сыро, грязно, пахло машинным маслом.
Зато здесь, наверху, все было чинно, благостно, освещено и блестело. Все распростерло объятия для приема дорогих гостей, всему назначалось вызывать гордость, ликование и праздник.
Мы с П.П.Вершигорой продвигались в первой корреспондентской шеренге. Между нами и правительственной делегацией было лишь полдюжины рослых телохранителей Н.С.Хрущева, каждый из которых, как говорили, состоял в ранге не ниже полковника, и начальник его охраны.
По ходу движения я делал пометки в блокноте, стараясь расслышать и записать реплики Хрущева, которые требовались для предстоящего газетного репортажа. Смотреть под ноги и вокруг было некогда.
Один раз во время таких записей, не заметив, что кортеж внезапно стал, я, механически двигаясь вслепую, слегка натолкнулся на охрану и тут же получил резкий удар локтем в бок и услышал сдавленное шипение плечистого стриженого детины: «Если вы будете себя так вести, то вы здесь не будете!.. И вообще — знаете, будете где!..»
Это первое нечаянное знакомство с нравами охраны партийно-государственного вождя в тот день оказалось не последним.
Впрочем, в степенно продвигавшейся процессии первых лиц государства и поспешавшей рядом свиты, как выяснилось потом, развертывались свои катаклизмы.
Пояснения Хрущеву по долгу службы давал начальник строительства Комзин. Но на ту же роль претендовал и стремительно делавший карьеру Ефремов. Партийное руководство во вверенной ему области, как считалось, обеспечило появление на свет чуда гидротехники.
Ефремов нередко перебивал говорившего, вставлял реплики, высоким и тонким своим фальцетом превозносил вклад Москвы и руководства партии в волжскую стройку.
Это назойливое желание переключить внимание на себя и понравиться Хрущеву не давало установиться тону серьезного рассказа, в котором был заинтересован Комзин. Разъясняя инженерно-технические особенности гидростанции, он считал необходимым коснуться и сегодняшнего дня стройки — нового промышленно-экономического района, который она своим появлением на свет неизбежно рождала в округе. Для начальника огромного строительства не было другого благоприятного случая, чтобы в интересах дела представить эту картину руководителям страны. Он говорил горячо и азартно.
Непрошенные вмешательства со стороны Комзин поначалу терпеливо сносил. Он вежливо давал высказаться Ефремову, а затем, продолжая пояснения, снова возвращался к прерванной мысли.
Однако когда какая-то нравственная грань, допустимая, по его понятиям, осталась позади, Комзин вдруг встрепенулся и по-своему принял навязанный вызов.
Физически соперники находились, впрочем, в разных весовых категориях. Этим отчасти и воспользовался Комзин.
Он продолжал свои обязанности гида, будто не замечая больше партийного начальника. Когда маленький, желтолицый, похожий на японца М.Т.Ефремов, избрав момент и приблизившись к Хрущеву, изготавливался произнести очередную тираду славословий, начальник Гидростроя, чей рокочущий бас умел завораживать слушателей, попросту поворачивался всем своим корпусом волжского богатыря и отгораживал спиной назойливую помеху.
Неугомонный куйбышевский наместник через некоторое время, снова улучив момент, выныривал, что называется, у Комзина из-под локтя. Но следовал новый поворот туловища, и соперник опять исчезал за могутной спиной гидростроевца.
Так продолжалось не один раз, было замечено и вызвало улыбки окружающих.
Это почти публичное поругание, усилившее давно копившееся взаимное раздражение, в сочетании с тем, что за строительство гидростанции Комзин только что получил звание Героя, а Ефремов — лишь орден Ленина, дорого стоили затем Ивану Васильевичу. Именно за это через какое-то время очутился он на знойных берегах Нила перед чертежными проектами и неясными миражами будущей Асуанской плотины. А еще позже — и на даче в писательском поселке Переделкино… Дорого обошлась ему та незабываемая «экскурсия»!
Между тем высокое шествие по машинному залу продолжалось.
Первый протокольный сбой, связанный с четой Вершигора, случился где-то уже у конца машинного зала.
Погруженный в репортерские записи на ходу, я не заметил, как Петр Петрович отделился от журналистского стана и сторонкой, краешком, держась левого порядка агрегатов, пробрался далеко вперед, намного обогнав правительственное шествие.
Когда процессия одолела почти километр пути, Вершигора уже стоял на одной из высоких смотровых площадок противоположного агрегатного шлема и делал оттуда фотоснимки. В дневнике есть об этом такая запись:
«Во время обхода машинного зала произошел маленький инцидент. Областное руководство не пригласило на правительственный прием, который должен был состояться вечером, почти никого из корреспондентов центральной прессы. Забыли (?) пригласить и П.П. Когда Хрущев вместе со всем эскортом сопровождающих шел в конец зала, он увидел Вершигору, который стоял на лесенке кремового с красной полосой шлема агрегата и фотографировал оттуда. Совершенно ясно теперь, что он и забрался туда не без тайной мысли.
Ник. Серг. увидел его, помахал ему рукой и, наклонившись к Суслову, что-то сказал, типа:
— Вон куда забрался партизан!
Областное руководство поняло это по-своему и, как шутил потом П.П., готово было броситься исправлять «политическую ошибку», которую допустило. До этого Вершигора сам ходил, закидывал удочку насчет пригласительного билета, я (для него) спрашивал о том же — отказывали».
Вершигору да и Антонину Семеновну Хрущев знал еще по работе на Украине. Нынешняя самоуправная выходка вроде бы удалась.
Между тем шествие обступило конечный агрегат. Последняя алая ленточка возле него была перерезана. Общие долгие рукоплескания.
Хрущев отдал ножницы услужливо расторопному помощнику и осмотрелся.
Возникло краткое колебательное мгновение.
Вдруг откуда-то, чуть не с поднебесной выси, от переплетов потолочной арматуры, тишину разорвал хрипловатый женский выкрик:
— Как, хороши штучки, Никита Сергеевич? А?!
Хрущев задрал голову, устремив взгляд наверх. Не растерялся и в ответ шутливо поднял большой палец руки: дескать, «на большой»!
— То-то! — продолжал тот же голос.
Мы обмерли: на верхней площадке противоположного агрегата, близко к макушке, красовалась сухопарая фигура Антонины Семеновны. Она стояла, выряженная по торжественному случаю — в белом платье Христовой невесты и в таких же шелковых нитяных перчатках до локтя.
На этом неожиданном явлении были сосредоточены теперь все взоры.
— Надо еще туда… вниз глянуть! — рукой показывала она на лесенку в турбинный зал. — Там еще лучше!
Наступило минутное замешательство. Хрущев о чем-то спросил Комзина. Тот коротко ответил. Потом Хрущев сделал вдруг широкий призывный жест, и вся кавалькада двинулась к лесенке в турбинный зал.
Охрана мгновенно отсекла корреспондентов, загородив спинами узкий вход. Правительственная делегация и небольшая часть свиты исчезли под землей, направляясь в тот самый рабочий ад турбинного зала, который, как уже ясно из предыдущего рассказа, меньше всего предназначался для высоких гостей и не мог быть подготовлен к приему. Посещение его никак не предусматривалось программой.
Антонина Семеновна, довольная исполненной миссией, с высоким чувством собственного достоинства, медленно спускалась по винтовой лесенке с макушки агрегата.
К ней подлетел разъяренный начальник охраны Хрущева.
— Кто вы такая?! Как посмели?! Вы здесь работаете?
— А вы кто такой?! Откуда выскочил? — был ответ.
— Да вы знаете, что я с вами сделаю?! — задохнулся начальник охраны. — Вы у меня попляшете! Подумаете, графиня, мымра полотняная! Кикимора…
— Ах ты… — в свою очередь, взвилась Антонина Семеновна. — Я тебе покажу мымру! Посмотри на себя! Пустопляс! Мудозвон коломенский! X… недоношенный! Я научу тебя с женщиной разговаривать! Несчастная твоя мать! Е… твою в душу! — и Антонина Семеновна разразилась таким многоверстным матом, который трудно передать на бумаге.
Начальник охраны онемел от неожиданности. К спорящим подлетел бледный, с перекошенным лицом Вершигора.
— Оля, Оля! Что с тобой?! Угомонись!
— А ты, пердун старый! Трясун несчастный! Весь век трясешься!
— Это ваша, товарищ генерал? Уберите ее…
— Я тебе — уберу! Кастрат! Негодяй! Пустопляс! — не унималась Антонина Семеновна.
Похоже, что ради праздника она еще с утра приняла порцию веселящего.
Петр Петрович еле оторвал ее от ярившегося и растерянного обидчика и увел.
Весь день он ходил сам не свой. Начальник охраны принадлежал к тому же ведомству, где засели главные зачинщики и устроители антипартизанской кампании, начиная с И. Серова. И не приходилось сомневаться, что все происшедшее он изобразит и доложит наверх соответствующим образом. Если же учесть степень близости и постоянный доступ начальника охраны к Хрущеву, то дело обстояло и вовсе скверно.
Может, непоправимо испорчены были итоги долгих усилий и надежд на скорую и вот-вот уже почти достигнутую справедливость. Да и сам корреспондентский выезд на Волгу для возможной встречи с Хрущевым не только наполовину обессмысливался, но, кажется, даже усугублял положение.
С мрачным видом, тяжело дыша и отирая пот со лба (начинало сдавать сердце), Петр Петрович простоял весь митинг под открытым небом. Мы следили за большой речью Хрущева, которую он произносил перед толпами строителей с крыла гидростанции.
Потом Вершигора сказал еще, что остается здесь. А я вернулся в коттедж, где нас поселили в соседних комнатах.
Не знаю, что в прошедшие часы свершалось в неведомых высших сферах и канцелярских штабах, обеспечивавших пребывание Хрущева и его окружения. Может, и ничего особенного. А, может, там развертывалась скрытая баталия.
Но только часа через два у меня на столе зазвонил телефон.
Говорил из приемной начальника Гидростроя «бюро услуг» Яков Кауфман:
— Где Петр Петрович?
— Не знаю…
— Передайте ему, пожалуйста, чтобы он зашел за билетом на вечерний правительственный прием…
— А мне нельзя? — смекнув, как меняется ситуация, осмелел я.
— О вас речи не было. Но я спрошу. Через десять минут он позвонил снова.
— Зайдите и вы…
— Решено проводить прием в расширенном составе, с участием прессы, — уже явно для отвода глаз сообщил он, вручая мне приглашение.
Похоже, что фортуна совершала очередной поворот.
Высокая встреча проходила в Доме приемов с подобающим размахом, воздвигнутом не только для нынешней надобности, но и на дальнюю гордую перспективу. Белокаменное здание уютно расположилось среди деревьев живописного парка на обрывистом песчаном берегу с видами на лениво плескавшееся Куйбышевское море и голубевшие вдали силуэты Жигулевских гор, завернутых в зеленый ковер лесов, концы которого, казалось, мокли в воде.
Впрочем, в сумерках, когда начался прием, об этих пейзажах могли напоминать лишь похожие на дальнюю жаровню мерцающие россыпи электрических огней по горным склонам противоположного берега, пушкинские фонари на здешних песчаных аллеях да ярко освещенные белые колонны подъезда самой резиденции.
Гости, в основном гидростроители, свои и наехавшие с разных концов страны, расположились в удаляющейся перспективе за двумя рядами почти бесконечных столов, приставленных к главному в виде буквы «П».
Местные устроители примостились в креслах рядом с Н.С.Хрущевым и его спутниками. Среди них активностью выделялись областной хозяин М.Т.Ефремов, который вел застолье, штатный парторг ЦК КПСС на Гидрострое А.С.Мурысев и начальник ГЭС А.К.Рябошапко. Пользуясь любым случаем, каждый из них в меру сил и возможностей старался вновь и вновь проявить великую радость от долгожданной исторической встречи, запал духоподъемности, бодрости и оптимизма. (Иван Васильевич Комзин, сидевший тут же, несколько часов назад держал ответную речь на митинге после Н.С.Хрущева и теперь находился как бы на роздыхе.)
Однако, похоже, что все эти зазывные старания официальных хозяев большой ответной волны не вызывали. Застольное празднество долго не задавалось.
Пожаловаться на недооценку своих заслуг племя покорителей водной стихии никак не могло. На митинге было объявлено, что более пяти тысяч строителей Куйбышевской ГЭС награждены орденами и медалями, двадцать пять человек получили звания Героев… И все-таки основная масса присутствующих как будто долго не могла стряхнуть с себя застольной хандры.
Загнанное вовнутрь настроение прорывалось то в ненатуральности заздравных высокопарных тостов, то в неожиданно наступавшем почти общем унылом молчании, в котором излишне бойко выделялся лишь перезвон ножей и вилок о тарелки и бульканье жидкости. Душевного разговора и сердечности как-то не получалось.
Праздник сильно подпортила недавняя речь Н.С.Хрущева с крыла гидростанции.
Ритуальное выступление вопреки всем ожиданиям оказалось «программным». Первый человек страны вновь показал свою загадочную непредсказуемость. На празднике гидростроителей Хрущев вдруг объявил, что партия меняет энергетическую стратегию. До сих пор приоритет отдавался гидростанциям. Теперь с этим делом на семь-восемь лет придется повременить. Главным звеном и приоритетом становятся электростанции тепловые.
Митинг проходил у подножия горы Могутной, на склоне которой гигантскими буквами из красного камня выложили лозунг «Слава КПСС!» Все пространство между горой и гидростанцией запрудили десятки тысяч людей, море голов, глаз. Бетонное крыло гидростанции превратили в нечто подобное ступенчатой трибуне стадиона.
Здесь же, на этой протяженной трибуне, находилась и условная «ложа центральной прессы». Я стоял в нескольких шагах от Хрущева и наблюдал, как рождалась программная речь.
Хрущев, в светло-сером костюме и соломенной шляпе, говорил долго. Запомнились два его живых движения. Стоя у микрофона, он одной рукой, с толстыми короткими пальцами, от случая к случаю переворачивал листки с текстом речи, от которого, впрочем, часто отвлекался, а другой непроизвольно и тоже время от времени почесывал себя ниже спины. Движение повторялось почти с детской непосредственностью и начинало раздражать.
Раздражать — не только столь явной простонародностью, но и вопиющим несоответствием историчности момента. С лицом, обращенным к десяткам тысяч людей, в мгновения, когда внутри рождаются и вдаль отсылаются слова, важные для их судеб, — это машинальное и повторяющееся безотчетное почесывание себя ниже спины…
— Конечно, кто спорит, — неслось между тем из микрофона, — ток гидростанций обходится дешевле, чем тепловых. Но строить их дороже, а главное — продолжительнее. Основное же теперь — темпы! Время! Партия меняет направленность главных усилий, чтобы быстрее и эффективней выполнить план великого Ленина об электрификации всей страны. При нынешнем всенародном соревновании с капитализмом приоритет окажется у того, кто сделает лучше и быстрее. Положить на лопатки первую индустриальную державу мира — Америку легче и быстрее с помощью тепловых электростанций. Так мы и будем действовать!
— Никто не умаляет значимости других энергомощностей, — оговаривался Хрущев. — Вслед за первой в мире атомной электростанцией в строй вступит ряд новых, более крупных атомных электростанций… Гигантские гидростанции строятся на Волге, Днепре, Каме, Ангаре, Иртыше.
И все-таки общий вывод звучал разве что смягченным приговором: «придется временно, годиков на семь-восемь, дать приоритет строительству тепловых станций и придержать развитие некоторых гидростанций».
Каково это было слушать им, практикам гидростроительства, в день своего торжества?!
В речи Хрущева, конечно, не пояснялось, что это повлечет за собой конкретно для каждого. Слушателям оставалось только ломать голову в догадках — каким гидростанциям почти на десять лет сократят финансирование, пересадят на скудный паек, кого — поминай как звали — законсервируют или прикроют навсегда…
Вот отчего многие сидели за столом с пасмурным видом, с загнанной вовнутрь думой. В экономические механизмы, в налаженные деловые связи и отношения, наконец, в личные замыслы и планы каждого вновь (в который раз!) вторгалась политика. Грозя все неумолимо перевернуть вверх дном. Опять требовалось, как и пять, и десять, и сорок лет назад, — «ухватываться за главное звено, чтобы вытащить всю цепь».
В застолье набралось немало крупных хозяйственников, а уж они-то на своем веку подобное испытали не однажды.
И о чем могли думать, а кое-кто из самых бывалых и тертых, может, даже вполголоса перешептываться за этим бесконечным праздничным столом в тот вечер?
Может, между собой они сдабривали дурное настроение недоуменными вопросами или вполушепот даже невеселыми шутками. Типа:
— Это что же? В сельском хозяйстве — там, значит, кукуруза, а у нас — тепловые электростанции… В Китае — читал? — доменные печи в крестьянских дворах и ловля воробьев, а у нас — мазут да уголь… Ну, будь здоров!
Или:
— Скажи, пожалуйста, и зачем Никите понадобилось говорить это именно сегодня? Зачем бросать дохлую кошку на праздничный стол? Знаешь? Я тоже не знаю… Ну, будь здоров!
Так я вижу происходившее теперь.
Однако же сама жизненная проблема была не столь проста, как могло показаться. Пройдет немного времени, и прозорливые публицисты начнут писать о «хищной пасти Гидропроекта». О том, как на самом деле дорого обходится народу и стране будто бы почти безвозмездный и «вечный» голубой огонь великих гидростроек.
Станут писать об отечественных Атлантидах, над которыми сомкнулись воды десятков без разбора напруженных рукотворных морей, об ушедших на дно русских городах (как погиб под Куйбышевской ГЭС старинный Ставрополь), о тысячах сведенных деревень и поселков, о затопленных миллионах гектаров хлебодарных пашен, лесов и угодий, о навсегда утраченных кладах неразведанных полезных ископаемых и т. д.
Вспомнят также и о людях, которые столетиями жили в этих местах, а теперь лишились своих корней, вековечных традиций и даже дедовских могил.
Осенью 1962 года переброшенный в качестве постоянного корреспондента той же «Литературной газеты» на работу в Сибирь, я собственными глазами наблюдал на Ангаре, как заканчивалась подготовка к затоплению ложа Братского водохранилища. Плотина высотой 106 метров была уже готова. Затопить предстояло площадь, равную, может быть, какому-нибудь малому государству Европы.
Рождение нового моря приурочивалось конечно же к очередной, на сей раз 45-й, годовщине Великого Октября. Оставались считанные недели. Штаб стройки, возглавлявшийся лично первым секретарем Иркутского обкома КПСС С.Н.Щетининым, заседал не реже двух раз в сутки.
Я гонял на «газике» по дну будущего моря. Многие дома в прежнем поселке Братске, заложенном еще в 1631 году и служившем острогом для раскольников-старообрядцев, разобрать не успели, да и некуда их было вывозить. Повыдергав кое-что из старинной архитектуры, поселок для простоты подожгли, и он долго горел, а потом дотлевал, чернея печными трубами, как на картинках времен войны после немецкого нашествия.
Не знаю уж сколько, но многие десятки гектаров еще зеленевшей тайги, как это планировалось, своевременно свести тоже не успели. Теперь сроков уже не оставалось. И деревьям, будто не сдающейся команде тонущего корабля, предстояло принять смерть стоя. Так эти гектары и ушли под воду. Чем это обернулось впоследствии для будущего моря, для живности реки, вытекающей из уникального озера Байкал, какие болезни и мутации повлекло — не известно.
Огромное количество стрелеванных из тайги бревен все еще высилось в штабелях, вдоль дорог. Может быть, не меньше уже разделанной древесины — досок и брусьев — лежало на складах. Напрасно выпрашивали это обреченное добро на любых условиях понаехавшие в новый поселок Братск, где разместился штаб стройки, лесозаготовители из разных регионов страны.
Лес как стратегическое сырье мог вывозиться только в плановом порядке. Никакая раздача пиломатериалов и древесины самостийным добытчикам в обход (уже невыполнимых!) разнарядок Госплана не допускалась. Всякая самоволка автоматически становилась хищением социалистической собственности. Да многое уже и нельзя было вывезти, так как рельсы железнодорожных узкоколеек разбирались по собственным графикам.
Для простоты картины все это богатство тоже палили по частям. Я видел (своими глазами!), как в Доме приезжих грубые мужики-заготовители и снабженцы из безлесных районов страны — из Молдавии, Украины, Средней Азии — с зубовным скрежетом и чуть не со слезами на глазах взирали на ночные пожарища, до раскаленной красноты озарявшие наши окна.
Обо всех этих злодеяниях, иначе не назовешь, я после объездов на «газике» лихорадочно написал и передал по телефону статью в редакцию. Даже повидавшая виды редакционная стенографистка прерывала свою запись не идущими к делу бурными эмоциями. Мне рассказывали потом, что статью читала вся редколлегия. Возмущались, но напечатать не отважились. Только приделали «ноги»-сопроводиловку и в виде «справки» направили в ЦК КПСС…
У Хрущева-политика была развита интуиция. Этот здравый смысл проглядывает подчас в самых сумасбродных его действиях и затеях. Такого свойства, мне кажется, было и его выступление в августе 1958 года на празднике победителей Волги — за свертывание гидростанций в угоду тепловым электростанциям… Первый, хотя и неуклюжий, удар по набухающему и разрастающемуся спруту и чудищу всесоюзного Гидропроекта…
По-своему ощущал он и настроение людского множества.
Шумно отодвинув тарелки и рюмку, он встал и провозгласил:
— Понимаю, конечно, что сегодня кое-кого погладил против шерстки. Но мы и собрались здесь в дружеском кругу, чтобы обменяться мнениями. Прошу высказываться… Свободно! Не стесняйтесь! Может, кто хочет мне возразить, поспорить? Пожалуйста…
Желающих почему-то долго не находилось.
Хрущеву пришлось повторять призывы.
Наконец, поднялся начальник Сталинградской ГЭС Кирилл Иванович Смирнов. Полный, седовласый, хоть и обкатанный службой, но человек, видимо, по натуре отважный.
Учитывая, что сталинские времена закончились всего пять лет назад, местами он возражал даже дерзко. Но в целом говорил долго, сбивчиво и не очень убедительно. А закончил даже заздравным тостом. Получалось, что больше защищал «честь мундира».
Это дало возможность Хрущеву в тосте «алаверды» почти отшутиться:
— Конечно, с точки зрения эстетической, — сказал он, — мы за гидростроителей! Всей душой! Красиво, мужественно! Кроме того, надо при расчетах учитывать и то, что Куйбышевское и Цимлянское моря решают также и вторую проблему — орошения, третью — мосты. Но время! Сколько уходит времени на разворот такого большого строительства! Есть и многие другие невыгоды и потери, которые вы все знаете… Поэтому, товарищи, поправки в планах! На семь-восемь лет!..
Однако подобие начавшейся дискуссии, а может, заодно и количество поднятых тостов сняло первоначальный напряг.
К концу вечера столы уже шумели. Хрущев расхаживал по залу, поздравлял, чокался с новоявленными Героями.
В один из таких моментов я увидел, что Хрущев отошел в сторонку и стоит у стены наедине с Вершигорой. Петр Петрович что-то ему горячо втолковывает, помогая себе взмахами рук, а Хрущев слушает с застывшим лицом.
На это многие обратили внимание, потому что уединенный разговор продолжался достаточно долго.
Уже за полночь, в коттедже, зайдя ко мне в комнату, Петр Петрович сказал:
— Аудиенция, кажется, удалась! Утром отбываю в Москву. Хрущев обещал, что примет меня по нашим партизанским делам сразу же по приезде. Должен предстать со всеми бумагами и документами… Так что вы уж продолжайте здесь без меня! Встретимся в Москве…
Так оно и получилось.
Не берусь судить и вымеривать, какую роль в состоявшемся через несколько месяцев снятии И. Серова, впрочем, обставленном достаточно почетно, сыграл обговоренный прием партизанского генерала Хрущевым в Москве. В мемуарной книге А.И.Микоян рассказывает, как происходило отстранение Серова. Исподволь замены председателя КГБ, пребывавшего на этом посту уже четыре года, добивались многие в окружении Хрущева. Гирьками на чаше весов оказались и собственные политиканские расчеты в борьбе за ключевой государственный пост. И неприязнь к высшему начальнику сыскного ведомства — уж очень безразборчивой, скомпрометированной и одиозной фигурой тот был.
По Микояну, решающую роль в падении Серова сыграли однако не главные промахи или преступления Серова, а ловко проведенная против него придворная интрига. Лубянский сановник попался на попытках сговора в поисках нового «хозяина». На этом сумели засечь его с поличным давние противники, представив доказательства Хрущеву.
«Только после этого случая, — пишет Микоян, — Хрущев согласился убрать Серова из КГБ. Перевели его в Генштаб начальником ГРУ (Главного разведывательного управления. —
Карьера Серова катилась под закат в ту пору, когда Вершигора встречался с Хрущевым. Но, может быть, в совокупные импульсы и толчки, переломившие карьеру бериевского выкормыша, свою долю внесли и представленные Вершигорой лично Хрущеву факты и документы долголетних «антипартизанских дел», подогревавшихся И. Серовым.
…Ранней осенью 1958 года в стране отмечалось 60-летие со дня рождения покойного руководителя партизанского движения писателя Дмитрия Николаевича Медведева. Один из московских переулков, в котором он жил, был переименован в улицу Дмитрия Медведева. Большой вечер памяти состоялся в Центральном доме литераторов. В клубе того самого Союза писателей, который еще не так давно отказывал ему в приеме.
С Петра Петровича сняли партийный строгач: оказывается, он кидал чернильницей именно в того, в кого нужно.
О людях Куйбышевской гидростанции и тогдашних событиях мы совместно напечатали два очерка в «Литературной газете» (1958, 9 августа и 12 августа), а несколько позже большой очерк в журнале «Молодая гвардия» (1958, № 10). Очерки, не лишенные живости и интереса, однако же и не избежавшие налета казенщины.
После журналистской страды на ГЭС дела «штрафного» Вершигоры пошли в гору (каламбур того времени!). Мне же, считаю, повезло. Я не просто познакомился с обаятельным и самобытным человеком. В Петре Петровиче, пусть ненадолго, обрел бывалого и уверенного проводника по неведомым прежде сферам и тропинкам окружающей жизни.
П. Вершигора был первым значительным профессиональным писателем, с которым мне привелось работать в «четыре руки». Тогдашние совместные репортажи стали уроками литературного профессионализма. Что усвоено в результате? Простые вещи. Не надо чураться никакой работы. Генерал ли там, адмирал тоже может брать в руки швабру и драить палубу. Причем делать это даже лучше матроса, если только в том есть нужда.
В последующие годы я не так часто встречался с Петром Петровичем.
Однажды столкнулся с ним в коридоре «Литературной газеты». Он нес в редакцию вызвавшую затем множество откликов статью «Человек на обочине». Вещь, о которой он писал, была простейшая, но никак не воспринимавшаяся чиновной стенкой. О необходимости наладить выпуск мотоколясок для инвалидов Отечественной войны. П. Вершигора оставался верен своей теме — защите самых незащищенных.
В те годы Петр Петрович переживал вторую литературную молодость. Печатал иногда по три новых книги в год. Достраивал собственную документальную партизанскую эпопею. Среди новых ее «кирпичиков» — мемуарная повесть «Рейд на Сан и Вислу» (1960), печатавшуюся в журнале «Новый мир» у А. Твардовского, — о самом глубинном походе по тылам врага, проведенном под его командованием в 1944 году до Польши и Чехословакии. А рядом в том же 1960 году — два сборника документальных рассказов. Появилась наконец и «умученная» многострадальная книга по теории и практике партизанского движения — «Военное творчество народных масс. Исторический очерк» (1961). И единственный у П. Вершигоры роман — «Дом родной» (1962)…
Верные признаки вновь замаячившей популярности и славы иногда бывают курьезны. Вокруг начинают мельтешить подражатели, самозванцы и двойники. Некоторых увековечили даже газетные фельетонисты. Некий авантюрист обделывал свои гешефты, маскируясь «под Вершигору» («Комсомольская правда», 1958, 26 ноября). Другой ловкач использовал обманный стереотип даже и семь лет спустя. Об этом напоминает публикация «Человек, укравший имя» в газете «Московская правда» (1965, 2 февраля). Такая забавная цепь превращений — героизма и популярности — в человеческой комедии…
В конце октября 1964 года после долгого перерыва я снова приехал в Куйбышев. На городских улицах в настенных промокших витринах все еще топорщились волглые газеты с информационным сообщением о Пленуме ЦК и портретами Брежнева и Косыгина, заменивших у государственного руля Хрущева.
Гуляя по городу, который давно не видел, я незаметно спустился к гранитной набережной. В этот бесприютный день поздней осени на ней попадались только одинокие прохожие.
Хорошо, хотя и чуть жутковато, было стоять, перегнувшись к воде, у серо-розового каменного парапета. Широченная необозримая Волга, будто не признавая гранитной окантовки набережной, гуляла на приволье по собственному нраву. Она тяжело и глухо ворочалась в своем ложе, стонала, слегка подкидывая и перекатывая громаду темной воды по всему горизонту, насколько хватало глаз. Играючи, но с сокрушающим размахом пробовала она набегавшей волной и прочность устоев самой набережной. Билась о гранит и поднимала фонтаны брызг. А вдали гоняла на сквозняках белые призрачные барашки очередных бегущих, еще не различимых волн. С ними цветом почти сливались редко парившие в тот день чайки.
От Волги, сколько ее ни пытались взнуздать и оседлать, по-прежнему тянуло неукротимой первобытной удалью, собственными запахами ветров, свежести, птиц, воды и рыбы. Великая река не сочувствовала нашим мелким передрягам и переменам.
Задумавшись, я незаметно добрел до затона. Здесь, не очень далеко от центра города, располагалось то, что можно назвать судовым кладбищем. На причале ожидали утилизации списанные теплоходы, речные трамвайчики, буксиры и баржи.
Настроение располагало — я рассматривал затон.
Внимание привлекла стоявшая впереди других большая старая баржа. Она уже давно ожидала своей утильной участи. Дощатые ребра потемнели от непогоды и времени, а металлические части проржавели до красноты.
Но теперь на ее махровом от ржавчины борту, где обычно располагается название судна, какой-то местный шутник сделал крупную свежую надпись мелом: «Н.С.Хрущев».
Насмешка явно была изобретением какого-то вовсе не казенного одиночки и оттого еще более язвительной, обидной и беспощадной. «Вот и воплотились, как говорил поэт, «в пароходы, в строчки и в другие долгие дела!» — подумалось мне. — Никита Сергеевич Хрущев — старая ржавая баржа!»
Помимо Гидростроя, по своим журналистским разъездам я близко наблюдал Н.С.Хрущева еще не один раз — в Куйбышеве, Новосибирске и в Москве. На разных совещаниях, в разных положениях и душевных состояниях. Видел, как в том же августе 1958 года был сорван митинг истомившимися людьми — бесцеремонный правитель страны заставил несколько часов кряду стоять под палящим солнцем и ждать его высочайшего явления толпу из десятков тысяч людей.
Наблюдал и другие сумасбродные выходки Н.С.Хрущева, в том числе и его входившие в обиход так называемые знаменитые «реплики», когда он никому не давал сказать слова (так было, например, с разумными советами народного агронома Терентия Семеновича Мальцева в Новосибирске в конце 1961 года). На этом совещании передовиков сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока Хрущев вел себя примерно так же, как на всем известных встречах с деятелями литературы и искусства в Москве. Его сумасбродство все более обретало черты мании величия. Так безграничная власть портит человека.
Был у меня и краткий, как оказалось, судьбоносный кадр журналистской памяти. В начале лета 1964 года я присутствовал в Большом Кремлевском дворце на сессии Верховного Совета СССР, где Хрущев, загорелый, отдохнувший, в элегантном светло-зеленом костюме английской шерсти, беззаботно и мимоходом выдвинул на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнева, к той поре уже тайно сколачивавшего и готовившего против него заговор.
И вот — последняя прижизненная встреча. Ржавая волжская баржа с надписью на борту…
А Петр Петрович Вершигора год с небольшим не дожил до конца хрущевской эры. Он умер 27 марта 1963 года в подмосковном санатории. Долгая болезнь сердца, а затем мозговой удар изнурили и расслабили организм. Ночью в одноместной палате он задохнулся…
В словах прощания звучала не только оценка литературных заслуг покойного — впервые публично было сказано и о мужестве гражданской позиции П.П.Вершигоры. Украинский писатель Платон Воронько, знавший о происходившем не понаслышке, в журнале А. Твардовского «Новый мир» писал: «Петр Петрович Вершигора был верным и бесстрашным другом. В первые послевоенные годы, когда многие бывшие партизаны подвергались тяжким обвинениям, а иногда и репрессиям, он делал все, что было в его силах, чтобы восстановить правду и спасти честь невиновных… Он навсегда останется в памяти народа как человек с чистой совестью» («Новый мир», 1963, № 4, с. 288).
П.П.Вершигора был из породы и поколения правдоискателей, вернувшихся с войны. Из таких неординарных людей армейской элиты, как адмирал И.С.Исаков, генерал А.В.Горбатов, а там уже и полушепотом произносимое тогда имя — начинающий бунтарь генерал Петр Григоренко…
Петр Петрович Вершигора, как и подобает партизану, лишь слегка опередил время. Он был «первой ласточкой» в этой необычной генерации…
В селе Севериновка в Молдавии, где родился Петр Петрович, действует его мемориальный музей. А в городе Новозыбкове на Брянщине, откуда уходил партизанить будущий генерал, одна из городских аллей названа «Аллея Петровича».
Для каждого настает час суда.
Такой оценкой, безусловно, является и знаменитый надгробный памятник Н.С.Хрущеву на Новодевичьем кладбище в Москве.
Постамент, как известно, составлен из чередования белых и черных мраморных плит, символизирующих борение темных и светлых начал в деяниях и душе этого человека. Постамент венчает глядящая из-под верхних перекрытий всем знакомая круглая лысая голова с умным и обманчиво добродушным лицом.
Хрущев сам принадлежал к ближайшему сталинскому окружению, сам утверждал и строил эту систему. И он же стал ее разрушителем и преобразователем.
Что перевешивало и брало верх в душе этого человека? Светлые или темные начала? Стоя у могилы, я не высчитывал пропорций и соотношений того и другого в надгробном памятнике. Но ответ, думаю, отчасти заключен уже в нем самом. В желании скульптора Эрнста Неизвестного, свирепо гонимого при Хрущеве, такой памятник создать и оставить потомству.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |