"Сила трупа" - читать интересную книгу автора (Коваленин Дмитрий Викторович)
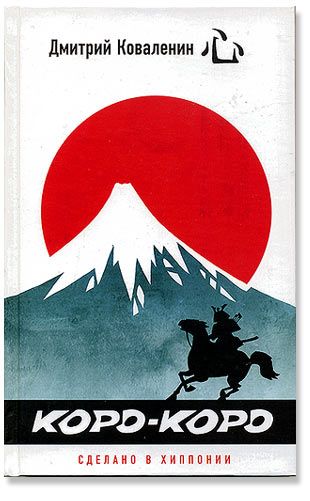 |
Дмитрий Коваленин Сила трупа
 |
 |
Девять лет своей жизни я работал японским агентом.
Всего нас было двенадцать. Как апостолов. Одиннадцать японцев плюс один русский я.
Ниигата — порт довольно крупный, в него заходят суда почти со всего мира. Из России везут алюминий и лес, а увозят, в основном, подержанные автомобили. Из Арабских Эмиратов — нефть и сжиженный газ. Из Китая, Индии, Бирмы — всë те же бревна, щепу, цемент, а также соевые, зерновые и прочие составляющие традиционной японской кухни.
Так вот.
Судовой агент — это человек, который отвечает за три вещи. Во-первых, за само судно. Чтобы оно в полной исправности в порт вошло и такое же вышло. А для этого существует огромный свод технических требований. Если судно начнет разваливаться в самом порту или при выходе, мало не покажется никому: тут тебе и страховки, и прочая ерунда — кто же захочет с этим связываться? Там же миллионы закручены! Не говоря уж об элементарной безопасности на воде.
Во-вторых, агент отвечает за груз. И здесь еще один черт ногу сломит. Все эти коносаменты, упаковочные листы, весь этот экспорт-импорт, растаможка, опять же страховка и прочая дребедень… Шестнадцать огромных отделов у нас одними только грузами занимались, не считая контейнерного терминала!
И в-третьих, агент отвечает за команду — самый непредсказуемый фактор в ежедневной портовой бодяге. Из-за чего меня, собственно, туда и наняли.
Ну, потому что представьте: приезжают суда из Бирмы, с Филиппин, из России, из Эмиратов, из китаев с кореями. И все эти морячки, сбрендившие от недельной болтанки в железной консерве посреди океана, от баланды постоянной или что они там жрут свое национальное, от тоски по дому, от тайного гомосексуализма и черт знает чего еще, — все эти два десятка измотанных мужиков достигают твердой земли. Им абсолютно по барабану, что это за земля — японская, филиппинская или прочее Уагадугу. Им хочется одного: немедленно встать на твердую землю — и нажраться, чтобы опять качало, ибо таково их естественное состояние.
И здесь я хочу сказать вот о чем.
Одна из самых горьких ироний моей судьбы — в выборе языка. В последнем классе английской спецшколы на Сахалине я долго колебался, на какой еще иностранный поступать. То ли на испанский — в Одессу к отцу, там тогда сильная кафедра испанского была, — то ли все-таки на японский. С одной стороны, я был весь «прояпоненный». Bce детство прошло на японских мультфильмах, японских буях после шторма на взморье и фантиках от жвачки с иероглифами. С другой стороны, я просто боготворил Гарсиа Лорку с Сервантесом, фламенки-фанданги, корриду, Кармен и прочие испанские страсти. В общем, мотало меня будь здоров.
Решил всë момент весьма прозаический: в случае с японским, во Владивостоке была военная кафедра. То есть пойди я на испанский — меня уже со второго курса забрили бы в армию. Поскольку, что ни говори, с Испанией мы друзья. А вот с Японией у нас мирного договора до сих пор нет. Стало быть, это страна предполагаемого противника. А посему в понедельник нам преподавали иероглифы, во вторник хайку с икэбанами, — а в среду мы учили, как взять за шкварник японского солдата, попавшего в плен, и вытрясти из него Главную Самурайскую Тайну: «А ну говори, гад, из какого полка! А также сколько у вас там гаубиц, минометов и бактериологического оружия!!» Или, скажем, как сочинять листовки: «Японские солдаты, сдавайтесь в плен, у нас тут лучше, не пожалеете!» То есть врага еще надо было в этом убедить, что само по себе задачка не для слабонервных. Наша мужественная профессия называлась «спецпропаганда», и в случае войны мы автоматически подчинялись Политическому Отделу. А это, сами понимаете, не мелочь по карманам тырить.
Так вот, друзья мои, язык японского допроса — это совсем не то, чем люди между собой разговаривают. Это вообще не разговорный язык. Это сплошные тычки, понукания и приказы, сокращенные до короткого гавканья. «Тэмээ!! Коноярро!!» и прочие междометия, от которых уши в трубочку сворачиваются. Язык наезда, попросту говоря.
И вот мы всë это тявканье зубрили, допросы учебные проводили, листовки писали, радиопрограммы составляли. А я все думал: «Господи! Двадцатый век кончается! Где, когда, за каким лешим мне пригодится весь этот бред?!»
И как вы думаете, где он мне пригодился? Правильно, в японском порту. А точнее — в японской полиции, которая постоянно арестовывала и сажала в кутузку безбашенных русских морячков. За мелкие кражи, пьяные дебоши и хулиганство. Вот представьте: просыпается наш Вася в полиции. И даже не помнит, что ночью перебил окна и вытоптал весь огород какой-то японской бабульке, живущей в припортовом квартальчике. Полицейский ему: «Какого рожна ты это делал?» А он — уже мне, переводчику: «Дык а чë они, с-суки, так богато живут? Ну скажи ведь, братан! Ну зажрались же гады!!» А у бабульки, заметим, кроме этого огородика, больше и нет ни хрена, она всю жизнь за него выплачивала, а старик ее умер, и доживает она свой век на одинокую пенсию в три копейки.
И вот я прихожу к нему в КПЗ. А он вообше ни черта не соображает: что происходит, где он, как сюда попал? А тут еще самурай в военной форме приперся и гавкает не по-нашему…
Это великая песня, друзья мои. «Интернационал» отдыхает. На подобном «допросе» хочется встать по стойке смирно и молча сглатывать слезы. Слезы боли, ярости и стыда за нашу неистребимую Советскую Родину в одном флаконе. Помните, у Михалкова такая поэма была — про пионера Мишу Королькова, который попал в плен к японцам и не выдал Военной Тайны? «Весь, как сморщенная слива, и на все на свете зол, сам полковник Мурасива составляет протокол»… Так вот, я вас уверяю: сам Миша Корольков плюнул бы этому морячку в его пьяную рожу и утопил в бухте Золотой Рог, спасая страну от позора. Ибо морячок этот наложил в штаны, и в извилине его билась одна только мысль: «Ой, братаны, что хотите скажу, только заберите меня отсюда!!»
А мне его — вот такого — переводить. И с японской «кичи» вытаскивать, да как можно скорее. Потому что судно завтра во Владивосток уходит, и если он тут застрянет, его придется обратно на самолете отправлять. А это — непредвиденные расходы, очередные документы, включая новый «shore-pass» для схода на берег, а также объяснения с Иммиграцией, Губернаторством, Мэрией, Начальником порта, местной Службой безопасности — ну, в общем, тотальный геморрой для всего нашего огромного порта…
Или, скажем, как-то утром вызывают меня в полицию. Дескать, взяли троицу русских, нужен ваш переводчик. Приезжаю — сидят. Помятые, побитые, в синяках каких-то: может, друг друга мочалили, а может, и полиция приложилась дубинками, — не важно, да и не жалко уже как-то, честное слово.
Что случилось, спрашиваю. Оказывается, в два часа ночи эти трое придурков проникли в зал ожидания морвокзала. Вообще-то зал ожидания открыт круглосуточно. Чтобы иногородние пассажиры, приехав на поезде вечером, могли дождаться утреннего парохода. Вот тебе кофе, пожалуйста, вот телевизор. Холодно — обогреватель включи… Ага, раскинул тут мозгами сметливый русский морячок — и давай действовать. Обогреватель, который на нашем керосине не работает, — в мешок (здоровые такие мешки для мусора с собой прихватили). Телевизор, который на наших волнах не показывает, — в мешок. Сто двадцать восемь банок кофе — чуть не консервным ножом автомат этот бедный вскрыли — туда же. Да всю эту добычу на родное судно и понесли. Ночью, втроем, навьючив аж два велосипеда.
А по всему порту скрытые камеры стоят. К нашим-то давно уже привыкли! Само собой, взяли с поличным. И поутру — знакомая до ломоты в висках народная русская песня: «Дык эта… Деньрожденье у Колюни, дык вот мы и тово…» Дальнейшие «допросы» излишни.
Отпускали таких. Всегда отпускали — если не сразу, то через сутки-двое. Что с них возьмешь? Штрафы впаяют не им — хозяевам. Покрытие издержек, компенсации — кто-то же должен за все это платить… Сперва заплатит наш порт — это ж мы за судно в ответе! — а потом будем всем отделом выковыривать эти деньги из пароходств России. Месяца три такой штраф ползет, а то и полгода. Иногда не доползает. Иногда его вычитают из зарплаты этих придурков. Иногда их там увольняют, но это совсем уж редко. Скорее всего, те же отморозки приедут снова — к нам или в другие японские порты, на том же судне или на другом. Живуч русский гопник. Все ему как с гуся вода…
В общем, всякое бывало. Порт — это же отдельная планета, такой огромный живой организм. Со своими циклами, рождениями и смертями. Чем я там только не занимался! И роды документировал, и гробы на родину отправлял, и на операциях без наркоза присутствовал, и гонконгских шлюх-нелегалок с поличным арестовывал, и на пару со священником у койки парализованного дежурил ночами без сна (вдруг очнется, последнюю волю успеет сказать)… А еще, помню, переводил человеку диагноз о том, что у него рак мозга и что ему жить от силы полгода осталось. На всю жизнь запомнил эти глаза.
Но, пожалуй, одна из самых странных историй за все мои девять портовых лет произошла в августе 96-го. Да, именно в августе: такую жару забыть трудно. Главный ее герой — не русский, а бирманец. И не матрос, а боцман. И даже не сам он, а его многоуважаемая Душа.
Об этом судне мы узнали за три дня до его захода. Получили заказ, вставили в общепортовое расписание. Флаг — Бирма, водоизмещение такое-то, 25 человек на борту, пассажиров нет, груз — лес-кругляк, столько-то кубов, заход 21-го, разгрузка 21-го, выход утром 22-го, карантин пройден, лоцман не нужен — ну, и так далее. Всë как обычно, работаем дальше.
Однако уже на следующее утро приползает еще одна радиограмма. Внеурочная. На корявом английском языке.
Расшифровывать такие «мессаги» — искусство отдельное. Точно так же, как в советских телеграммах платили по три копейки за слово и экономили на каждом знаке препинания («стапятидесятирублируйте»), морские радиограммы пишут на языке, какого не бывает нигде, кроме как в морских радиограммах. Половина моего отдела и трех слов не могла связать по-английски, но послания с судна в порт и обратно считывались довольно резво. Как любил говорить наш шеф, начальник Агентства, «жрать захотите — прочтëте».
В результате недолгих дебатов с коллегами, иероглифы на моем мониторе сложились в следующее:
Только что 07:43 19 авг скончался от сердечного приступа боцман прошу обеспечить прием тела в соответствии с добрым опытом морской практики зпт как понял тчк мастер.
Мастер — по-морскому «капитан». Это мы проглотили без вариантов. А вот насчет «доброго опыта» и «морской практики» тут же собрали летучку. Ибо здесь, цитируя шефа, «не покуришь — фиг поймешь».
И вот теперь я хочу, чтоб вы поняли мое состояние.
Вообще-то я — обычный русский парень, бывший владивостокский студент. Сбежавший из страны, которой больше нет, на мутной волне ГКЧП. Ну, просто смылся оттуда вовремя. Потому что пять лет грыз японский язык — а, простите меня, если границы сейчас захлопнут, кому и за каким лешим я буду нужен? По подвалам библиотек средневековые иероглифы ковырять? Да мне двадцать пять, ребята, я жить хочу! А во Владике средь бела дня из автоматов в упор автомобили расстреливают.
Как называется моя новая родина — это я уже там узнал. И где-то с неделю не мог сказать, откуда я родом, кроме как на японском наречии. Ну просто прихожу однажды на работу, а шеф отрывается от газеты и спрашивает, эдак мрачно:
— А ты знаешь, что твоей страны больше не существует?
— Да? — удивился я, даже с облегчением каким-то. И тут же вспомнил лимоновский рассказ в «Совершенно секретно». О том, как однажды люди мира проснулись и поняли, что весь Советский Союз заизвестковался. — А что существует?
— Теперь это называется «Докурúцу-Кóкка Кëдотáй».
— О как! — помню, усмехнулся я как-то нервно. Да повторил полушепотом раза три, чтобы не забыть. И лишь через неделю отследил наконец по радио, что очередное наше безобразие называлось «Содружеством Независимых Государств».
Вот такое ощущение, для особых гурманов. Есть чем похвастаться.
— Кто вы по национальности?
— Докурúцукóккакëдотáевец!
И никаких дальнейших вопросов.
Нормальным японцам, конечно же, весь наш развал Империи был совершенно «не в жилу». Моему шефу было пятьдесят четыре года, и на какой-нибудь корпоративной пьянке он страсть как обожал, расползшись пузом по татами, предаться ностальгическим воспоминаниям на глазах у желторотой молодежи. Да, мол, знаем, был у вас Сталин-тиран. Но в принципе — Митя-сан, с русскими почти всегда можно было о чем-то договориться! Вот, вы знаете, наш порт общается с Россией почти сто лет. Еще при Порт-Артуре мы с вами торговали, и весьма успешно. Боже мой! Верните нам советские времена! Мы же там со всеми давно сработались! У вас была система, которая работала по правилам. Пускай эти правила придумывали люди, отмороженные на всю голову, да, — но мы к ним привыкли! Столько лет мы играли с ними в шахматы, а теперь они на той же доске —
А как мы в советские времена уважали русского капитана! Это был настоящий хозяин судна. Офицер, который с честью носил свои погоны. А сегодня что? Сегодня за плечами этого офицера громоздится наглая русская якудза, и он — лишь безмозглая марионетка в их волосатых руках! Вы же видели этих орангутангов: «Ка-ароче, ка-апитан, берем еще двадцать тачек, понял, да? Плачу за перегон, не ва-апрос!» Капитан ему: «Да вы поймите, если будет перегруз — нас из порта не выпустят! Есть же техтребования, безопасность, правила погрузки, нормы крепежки груза на палубе…» А эта обезьяна ему: «Чë-т я не поал, мля, кто за поход платил?» А этот ваш мастер стоит и, наверное, думает: «Мой дорогой православный Бог! И это я — капитан российского судна?!»
Я слушал шефа, подливал ему сакэ из фарфоровой бутылочки, прихлебывал сам — и передо мной проплывали каюты, кителя и лица русских капитанов дальнего плавания. Которые закончили свои морские академии и бороздили Мировой Океан по пятнадцать-двадцать лет, чтобы теперь вот так бессильно сутулиться перед нынешними «хозяевами». А ближе к вечеру запираться в каюте — и в одиночку, буравя остекленевшими глазами линялый вымпел из кумача с бахромой (
Эй, кэп! А что ты себе, вообще, думаешь? Или забыл, как в 92-м штаны протирал на приморской суше, перебиваясь торговлей запасками к «тойотам» и «хондам»? А там, на их берегу, к тебе подошли, дали сразу конверт, а в нем — целых триста долларов. А другие конверты, потолще, осели в больших деревянных столах на Таможне, в Порту, в Пароходстве… Делай выводы, мастер. Много будешь базарить за безопасность, крепёжку и прочую мутотень — найдем другого. Не такого грамотного. Без высшего, без погон. Но зато — и потише, и «посовременнее». А он, если надо, сам со всеми обо всем договорится. И насчет крепёжки, и насчет безопасности. И сколько кому давать, разберется без твоих капитанских соплей…
И ведь хрена лысого ты им объяснишь даже то, что японцы, к примеру, взяток не берут. То есть на этом уровне — Таможни, Иммиграции, Порта, госчиновников средней руки — не берут. Ва-аб-ще. Нет, конечно, там, наверху, — дело другое. Там, где вращаются их синтократические миллиарды! Но уж за эти самые миллиарды они построили всех так, чтобы там, внизу — никто, никогда, никому. Идеология, проплаченная с потрохами. Или вы не достойный член общества? Или у вас социальной гордости нет? Ах, вам за дом еще десять лет кредиты выплачивать? И у вас там жена с тремя детьми? Да что вы говорите? А о чем же вы думали, принимая эти жалкие три тыщи долларов от русского мафиози? А если каждый так делать начнет — вы представляете, во что жизнь вокруг превратится? И что подумают миллионы людей о нашей фирме, департаменте, городе, стране? Так что уж позвольте освободить вас от занимаемой должности. Чтоб другим соблазна не было. Нам искренне жаль. Вы могли стать уважаемым членом нашего общества. Увы! Мы предоставили вам единственный шанс, но вы его не использовали.
М-да. Так о чем это я?
Ах, да. Радиограмма. «Примите, значит, наш бирманский труп как полагается».
Первое, что должен сделать агент, получив такую радиограмму, — это выяснить, как поступать с покойником. Ну, то есть понятно, что на родину отправлять. Но, простите, в каком виде? Прахом или в гробу? Ибо это разные вещи, разный фронт работ — и, ежу понятно, совершенно разные деньги.
Не знаю, открою ли я вам сейчас чью-то страшную тайну. Но сегодня на планете Земля не существует единых для всех «добрых правил» обращения с иностранными трупами.
Ведь труп — штука хитрая. Это уже не пассажир, но еще не груз. Ни правила пассажирской перевозки, ни нормы грузового транзита на него не распространяются. Вот если уже кремировали — другой разговор. Оформляй урну с прахом как спецгруз, плати за транзит особого назначения — и предъявляй потом счета бирманскому пароходству. Да в суммах можешь особо не скромничать — уж те-то ребята со страхового агенства в Лондоне по-любому больше стрясут.
Но доколе это мертвец, дело гораздо сложнее. Всë, что с ним связано: документирование последней воли, услуги переводчика, нотариуса, экзотического священника, заказ гроба, вскрытие, хранение, перевозка с борта судна в морг и обратно — в каждом случае требует личного присутствия или хотя бы письменного разрешения консула страны покойника.
А жизнь под этим небом устроена так, что когда ты звонишь в консульство страны покойника и интересуешься: «Вы консул страны покойника?» — у любого консула тут же находится куча совершенно неотложных дел, из-за которых он ну никак не может прямо сейчас оказать вам необходимую помощь. Нет-нет, позвоните завтра после обеда, а лучше вообще в понедельник, а то у нас три дня подряд национальные бирманские выходные. Да-да, мы уже запросили родителей усопшего, но они живут в далекой деревне, там плохая связь, сами ждем. До свидания.
А на дворе тридцать градусов в тени. А из морга нашего боцмана уже забрали. И хотя сухой лед в одноразово-полукартонном гробу еще до конца не растаял, из овощного холодильника порта уже потягивает странным душком. Невзирая на весь полиэтилен, которым наши грузчики его в десять слоев пеленали.
И вот он спит себе, безвестный бирманский боцман, вечным сном среди контейнеров с соей и папоротником — и, ни пальцем не шевеля, «наматывает счета». За хранение на «спецскладе», за ежедневные радиограммы Япония — Бирма — Великобритания. Но главное — за простой мьянмарского лесовоза в японском порту в ожидании директивы: то ли домой уходить, то ли дожидаться останков бедного соотечественника (не мог недельку спустя помереть, черт бы тебя побрал) в любом надлежащем виде.
Через четверо суток, когда пот уже окончательно заливает глаза, вонь на складе становится невыносимой, а сумма всех неустоек граничит с месячным доходом нашего агентства, — шеф с победным видом кладет на мой стол очередную радиограмму.
— Мьянма сказала «кремировать»! — радостно объявляет он, потирая пухленькие ладошки. — Собирайся. Поедем жечь.
И тут я вам вот что скажу. Для любого нормального капитана взять покойника на борт — пострашнее, чем смертный грех на душу. С одной стороны, это можно понять. О том, что такое неделю болтаться по морю с двадцатью живыми алкоголиками и одним мертвецом, можно снимать «ужастики» позабористее любого Спилберга. И я уверен: если когда-нибудь напишут десятитомную энциклопедию «Суеверия профессий мира», одних только моряцких страшилок там наберется тома на три.
На моей же памяти гроб с телом возили по морю один-единственный раз. Году в 96-м это было. Прирезали у нас в Ниигате сахалинского морячка. Видать, свои же, «морские» поработали. То ли пьяная поножовщина, то ли разборки вокруг подержанных тачек, бог разберет. В городе только что фестиваль закончился, фейерверки всю ночь пускали, народ гулял до утра. А с рассветом у набережной всплыл иностранный покойник. Полиция сильно копать не стала — японцы не пострадали, и слава Будде. Не фиг деньги японских налогоплательщиков на отлов русской якудзы тратить. Вот и записали: «большое содержание алкоголя в крови», «несчастный случай», — дескать, сам виноват. Дело через неделю закрыли, а тело вернули в порт… Из которого, ясен пень, его судно уже пять дней как отчалило. А вы что думали? Да сутки простоя сухогруза в японском порту на десяток тыщ долларов тянут! Кто все это будет оплачивать? Сахалинское пароходство? Родители — за то, что решили схоронить-таки сыночка по-христиански? Или, может быть, капитан, — ради «чести мундира» и поддержания «морального духа команды»?
Нет, конечно, сначала команда побунтовала, для форсу-то. С русским размахом, эффектно так: «Не найдете убийцу — мы все сходим на берег и самолетом летим домой!» Но уже к вечеру, выпив за упокой землячка, вспомнили, кормильцы, за чем именно в Японию-то притащились. А потому наутро отдали концы — и повезли в родной Корсаков свои полуржавые тойоты, мазды и лэндкрузеры. С ненайденным, заметим, преступничком на борту.
Глуп человек. Глуп, алчен и слаб. Это ж рехнуться можно: с убийцей на борту он плавать согласен, а с покойником — ни в какую! Десять безумных дней мы честно пытались всучить труп двадцатипятилетнего сахалинца заходившим в Ниигату российским судам. «Одной рукой» упрашивали капитанов, а «другой» — бомбили радиограммами все дальневосточные пароходства в радиусе от Владивостока до Камчатки. Бесполезно. При слове «покойник» любой «мастер» понижал голос до интимного бормотанья, вдавливал голову в плечи и прикрывал поплотнее дверь капитанской каюты — чтобы даже слух об этом на борт не просочился.
Разговоры эти не кончались ничем. «Отмазка» у капитанов была железной. Для того, чтобы «мастер» взял на борт незапланированный «груз 200», нужна особая санкция пароходства. С подтверждением того, что страховка такого груза будет выполнена согласно всем техническим, санитарным и черт знает каким еще требованьям. Подобная санкция выползает из чрева российской конторы не раньше, чем через два-три дня с момента запроса. А обычное русское судно дольше двух суток в японском порту не стоит. Замкнутый круг…
И лишь неделю спустя, когда очередная радиограмма в самых жестких формулировках легла на стол главы Сахалинского Пароходства, Система крякнула и разродилась-таки указанием: завернуть на Ниигату случайный корсаковский лесовоз, плюхавший мимо нас куда-то на Хоккайдо. С единственной целью: произвести «забор трупа» к родным пенатам.
Посудина прибыла мелкая, старая и ржавая. Никакой проверки на техбезопасность она бы не выдержала. Кастрюль в настолько аховом состоянии такой серьезный порт, как Ниигата, уже лет пять как не принимает. Ладно там, на Хоккайдо еще можно — там и требования пониже, и вообще, что с Хоккайдо взять, индейские нравы, мелкий бизнес «прибрежного» типа, да и с сахалинцами у них уже пару веков свои отношения.
И тем не менее, несмотря ни на что, — вот она, сила трупа! — красавец Японского моря Западный Порт Ниигата, крепко зажмурившись от стыда, шаркнул ножкой, распахнул свою образцовую бухту — и дырявый таз с облупившимися буквами «Герой-чекист Николай Смирных» 69-го года выпуска пришвартовался-таки к Лесному Терминалу Номер Четыре.
По любому международному ранжиру, команда такого корыта не должна превышать двадцати трех человек. На «Чекисте» притащилось сорок две небритые морды, не считая капитана, плюс одно лицо женского полу — буфетчица Люся, которую все почему-то называли «стюардессой».
Капитан же, напротив, оказался вполне гладко выбрит, в меру трезв — и как-то уж очень по-деловому сердит. На самом кончике его длинного носа зачем-то громоздились очки, смотреть в которые он старательно избегал как при чтении документов, так и общаясь со мной.
— Значицца так, блин! — строгим голосом начал «мастер», едва я поднялся к нему в каюту. Интонацией он сильно смахивал на похмельного профессора Бингера, который преподавал у нас в вузе научный коммунизм, то и дело обзывая студентов «масонскими шпионами» и «пакистанскими лазутчиками». — Оформляем «груз 200»! А это что значит? Правильно, по законам военного времени. Итак, блин! Ваш порт предоставляет нам тело в запечатанном цинковом гробу. Чтобы, значит, полная герметичность — и никаких там, понимаешь…
— Минуточку! — вклинился я. — Здесь это называется «высокотехнологичный саркофаг». Кто платить будет?
— Высоко… чего?! — поперхнулся «мастер». — У вас тут что, обычных цинковых не бывает?
— Ну, что вы, — пожал я плечами. — «У нас тут» только дощатые, тоненькие. Чтобы сжигать удобней было.
— Сжигать?.. — тоскливым эхом отозвался капитан.
— Ага, — ответил я без единой эмоции в голосе. — Всеяпонская кремация. Закон семьдесят лохматого года. А если вам лично металлоконтейнер требуется — это уже спецзаказ. Делают два-три дня и берут как за пять деревянных. Плюс еще трое суток простоя и сварщикам за герметизацию. Так на чей счет оформлять будем?
— Ну… Лично мне уже давно ничего не требуется, — мрачно усмехнулся «мастер» куда-то вбок и задумался на полминуты.
Я терпеливо ждал. Труп на складе и мой шеф в конторе, соответственно, тоже.
— Ч-черт! — вздохнул наконец капитан. — Ладно… Щас, погодите!
Подойдя к двери каюты, он открыл ее, сунул голову в щель и крикнул:
— Колюня!! Арсен у себя?.. К капитану!
— Кто такой? — поинтересовался я, пока невидимый Колюня выполнял распоряжение.
— Владелец, — коротко ответил кэп, стянул-таки с носа очки и помассировал пальцами веки. Я решил не уточнять, чем владеет Арсен. В мои прямые обязанности это не входит, а там посмотрим.
— Михалыч! — просунулась в дверь рыжая испуганная голова. — Арсен щас у Люськи! Сказал, шоб ты типа сам зашел…
«Мастер» скользнул по мне глазами, с неловкой усмешкой матюгнулся, бросил «обождите» и вышел.
Его не было минут двадцать. За это время я исследовал полки с русскими видеофильмами (в основном, про войну, голых баб и очередных братков), пролистал книжку А. Тополя «Кремлевские жены», впервые в жизни как следует разглядел интерфейс русской «Виндоуз» в залапанном мониторе, прикончил чашку дешевого «Нескафе» и выкурил три сигареты. Последним, на что упал мой тоскующий взгляд, была стопка сахалинских газет рядом с урной у выхода. А точнее — реклама на верхней из них:
Шоп-туры в Японию!
МУРОРАН, ХАКОДАТЭ, АКИТА
ООО «Арсентуризм».
Вернулся Михалыч еще задумчивее, чем прежде. Медленно подошел к иллюминатору, посверлил глазами наружный пейзаж и фальшивым голосом произнес:
— Красивый порт… Давно в такие не заходил.
Я молчал.
— Ну что, Дмитрий, — продолжал он. — И, э-э… давно вы здесь служите?
— Собачки служат, — отчего-то вспомнил я классику. — Я работаю. Семь лет уже.
— Вот как? А сами откуда?
— Родился на Сахалине, учился во Владике… Так что будем делать с трупом, Леонид Михалыч?
— Ну да, ну да, — ответил он вроде бы невпопад, открыл шкафчик в углу и достал початую бутылку армянского коньяку. — Стало быть, земляки… Не желаете?
— Унюхают — уволят! — честно ответил я, хотя именно сейчас бы не отказался. — Спасибо, конечно…
— Понимаю, — кивнул Михалыч и медленно выпил. — За те деньги, что, наверное, платят вам, я бы тоже завязал. На работе, по крайней мере. Ну, это ладно. «Каждому свое»… Так, кажется, говорил ваш Конфуций?
— По-моему, это Геббельс говорил, — поправил я. — Да и Конфуций, вообще-то, китаец. А мой японский шеф должен через двадцать минут вашим в Корсаков телеграфировать. Там день рабочий кончается, а мы тут с вами иллюминаторы разглядываем.
— Ну да, ну да…
Михалыч прикончил вторую, оторвался от пейзажа — и всем кителем развернулся ко мне. Честно скажу — на пару секунд я залюбовался. Передо мной стоял почти настоящий Советский Капитан. С единственной разницей, которая от него уже не зависела.
— И сколько вы его уже тут… маринуете? — уточнил Михалыч голосом теледиктора Левитана.
— Да уж восьмой день как в гробу.
— Ага! — после второй Михалыч пришел в форму и явно начал нравиться самому себе. — Значит, проблема?
— Проблема? — не понял я. — Вы же его забирать пришли. Вот и забирайте, в чем проблема?
— Дмитрий, Дмитрий… — картинно покачал головой Михалыч. — Одно дело, зачем мы к вам в Ниигату пришли. И совсем другое — для чего мы вообще в море выходили! Если мы берем на борт труп, то на Хоккайдо уже не заходим, прямиком на Корсаков идем. Соображаете?
Я промолчал. Дверь каюты опять приоткрылась, и рыжая Колюнина голова пробасила:
— Михалыч!! Арсен сказал: «И Люське мотоцикл!»
Голова исчезла, дверь захлопнулась, Михалыч даже не обернулся.
— Вот, слыхали? — вздохнул он, нацепил очки, уселся за стол и начал перебирать документы. — И Люське, блин, мотоцикл… А все почему? А все потому, что в Муроране нас ждал заказ. Классный, скажу вам, заказ! Под него команду и набирали. Постановление у нас новое с февраля. Еще не в курсе? «Каждый член экипажа имеет право провезти без пошлины один автомобиль»… Так что теперь придется брать здесь. Иначе никак!
— То есть… сорок две машины?! — опешил я.
— И мотоцикл, — кивнул Михалыч. — Люди за эти паспорта моряка в очереди стояли и доллары кровные выкладывали. Обманывать уже никого нельзя, сами понимаете. Не те сейчас времена!
— Бесполезно, — покачал я головой. — Я, конечно, не знаю, как там в Муроране, но… Здешняя Иммиграция столько народу на берег не выпустит. Двадцать три «шор-пасса», как положено, и не больше. Чего бы там ваш Арсен наивным людям ни гарантировал. Это во-первых.
— А во-вторых? — прищурился «мастер».
— Во-вторых, вы не знаете местной таможни. Да с таким перегрузом вы из нашего порта просто не выйдете!
— Во-от! — обрадовался Михалыч моей понятливости. — А вы говорите, какие проблемы… Мы же труп-то ваш, вообще говоря, можем и не забирать! Это вы понимаете?
— А приказ пароходства? — посмотрел я на капитана в упор. Тот заморгал, снял очки и перевел взгляд на синее море в иллюминаторе.
— А пароходству, дорогой вы мой, я всегда могу составить рапорт. О том, что японская сторона не обеспечила «грузу 200» должной санитарной безопасности. В результате чего транспортировка вышеозначенного груза оказалась невозможна. Вот так и передайте вашему шефу… Еще кофейку?
Ровно через сутки из Западного Порта Ниигата отчаливало странное судно. Странное по многим параметрам. Его палубы, проходы и трюмы были под завязку забиты полуржавыми джипами, легковушками и микроавтобусами всех мастей и оттенков. Оно кренилось на левый борт, его осадка превышала все допустимые нормы, а к основанию мачты передним колесом вверх был приторочен огромный желтый мотоцикл.
То был самый натуральный корабль-призрак: судна, подобного этому, ни появиться в нашем порту, ни тем более выйти отсюда теоретически не могло. И все же, и все же — несмотря ни на что! — оно отчаливало и медленно уходило за горизонт. Благодаря источнику энергии помощнее любого ядерного реактора. Источник тот находился отнюдь не в машинном отделении, а в простой морозильной камере. В обществе двух разделанных свиных туш и трех контейнеров сухого льда. Звали его, дай бог памяти, Николай. Безвестный сахалинский морячок, умудрившийся после смерти
Два патрульных катерка, каждый на расстоянии километра, отконвоировали «Чекиста» до выхода из бухты — и вернулись к своим делам.
Вот почему, услыхав о решении «кремировать», и весь наш порт, и таможня, и Иммиграция, и, я думаю, бирманское пароходство со страховыми агентами в Лондоне — все как один вздохнули с нечеловеческим облегчением.
Интересно, как они там в Бирме капитанов выбирают — по росту, что ли? Когда к трапу подогнали похоронный автобус и команда вывалила на причал, двухметровый капитан маячил над собственным экипажем комичный, как Гулливер среди лилипутов. По-английски, хотя и с трудом, говорил только он, остальные лопотали что-то ни разу мною в жизни не слыханное. Сказать, что настроение у всех, кроме шефа, было «похоронным» — значит не сказать ничего. Ни бирманцы, ни я не имели ни малейшего представления о том, что с нами будут делать — и как нам себя при этом вести.
Я до сих пор не знаю, как поступают с трупами в Бирме. Вроде бы тоже кремируют. Все-таки в Бирме, как и в Японии, места совсем чуть-чуть. С другой стороны — люди там, в основном, тоже маленькие (капитаны сухогрузов не в счет). Так что, может, и хоронят, кто их разберет. Но если-таки кремируют — видимо, как-то очень по-своему. Ибо Последнее Бирманское Пожелание в радиограмме звучало более чем конкретно:
Все, что я знал: роскошный автобус с двадцатью бирманцами, моим шефом и мной направляется в муниципальный крематорий. С единственной целью: получить под японскую расписку урну с прахом бирманского боцмана — и вручить сей объект капитану его же судна.
Так. Так. Соображаем. Сегодня пятница. Судно уходит в понедельник. Труп уже в крематории — утром в гробу из морга доставили. А мы теперь туда едем. На автобусе, из порта, в обед. Обедать сегодня я так и не смог, кусок сырой рыбы в горло не лез. А завтра наконец-то суббота. Уже и не верится, после всего-то. Но все-таки — за каким хреном мы премся в крематорий такой толпой? На борту одного кока оставили! Какого лешего? Что, втроем с капитаном не унесли бы? Сколько, вообще, весят сухие человеческие кости? Три килограмма? Четыре?
Я смотрел на свои руки и думал. Вот возьмем мои ногти. Я стригу их… ну, где-то раз неделю. И в целом настригаю, допустим, один грамм. Или меньше? Ах, нет, еще на ногах. Там с одних только больших пальцев полграмма набегает. Хорошо, пошли дальше: в году пятьдесят две недели. Значит, полста граммов в год. Стало быть, за всю свою жизнь — дай бог здоровья! — я состригу с себя килограмма три собственных, э-э… костей. А еще ведь выпавшие и удаленные зубы! Двадцать восемь молочных, тридцать два коренных. Так, кажется? Не важно. Кто знает, сколько из них останется со мною, когда я умру?.. Как бы там ни было — в итоге, с зубами, три кило с лишним? Стоп-стоп-стоп… Но это же и есть приблизительный вес моего нынешнего скелета! И куда же он,
А если бирманцы такие маленькие — они что, настригают и по два скелета за жизнь? Или у них ногти растут медленнее? Я посмотрел на несчастных. Те сидели, вдавив головы в плечи, и в их карих глазах не считывалось ничего, кроме тоски и желания скорее вернуться домой. В свои бирманские иркутски, саратовы или кукуевки, где они отдолдонили пять-шесть классов школы, а потом поехали в большой город искать работу, и нынче их мамы-жены-невесты с гордостью рассказывают соседям, что вот, наш-то младшенький в люди выбился, плавает аж в Японию на большом корабле… А их младшенькому в этой самой Японии велят ехать туда, где сжигают другого такого же младшенького. Или старшенького, какая разница. А завтра такая же ерунда может случиться и с ним. И никому-никому ни на каком языке не известно, что со всем этим делать, о бирманский мой Господи, спаси нас всех amp; сохрани, куда нас, вообще, везут?!
И правда — куда? Что, вообще, такое — японская кремация? Особенно — без религиозных обрядов? До этого дня я ни в каких крематориях не бывал. Ни в российских, ни в японских, ни в китайских. И мне даже в голову не приходило, что вот, скажем, у китайцев этот процесс организуется и выглядит совсем не так, как у японцев. А у нас — совсем не так, как у китайцев. О бирманских же крематориях в голове русского человека я вообще промолчу.
Ну, то есть мне доводилось слышать, будто в советских крематориях Смерть романтизировали через мраморные колонны и прочий гранит-малахит. Если так, интересно, откуда у нас такое — от древних греков? От Веры Мухиной старых «добрых» ильфопетровских времен? Или откуда еще?
Через полчаса наш автобус — с мягчайшими креслами, без единого звука в салоне — пересек черту города и вырулил на горную трассу. Вскоре горы разъехались в стороны — и впереди распахнулось ущелье, в центре которого громоздился полусферический билдинг из стекла и матово-красного камня.
Концерт-холл «Будокан», почему-то подумал я. Вид снаружи. С одной только разницей: из заднего, невидимого для нас крыла будокана в небо рвалась высоченная, метров под семьдесят, труба светло-серого кирпича. Дым, валивший из этой трубы, был таким плотным и белоснежным, что казалось, будто именно из него получаются самые правильные на Земле облака.
Мы стояли, задрав головы, и разглядывали этот дым, пока в нагрудном кармане моей спецовки не зазвонил телефон.
— Нет, Митрий! Ты только послушай, какой шандец! — услышал я голос человека, которого знал уже двадцать лет. — Они вторые сутки висят у меня на хвосте!
— Кто? — не сразу сообразил я.
— «Хоан» в пальто! Кто еще, не полиция же!
Та-ак, понял я. Этого еще не хватало. Моим «заклятым дружочком» Иосичем заинтересовалась «хоан-кэйсацу» — японская секретная служба.
— Ну, а ты что?! Прости, дорогой, я не могу долго, мне сейчас бирманские трупы сжигать. У тебя проблемы? Я должен что-нибудь сделать?
— Ой, Митрий! Ты меня не знаешь? Да я уже best! Я всегда best! А это я так просто, пообщаться хотел… Ладно, сжигай свои трупы. Да подходи в «Тампопо» часиков в семь. Расскажу — обхохочешься!
— Ладно, бэтмэн… До вечера.
Вздохнув, я отключил у мобилки питание и побрел за шефом к огромным стеклянным дверям. Испуганные бирманцы гуськом потянулись за мной.
Мой однокашник Иосич был самым безупречным водителем из всех, кого я знал. За двенадцать лет вождения в Стране Восходящей Иены он не нарушил ни единого дорожного правила. Этот гениальный алкаш за рулем был педантичен, как нейрохирург.
В субботу-воскресенье Иосич вставал к обеду и выпивал стакан водки. Исключительно ради того, чтобы руки не тряслись за баранкой. А затем сажал в свой старенький микроавтобус меня, еще каких-нибудь русских, оказавшихся в Ниигате проездом, и увозил всех к морю, как можно дальше от людского жилья. Мы выискивали лагуну позаповеднее, спускались по скалам меж сосен к самой воде, садились на песок и слушали море. Изредка — раз в месяц, не чаще — жарили что-нибудь на костре, а уже в сумерках запаливали фейерверки. Все необходимое, включая угли, продавалось в городском супермаркете. В подобном «удобстве» явно таился какой-то подвох. Поэтому обычно мы просто приезжали, садились и слушали море.
Там, на другом берегу, за восемьсот километров от нас по прямой, бился за подобие жизни город Владивосток. Возвращаться в который ни смысла, ни желания не было: там творилось великое черт-те что, и только Богу было известно, чем и когда это может закончиться.
Я был уже разведен своей первой женой, а Иосич уже окучен второй.
Я работал судовым агентом в порту и вечерами переводил японские романы, а Иосич снабжал подержанными автомобилями русских гостей — от бандитских авторитетов до вузовских профессоров, — и пил горькую.
Я выплачивал аренду уже не нужного мне двухэтажного дома в пригороде и всерьез колебался, не рвануть ли в Австралию, а Иосич жил у меня на первом этаже, собираясь получить вид на жительство в Японии, и выжирал по литровой бутылке водки «Сантори» за один календарный вечер.
Я никогда не любил сидеть за рулем, а Иосич пил так, что без колес своего микроавтобуса уже крайне плохо передвигался.
Я был вынужден каждый день с восьми до шести думать и говорить на японском, а у Иосича в салоне был постоянно включен CD-ченджер со всеми альбомами Гребенщикова.
Вот почему мы с ним часто ездили слушать море. Хотя бы и просто вдвоем. Если долго сидеть у моря, начинает казаться, что вот так, как сегодня, будет всегда.
У входа в крематорий нас дожидалась, согнувшись в поклоне, миловидная японка — девица лет тридцати. Фирменный светло-зеленый костюмчик сидел на ней как влитой. Юбка, жакетик, пилотка. Белоснежная блузка, узенький черный галстук. По-хароновски всепонимающие глаза.
Ни на кого не глядя, девица подняла руку в белой перчатке и жестом пригласила следовать за собой. Растянувшись цепочкой — девица, шеф, я, капитан, морячки — мы двинулись по длиннющему коридору с вереницей дверей из светлого дерева.
— Where are we going? — не выдержал капитан, когда мы прошагали так метров тридцать. По пути нам не встретилось ни единой живой души.
— Куда нас ведут? — перевел я шефу на японский.
— В комнату ожидания, — ответил шеф безучастно.
— To a waiting room, — механически перевел я капитану, не оборачиваясь.
— Waiting? — не понял тот. — For what?!
Я открыл было рот для вопроса шефу, но девица вдруг остановилась, повернулась к очередным дверям и раздвинула створки.
— Прошу вас… — мягко пропела она. — Отдыхайте, пожалуйста. Через пятьдесят три минуты вас пригласят.
— Take a rest, — перевел я «мастеру». — They'll come for us in an hour.
И ступил за шефом внутрь.
В Комнату Без Стены.
То был обычный приемный зал с татами, низкими столиками и подушками для полусотни человек. Классическая эстетика «ваби»: дерево, соломенный пол. Запах свежей травы, чашки из глины и прочий контакт с природой. От техно-цивилизации — разве что электрические термосы с зеленым чаем. Картинка совершенно традиционная, когда б не одна деталь. Первый же взгляд прошивал эту комнату навылет — и упирался в глухую скалу.
Самая дальняя, противоположная от входа стена была стеклянной. Полностью — от пола до потолка. А за стеклом, метрах в пятнадцати, от земли в небеса убегала скала. Замшелая скала с водопадом. Вода сбегала вниз ручейками, собиралась в новые ручейки и успокаивалась в прудике у подножья. Живая вода и мертвый камень, беззвучно сливающиеся воедино.
Впрочем, звук в этой комнате все-таки раздавался. Из невидимых динамиков в потолке. Слабыми волнами безо всякого ритма. Расслабленная рука в прострации пощипывала струну какого-то очень древнего инструмента. Трррам… Тири-рам… Плям-плям.
Капитан за моей спиной вдруг громко икнул.
— Пожалуйста, снимайте обувь и располагайтесь, — пригласила девица. — Сейчас начнется кремация. Если что-нибудь понадобится, нажмите кнопку на столике.
Проследив, чтобы все разулись и расселись у столиков на подушках, девица отвесила глубокий поклон, задвинула створки дверей и исчезла.
Тири-ра-рам…
Капитан снова икнул. Я налил ему зеленого чаю из термоса. Чай оказался слишком горячим, чтобы пить его залпом. Наверное, следовало попросить воды, но жать на кнопку отчего-то не поднималась рука. Взгляд мой зафиксировался на скале с водопадом, и мысли понеслись непонятно куда.
— Ик!
Я представил, как в недрах неведомой печи сжигают человеческое тело. Под страшной температурой — градусов в тыщу, не меньше. Чтобы выпарить всю воду и оставить один только прах. Почему-то вспомнились огурец и арбуз, состоящие из воды на девяносто с лишним процентов.
Плям-пау… Тирирам.
Если все мы вышли из Океана, то куда уходим потом? Допустим, завтра на меня, не дай Бог, упадет кирпич. И меня точно так же принесут в крематорий и выпарят из моего тела всю воду. Что останется от того, кем был я? Именно я, а не кто-то другой? Пожалуй, только файлы в моем компьютере. Вернее, сразу в двух компьютерах — дома и на работе. Не считая электронных писем и фотографий, разосланных по компьютерам друзей-приятелей в разных странах и городах. Но компьютерная память таится в чипах, а это же кремний! То есть — песок. Каменный прах моих мыслей, при жизни рассеянный моими же руками по белу свету.
— Ик… скъюз ми!
Пляу-плям.
С одной стороны — так оно, конечно, экономичнее. Ну, что такое человек? Тот же арбуз, только с чувствами. Хлипкий, хрупкий, недолговечный. Вечно мается какими-то болячками, вечно из него что-то течет. Подумать только: весь накопленный опыт человечества, хранимый в органике, может в любой момент вылететь в трубу от какого-нибудь метеорита или глобального потепления! А в том же камне это хранилось бы — ну, если не вечно, то уж всяко подольше, чем в стихии воды…
Ик! Тири-ра-рам.
Вряд ли, конечно, бедняга боцман пользовался компьютером. Во что же перейдет его душа за пятьдесят три минуты сожжения? Вот если б его схоронили — тогда он постепенно влился бы в круговорот веществ живой природы. А так?
—
— Ик!
Плям-пам… Тирирам.
Без четверти семь автобус добрался до центра и подрулил к остановке «Старый город». Я вышел, прошагал еще метров тридцать — и нырнул направо, в один из самых «гуляльных» квартальчиков Ниигаты. Каждую пятницу ближе к вечеру здесь вскипал и пенился до утра маленький вавилон. Юнцы в пролетарских шароварах и трудовых повязках на голове зазывали в кабачки на свежайшие рыбу и пиво. Патлатые студентики-израильтяне торговали с лотков бижутерией, растаманскими фенечками и поддельными «ролексами». Из-под неоновых иероглифов чуть ли не с каждого поворота улюлюкали электронные ритмы «пачинко».
— Миста-а… — вцепился мне кто-то в локоть. Я обернулся, но никого не увидел. И лишь тогда глянул вниз. Крошечная тайка в прозрачно-лиловом, маня пунцовыми губами, поглаживала мое колено и заглядывала в глаза. В нос ударило сладким парфюмом. — Любой массаж, миста-а!..
— Отвали! — рванул я из ее объятий, протолкался через толпу рыже- и зеленоволосых японских пигалиц на слоновьих платформах, обогнул столик предсказательницы судьбы в капюшоне от средневековой ведьмы — и двери лучшей лапшевни во всей Ниигате, «Тампопо-рамэн», оказались прямо у меня перед носом.
— Ирассяй! — жизнерадостно закричала мне мама-сан.
— Ми-три-ий! — продублировал ее Иосич от самого дальнего столика.
 |
На ходу поклонившись маме, я прошел к нему в угол. Иосич возлежал на диванчике у стены, поудобней пристроив пузо на широком сидении, и задумчиво глядел в потолок. Пузо прикрывала толстая, в твердом переплете книга. На столике перед его круглой физиономией громоздилась запотевшая кружка «Асахи».
Я сел напротив, сунул под стол портфель. Студентка-официантка в холщовом переднике тут же поднесла мне стакан воды и влажную горячую салфетку на деревянной подставочке…
— Я понял, Митрий! — произнес Иосич, даже не взглянув на меня. В коротких поддернутых брючках, мячиком вздымающихся на пузе, он напомнил мне Карлсона, который пропил моторчик. — Я про себя все понял… Я — тайный мормон!
— С дуба рухнул? — Я покосился на книгу. — Чего опять начитался?
— Ты не поверишь! Я тебе еще не рассказывал. Неделю назад иду по улице, никого не трогаю. Ты же знаешь, я мирный. Да и ленивый к тому ж. А потому пешком передвигаюсь очень медленно… И тут — прямо на меня! — надвигаются трое. Ну, ты видел, их тут как грязи. Такие все одинаковые, накачанные как бройлеры, в галстучках и с велосипедами. Окружили, значит, меня — и давай обрабатывать. Верю ли я, все дела. Не верю, грю. А знаю ли я? Не знаю, грю…
— В общем, ты послал их куда подальше? — уточнил я, окидывая голодным взглядом названия блюд на стене.
— Не, ну зачем же? Ты же знаешь, я старый буддист, всех люблю. Так, наругал немножко. На их американском языке. Дилетанты, говорю. Кто, говорю, так работает? Вы хотите, чтоб я заинтересовался трудами Джозефа Смита? А где они, эти труды? Ну, тут они, понятное дело, давай мне свои книжки всучивать. Не, говорю. Так не пойдет. Вы с кем разговариваете? С русским человеком. Вот запишите мой адрес — и пришлите мне эту книжку на моем родном языке. Я почитаю, подготовлюсь к дискуссии, вот тогда и поговорим. Си ю некст тайм!.. Ты бы видел, как они меня сразу зауважали! Раскланялись в момент и свалили куда-то. А вчера, представляешь, по почте приходит… — Иосич торжественно помахал книжкой в воздухе. — «Книга мормонов», русская версия! Аж из самого штата Юта! Вот тебе, Митрий, когда-нибудь присылали книжки из штата Юта?
— Ну, и каким боком ты тоже мормон?
— Да я вот тут почитал… Во-первых, они говорят о начале конца времен. Это мне нравится, потому что я тоже так думаю. После меня в этой жизни больше не будет ничего интересного.
— А во-вторых?
— А во-вторых, они проповедуют многоженство. Это мне тоже нравится.
— Э-э, дорогой. Для многих жен сразу тебе придется постоянно быть в форме. Каждый день и каждую ночь! Видал, как эти мормоны качаются?
Иосич грустно вздохнул и похлопал себя по животу.
— Да!.. С этим у меня прокол. Ленив я больно! А тут еще, гады, всю ауру отсосали.
— Чего-чего?
— Да я пока сюда шел — такое было! Иду себе по Фурумати, никого не трогаю. Ты же меня знаешь. И тут навстречу эти… сектанты какие-то. То ли «Аум», то ли хрен их разберешь… Ой, грят, какая у вас аура отрицательная. Давайте мы ее у вас «отсосем»! А мне действительно, Митрий, хреново так, со вчерашнего-то, весь этот ром с водкой, ну ты понимаешь… Ладно, грю, отсасывайте, только поскорей. И что бы ты думал? Они надо мной что-то такое сделали. Руками махали, глядели так странно, бормотали чего-то… И теперь у меня, по-моему, вообще никакой ауры не осталось! Ни отрицательной, ни положительной. Еле от них уполз! Вот, вишь, даже сидеть нормально не могу…
— Ну, что я тебе скажу, дорогой. Главное — какие ты из этого сделаешь выводы. Когда во Владик кровь чистить поедешь? Ты же собирался!
— Да надо бы. Вот денежку заработаю — съезжу. Давно мамуля зовет… А насчет выводов — я пока понял одно, — тут Иосич привстал от волнения и перешел на таинственный полушепот. — Нельзя в нашем нынешнем мире пешком по улицам передвигаться! Только на автомобиле! Вот сегодня, например. Еду я по улице, никого не трогаю… Да, кстати! Давай закажем какой-нибудь еды. Ты ж голодный, небось?
И мы заказали себе самый вкусный рамэн в этом городе. Блюдо под загадочным названием «орочон»: китайская лапша с кусочками свинины в остром бульоне из корейской капусты «кимчи». И хотя мама-сан, пухленькая трудолюбивая бабулька, в свое время уверяла нас, что «орочон» — это слово из языка хокайдосских айнов («Ой, да у них там все названия ненормальные, вы же знаете!»), — нас с Иосичем на такой мякине было не провести. Уж мы-то прекрасно знали, что шаманское племя орочонов обитало в Приамурье, под нынешним Владивостоком, еще при китайской династии Цинь.
— Вот так, мама-сан! — говорили мы ей, поднимая пивные кружки за успех заведения. — Считайте сами, сколько у вас разных культур в одной тарелке помещается! Китайская лапша — раз! С корейской кимчи — два! Названная хоккайдосскими айнами — три! В честь амурских шаманов — четыре! При этом готовит ее японец, а съедает русский человек… Да вашему ресторанчику медаль пора давать — за укрепление связей между народами!
Мама-сан очень внимательно слушала наши лекции, кивала головой и проникалась еще большей ответственностью за дело своей жизни. Еë неказистый на вид ресторанчик был действительно известен всему городу. Ибо рамэн для японца — не просто еда. А еще и великий общенациональный антипохмел. В каком бы роскошном баре или крутом кабаке вы ни надрались сегодня вечером — если вы уважаете свои голову и желудок, то перед тем, как погрузиться в такси и отчалить домой, вы пойдете и съедите миску лапши. Ибо ночью эта лапша у вас в животе всосет в себя всю сивуху — и завтра с утра вы сможете снова бодро включиться в трудовую японскую жизнь.
Вот почему ближе к вечеру здесь, в «Тампопо», можно было встретить и простого торговца из рыбной лавки в майке и шароварах, и президента торговой фирмы с супругой в вечернем платье, и красавчиков-геев из соседнего стриптиз-холла, и волосатого студентика, и залетного иностранца. Китайская лапша объединяла нации и стирала любые социальные различия.
 |
И вот аппетитно дымящийся рамэн поставили у нас перед носом. Мы хищно повели ноздрями, выхватили из футляра на столике по паре недорасщепленных палочек «варибаси», дружно разломили их, потерли одну о другую, счищая заусенцы, и занесли над тарелками.
Но поужинать спокойно нам сегодня не удалось.
Точно так же, цепочкой, мы вновь зашагали за девицей по коридору. Куда-то сворачивали — один раз, потом еще, — пока не уперлись в стену с огромными стальными дверями. Девица нажала кнопку в стене, двери медленно расползлись в стороны, и перед нами распахнулся очередной коридор — совсем не такой, как раньше.
 |
Нас поглотил мир металла и камня. Мраморные стены, такой же пол, неоновые лампы на потолке. Вереницы стальных дверей по обе руки. Звуки наших шагов, отскакивая от мрамора как мячики в пинг-понге, долго метались в воздухе в поисках выхода. Казалось, сама реальность вокруг мелко-мелко вибрирует, готовая исчезнуть в любой момент.
Уверенно цокая каблучками, девица подвела нас к одной из дверей. «No.15», — блеснули иероглифы на металле. Снова кнопка в стене. Неужели последняя?
Мы очутились в комнате-пенале. Узкой и длинной — метров десять на пять. От центра пенала к дальней стене убегал ленточный конвейер — вроде тех, что устанавливают в аэропортах. Дорожка из металлических пластин упиралась в плотно задраенный люк — нечто вроде дверцы огромного сейфа. Голые стены, конвейер и люк. Больше в комнате ничего не было.
— Ожидайте, пожалуйста, — объявила девица. Все с готовностью повиновались. Двадцать бирманцев сбились в кучку у входа и замерли, напоминая толпу восковых фигур. Мы с шефом подтянулись поближе к конвейеру.
Девица приблизилась к «сейфу», нажала кнопку слева от дверцы, отступила на пару шагов и замерла в полупоклоне.
Послышался резкий натужный звук, словно чугунный циклоп откашливал застрявшую в горле кость. Во чреве следующего из миров что-то лязгнуло, неохотно провернулось, металлически чмокнуло — и дверца люка медленно отворилась.
В первые секунды я не увидел там ничего. Все равно что заглянул в жерло пушки несусветного калибра. И лишь когда глаза привыкли к темноте, различил в глубине сполохи угасающего пламени. Из которых что-то неторопливо надвигалось прямо на нас. Изнутри — обратно наружу.
Лента конвейера дернулась, принимая груз, и на середину комнаты с лязгом выкатился огромный металлический противень. Самый обычный, для выпечки того же хлеба, — с одной лишь разницей. Вместо булок с батонами на нем покоился, вытянувшись в полный рост, белоснежный человеческий скелет.
Настолько чистый, идеальный скелет я прежде видел только в кино. В голливудских фильмах с компьютерной анимацией. И до этой минуты мне всю жизнь казалось, что человеческие кости должны непременно выглядеть мрачно, грязно и в каком-то смысле непристойно. Все оказалось совсем не так.
Железный лист, докатившись до упора, остановился. От удара о невидимый ступор противень дернуло — и мизинец левой ноги, отломившись, с еле слышным лязгом упал на остывающий металл.
Все, кто был в комнате, застыли в оцепенении. Кроме девицы. Интересно, мелькнуло в голове, а ведет ли эта женщина какой-то учет покойников, которых она проводила на тот свет? И если ведет — разделяет ли она их в мозгу на мужчин и женщин? А если да, то который это по счету? С месяц назад я, помню, пытался подсчитать количество женщин, с которыми я спал. Но что такое сексуальные партнеры по сравнению с теми, чей прах ты кремировал?
Между тем девица извлекла из шкафчика под конвейером круглую шкатулку сантиметров тридцать в диаметре. Из шероховатого светло-зеленого камня. И водрузила ее в изголовье скелета («Да что у них тут, бзик на светло-зеленом? — пронеслось в голове. — Тоже мне, похоронный цвет… Хотя — почему бы и нет?»). Открыла крышку, положила рядом со шкатулкой — очень гладкой и белой внутри. Из того же шкафчика достала футляр прозрачного черного пластика, набитый палочками для еды. Обычными палочками «варибаси», которыми едят рис, лапшу и прочие суси-сасими. Один раз. А потом выкидывают в мусор.
К чести девицы, на этом месте она «включилась». В легком замешательстве глянула на бирманцев, потом на шефа — единственного японца в помещении — и, наклонившись, прошептала что-то ему на ухо. Шеф немного подумал и кивнул, указывая на меня.
— Господа! — обратилась девица ко мне, глядя при этом в пол. — Сейчас вы все вместе должны собрать вот этими палочками вот этот скелет в эту каменную баночку. Начиная с ног и кончая головой. Порядок именно такой, это важно. Иначе душе будет неутно в своем последнем пристанище, и ей захочется его покинуть. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь…
Продолжая свою речь, девушка принялась обеспечивать команду палочками. Зависая над каждым в книксене, как стюардесса «Всеяпонских авиалиний». Отступать было некуда. Бирманские матросы брали то, что им всучивали, покорные, как овечки. Пользуются ли в Бирме палочками, вилкой, или же просто едят руками — уточнять было некогда и не к месту.
— From the feet, — переводил я как заведенный, подняв глаза к потолку. — And up to the head… Or the soul would feel uncomfortable upside down, and try to run away.
Выданные мне палочки я привычно потер одну о другую, очищая от заусенцев.
Дверь лапшевни отворилась пинком, да так и осталась открытой.
— Коноярррро!! — разнеслось на весь ресторанчик. — Жррать неси, быстрра!
Мирный японский лапшеед инстинктивно вжал голову в плечи. Все, кто был в заведении — человек десять — вмиг обернулись к выходу.
Дверной просвет застила огромная туша в черном.
Живого весу в ней было килограмм сто двадцать, не считая золотой цепи на шее, болванки «ролекса» на татуированном запястье и огромных, в полморды, темных очков. Длинные волосы, уложенные лаком куда-то за спину, черный костюм — big size из дорогого универмага, черная же водолазка и блестящие туфли без единого пятнышка.
C грохотом подвинув ногой табуретку, Туша взгромоздилась за ближайший столик, скрестила руки на пузе и начала демонстративно разглядывать потолок. Впрочем, на что именно она пялилась — за очками было не разобрать.
В воздухе повисла пронзительная тишина. Не гремел кастрюлями повар на кухне, не звякали о тарелки деревянные палочки, не хлюпали горячей лапшой голодные посетители. Мама-сан задвинула перепуганную девчонку-официантку поглубже на кухню и вышла к «клиенту» сама.
— Ты глянь, Митрий, — негромко и очень медленно произнес Иосич. — Как живой, с-сука, честное слово…
Хозяйка скромного китайского ресторанчика с каменным лицом стояла перед якудзой низшего эшелона, медленно вытирая руки о передник. По возрасту ублюдок годился ей в сыновья, если не во внуки. Я вдруг подумал, что черные очки нужны ему для того, чтобы не смотреть своим жертвам в глаза. Тяжелая работа, что и говорить…
— Что будем заказывать? — спросила мама-сан бесцветно-вежливым голосом.
Морда перекосилась.
— Э-э? Ты чë, мать, дура?! Или глухая?! Я тебе сказал «жрать неси» или нет?!
— Саттян! — не меняясь в лице, мама-сан обернулась в сторону кухни. — Обычный «мисо» со свининой, гëдза и пиво! Да поживей, ага?
— Ха-ай… — донесся из кухни перепуганный девичий голосок.
Я посмотрел на Иосича.
— Слушай… А может, сдать его? Вон, эсмээску пошлем Сергачеву, а он ментов вызовет. А?
Не сводя глаз с якудзы, словно наблюдая по телевизору футбольный матч, Иосич покачал головой:
— Не, Митрий. Полиция тут не поможет, только хуже будет. Это же что? Это же «черная метка». Помнишь «Остров сокровищ»? То же самое. Погоди, сиди смирно. Давай поглядим, это должно быть красиво как жанр! Потом книжку напишешь…
— Блин, а если он маму трогать начнет?
— Не начнет, Митрий, не волнуйся. У меня на стоянку такие не раз заявлялись. Это ж не трагедия. Это цирк! Людей не трогают, иначе полиция по-большому наедет. Только мессидж передают. Почтальоны печкины, мать их в душу…
Вняв совету, я попробовал настроиться на спортивный лад. И правда, поведение этого придурка больше смахивало на сцену из дурного спектакля, чем на реальную жизнь.
Ведь что, собственно, происходит? Маленький ресторанчик понравился людям. В него стали больше ходить. И мафия, которая держит контроль над этой улочкой — в самом гуляльном квартале города! — решила повысить ставки. Кто придумал эту игру и когда? Уж по-любому, не полиция, не государство, и даже не нынешние мафиози этого города. Этой игре сотни лет. Хочешь в нее играть — соблюдай правила. Нет — наймись клерком на почту или в госструктуру. Значит, мама-сан знала, на что шла? Судя по глазам — похоже, что знала.
Малáя (как я ее окрестил) принесла и расставила перед ублюдком «заказ»: миску лапши, тарелку пельменей, бутылку пива, чистый стакан. Все было разыграно как по нотам. Все знали, чего ожидать.
Молодая пара из-за столика слева от нас не выдержала, бросила на стол десятитысячную банкноту и, пробубнив «спасибо за угощение», вылетела вон из лапшевни. У остальных… не хватило пороху? Вот тут я не знаю. Не знаю, зачем — но остальные сидели, как завороженные, и наблюдали, что будет дальше.
«The Show must go o-о-on…» — пробасил Роджер Уотерс в моей голове.
— Дерьмо!! — заорал тренированным голосом Ублюдок в Черном, едва притронувшись губами к ложке супа. От удара тарелка отъехала к самому краю стола и чудом не сверзилась на цементный пол. Брызги горячего супа ошпарили хозяйкины руки, но она застыла, точно каменный Будда, и даже не шевельнулась.
— Ты что людям скармливаешь, тварь?!
— Извините… Простите… — повторяла на полном автомате маман, уставясь в неведомую точку над дверью.
— Это что — пиво?! А?! Это же моча, тварь! Коровья моча!! — надсадно вопила туша на весь зал, призывая всех присутствующих немедленно с ней согласиться.
— Простите…
Хрясь! Тарелка с пельменями полетела-таки на пол и разбилась.
— Чем народ кормишь, дрянь?! Тебя, с-сука, за что здесь терпят?!
— Извините…
На этом представление закончилось. Ублюдок встал, с треском опрокинув табурет. Вынул из кармана мобильник, набрал номер. Сказал одно слово:
— Сделано.
И растворился в дверном проеме.
Внутри каждого из нас — более двухсот различных костей. Когда мы рождаемся, их еще больше — около трех сотен. Но постепенно почти сотня куда-то девается. Какие-то срастаются с другими, какие-то исчезают за невостребованностью. Одним словом, с возрастом мы становимся по крайней мере на треть скуднее, монолитней и однообразнее, чем родились.
Чуть ли не половина наших костей расположена в ладонях и стопах. Все-таки именно этими частями тела мы шевелим куда чаще и изобретательнее остальных.
А еще наш скелет процентов на тридцать пять состоит из органики. И после сожжения теряет треть своего веса. Тогда он делается хрупким, как пенопласт, и абсолютно сухим.
По японским расчетам, для того, чтобы двадцать три взрослых человека собрали скелет двадцать четвертого в одну ëмкость при помощи палочек для еды, достаточно минут десяти. При одном условии: эти люди должны уметь пользоваться палочками почти так же естественно, как акула зубами или буйвол копытами.
Вот почему, когда бирманский капитан пересказал мой английский своим морячкам, я взглянул на этих людей — и понял, что на сей раз японская статистика, увы, «отдыхает».
В комнате повисла нелепая пауза. Девица тут же засомневалась, правильно ли я ее перевел. Я же невольно задумался о лингвистических способностях капитана.
— Э-э… Миста-а? — обратилась девица напрямик к капитану и указательным пальцем левой руки указала на палочки в своей же правой. — Смотрите внимательно и повторяйте за мной!
— Look at her. Do the same, — перевел я как можно тупей и отчетливее. Капитан кивнул, буркнул что-то команде. Морячки уставились на женские пальчики и, точно крабы клешнями, задвигали деревяшками в заскорузлых руках.
Девица наклонилась над противнем, ловко подцепила большой белый палец левой ноги и с легким хрустом, почти без усилий отделила его от скелета. Повисший в воздухе меж палочек для еды, он смахивал на плохо вылепленный пельмень, который только что вынули из холодильника. Девица занесла его над урной, разжала палочки — и тот звонко клацнул о каменное дно.
— Вот и все! — подытожила девица. — Пожалуйста, попробуйте сами.
Двигаясь как сомнамбула, капитан подошел к скелету и вцепился палочками в очередной большой палец — теперь уже правой ноги. Тот не поддавался. Он потянул сильнее. Одна палочка выскользнула из капитанской руки и со звоном покатилась по полу. Вся команда вздрогнула и сбилась в кучку еще плотнее.
— Секундочку! — Тонкой кистью в белой перчатке девица ухватилась покрепче за всю правую стопу скелета и резко рванула вниз. Стопа хрястнула и рассыпалась на кучку пальцев и прочих мелких костей. — Так вам будет удобнее.
Точно так же она разделалась с левой стопой. Затем — с обоими запястьями. И решительным жестом пригласила всех «родных и близких» к выполнению последнего долга.
— Прошу вас!
Следующие полчаса протекли как в бреду. Девица дробила большие кости миниатюрным резиновым молоточком. Бирманцы — и немного мы с шефом — собирали осколки и укладывали в урну с грехом пополам. В среднем каждая третья косточка «вырывалась» и падала на пол, окончательно разлетаясь в труху. Время от времени девица откладывала молоточек и подметала пол, собирая всë, что упало. Соломенным веничком — на серебристый совочек. И с невозмутимым видом ссыпáла куда полагается.
Особенно мелко крошились ребра. С каждым новым ударом в воздух подымалось облачко белесой пыли. Самые низенькие из бирманцев начали нервно покашливать. У меня тоже запершило в горле, но я сдержался.
Наконец на противне остался лишь череп. Элегантно, почти не замахиваясь молоточком, девица пару раз тюкнула по черепу в область виска — и тот развалился аккурат на четыре части: нижнюю челюсь, пару глазниц с «носом», лобную кость и затылок.
Всë это, как предметы особо тяжелые, девица, уже не надеясь на нас, уложила в урну сама. Сверху, точно шапочкой Папы Римского, накрыла затылочной костью. И нахлобучила на урну увесистую каменную крышку.
Да не тут-то было. То ли костей оказалось не по-японски много, то ли укладывали мы их абы как, то ли еще почему.
Проклятая крышка не закрывалась.
— Черт-те что! — сплюнул Иосич в сердцах по дороге к микроавтобусу. — Любимую лапшу спокойно поесть не дают!
— Не говори… Особенно маму жалко. Я слыхал, у нее недавно мужа разбил паралич. Вот теперь с двумя поварятами на себе все и тащит.
— Что, правда? — поднял брови Иосич, садясь за руль.
— Да вроде. Старуха-гадалка с их же улочки нашептала.
— Во засада! А где же мы «орочон» будем жрать, если они в трубу вылетят?
— Хороший вопрос… А может, ещë обойдется как-нибудь?
Иосич задумался секунд на пять. Потом взялся-таки за руль и скользнул взглядом по часам на руке:
— Ладно, Митрий. Полдевятого… Заедем еще кой-куда?
— Не, дорогой! С меня на сегодня хватит. Трупы, крематории, якудза… Считай, день за три прошел. Давай домой, а?
— Да мы быстро! Ты выпьешь чего-нибудь, а я с человеком поразговариваю.
— Это не там, где пиво по три тыщи за кружку? — с подозрением уточнил я. Прецеденты имели место.
— Не дрейфь, Митрий. Я сегодня спонсирую!
Иосич достал мобильник и набрал чей-то номер.
— Алло! Морита-сан?.. Да, это я… Нет-нет, все в порядке. Просто хотел вам кое-что показать… По-моему, вам это интереснее, чем мне. Да, довольно срочно… Ну, минут через тридцать могу подъехать… Хорошо, Морита-сан. До встречи.
Он газанул назад, обернулся всем телом и, крутя баранку, плавно выписал микроавтобус с парковки. За окнами заплясали неоновые иероглифы: в Старом городе разгорался очередной уикенд.
— Так что? Рассказать, как я сегодня от «сикрет сервиса» убегал?
Известие о том, что за Иосичем в очередной раз шпионят японские гэбэшники, меня вовсе не удивило. Чего ожидать от человека, который годами кормился с перепродажи подержанных железяк богатеньким русским? И, заметим, неплохо кормился! Нашим-то буратинам все равно, что он уже синяк-синяком. Какая кому разница, какого он цвета, если у этого синяка — еврейско-хохлацкий изобретательный ум плюс отменный японский язык. Если он давно вжился в местную среду, прекрасно владеет хитростями торговли списанной техникой, а также знает, как скинуть цену у дилера, как обойти налоги, как договориться с таможней, портом, капитанами…
В общем, клиентов у Иосича в свое время хватало. Самых разных — русских, японцев, канадцев-американцев, иранцев-пакистанцев и даже австралийцев с новозеландцами. Что говорить — не все из них были кристально чисты перед местной фемидой. А потому неусыпный «хоан» то и дело пытался выследить, куда Иосич ездит и с кем общается. И хотя виза у него была безупречная (уж японские-то дилеры постарались: официальный сотрудник фирмы, комар носа не подточит) — раз в пару месяцев в жизни Иосича появлялся Новый Японский Друг. Доброжелательный, обаятельный и очень-очень одинокий. Закамуфлированный под кого угодно. Под нового участкового, который ходит по домам и знакомится с жителями вверенной ему улицы. Под газового инспектора, звонящего в дверь с контрольной проверкой. Под случайного собутыльника в якитории по соседству. Но непременно влюбленный во все славянское («вот, даже парусски немножика учир, харащë?») — и жаждущий во чтобы то ни стало поговорить с Иосичем по душам.
И вот тут, как мы понимаем, без русской водки не разобраться просто никак. Но это мы понимаем. С нашими сорока градусами. И, может, наполовину затем и пьем. Уж очень разобраться охота — ну почему? Почему, брат, так странно всë в жизни получается, а?
Но японцу-то этого не объяснить! У них же сакэ всего пятнадцать градусов, и по способу изготовления ближе к пиву будет. Они ж его ва-аб-ще ничем не закусывают, сырая рыба не в счет! И вот ты уже сам ему рад все «секреты Зорге» разболтать — хиппонский городовой, да съешьте вы наконец хотя бы вон тот кусок масла целиком, а потом уж выведывайте у меня все что сможете, только сперва закусите горяченьким или жирным, я вас умоляю, на вас уже сейчас смотреть больно, а что с вами будет через двадцать минут?!
Увы! Не внемлет опыту Зорге его островной коллега, не хочет учиться искусству континентального пития. И очень скоро наклюкивается до синих чертей.
И ведь главное тут даже не в национальной привычке. А в том, что на свете существует особая ветвь монголоидов. В судьбоносных беседах эти люди именуют себя «потомками Чингисхана». Поскольку именно этой ветви принадлежали кочевники, набегавшие на Древнюю Русь. А в быту они зовут себя, пардон, «синежопыми». Ибо у младенцев после рождения где-нибудь вокруг копчика отчетливо проступает голубое пятно — сгусток крови величиной с большую монету. А то и с ладонь. Такая вот, понимаешь, сочная азиатская кровь.
Дело, конечно, не в пятнышке. Пятнышко-то через пару недель исчезает. Но ещë одно свойство остается с ними до самой смерти. Об этой странной штуке мне очень замысловато рассказывала русская барышня-биохимик, работавшая на японском синхрофазотроне. Все, что я запомнил, звучало так:
Это касается японцев, частично монголов, ряда малых народов бывшего СССР — и, как ни забавно, североамериканских индейцев. Помните у Майн Рида про белых завоевателей и «огненную воду»? О том же самом и речь. Ну, не такие у них ферменты — и хоть ты тресни! Вроде и принял три капли, по нашим-то меркам, а уже норовит мордой в сасими спикировать, шпион хренов…
— Да вы расслабьтесь, Ямада-сан, — всякий раз успокаивал Иосич вконец зашифровавшегося ниндзя. — Если б вы знали, как я вас понимаю! А вы думаете, нашим сегодня легко? Мой папа всю жизнь проработал во Владивостоке главным инженером на оборонном заводе. У него много приятелей из КГБ. Все на пенсии уже, понятное дело. Но до сих пор приходят к папе на кухню. Водку пить. Вот, прямо как мы с вами. Чего только не рассказывают — ужас! А что поделать? Время сами знаете какое. Что у вас, что у нас сегодня — ни-ко-му доверять нельзя! Даже самому себе… Вот вы, Ямада-сан, верите себе?
— М-м… З-зато я тебе верю. Хороший ты ч-человек. Хотя и русский.
— Я не только русский, Ямада-сан. Я разный… Да вы стопочку-то подвигайте… Вот у вас в Японии девяносто пять процентов народу — чистые японцы, так?
— Дев-вяносто с-семь!..
— Ну ладно, не важно. А там, где я родился, люди на ста пятидесяти шести разных языках разговаривали, хотя паспорта у всех одинаковые были.
— Врешь!
— Да мамой клянусь!
— А, да… Я, кажется, тоже читал… К-конечно! Вон у вас Россия какая… а-агромная.
— Да уж.
— А Япония во какая… м-маленькая.
— И что?
— А населения столько же!!
— Ну. И чего теперь делать-то?
— Да так… ничего. Ик!.. П-пойду я, наверно. Поздно уже.
— Понимаю… Завтра еще отчет писать, небось, да? Для газовой фирмы.
— Для г-газовой? А, да… п-писать, ну.
— Тогда пошли рамэна съедим, тут недалеко. А то завтра голова болеть будет. Пойдем-пойдем, я спонсирую!
После нескольких лет таких посиделок местная охранка Иосича, как он сам выражался, «весьма долюбливала» — и ничего ужасного в своих отчетах, как правило, не писала. Имен-фамилий он лишних не упоминал, про бизнес почти ничего не рассказывал — так, отшучивался да подливал собеседнику. Если «выбалтывал», так лишь то, что они и сами прекрасно знали. Да, работает переводчиком в мелкой автомастерской. Ну да, той самой, что с продажи старых «тойот» уже третий зал игровых автоматов в пригороде отгрохала. Лишь бы налоги со сверхприбылей не платить. А что делать? Сами знаете, какие у вас тут налоги. Почти как в России! Вот и приходится прибыль вкладывать во что попало. A вот кабы это еще и на зарплате сотрудников отражалось, о-о-о! Тогда бы мы с вами, Ямада-сан, сейчас ужинали совсем, совсем в другом ресторане… Эх! Ну что, еще по одной?
В общем, терпели его местные «хоановцы», частенько вели с ним похожие «собеседования» — и, как я понимаю, на многое закрывали глаза. Но, видимо, у всего есть предел. Чтобы трое суток подряд за его машиной хвост устраивать по всему городу — такое случилось впервые.
— Ты, главное, сам-то понял, за что копают? — сразу же уточнил я.
— Догадываюсь… Ты же знаешь про Маму Аню?
— Слыхал. Так ее вроде поймали уже?
— Сцапали, ага. Аж на острове Садо.
— Так, а ты здесь при чем?
— Да ни при чем. Пару месяцев назад машину ей продал.
— Чë, сдурел? Ты же с такими не связываешься!
— Ну, э-э… Кто ж знал? Она тогда здесь только появилась. А у ней на лбу не написано, чем она на вибраторы себе зарабатывает.
— А кстати… симпатичная хоть?
— Да ну ее в баню! Стервозная, сука, и страшная, как моя смерть.
О Маме Ане в Ниигате говорили много. Но именно такого рода слухи расползаются куда бойчее фактов, и что там произошло на самом деле, точно не знал никто. Полиция умалчивала одно, журналисты домысливали другое, народ пришептывал третье.
Однажды «мама» хабаровских проституток отправилась в Японию, чтобы пустить там корни.
Случилось это в предкризисном 97-м. Когда в кабаках и дискотеках Хабаровска скопилось критическое число смазливых девиц, жаждущих рвануть на заработки за границу. Как можно скорее — и буквально любой ценой. Но никто не решал их проблем, не помогал претворять в суровую жизнь мечты уходящего детства. Ни компьютеров, ни интернета на вооружении хабаровских сутенеров еще не значилось.
И только Мама Аня, ветеранша интуристовского андерграунда, еще с советских времен — вручную! — вела и расширяла свой уникальнейший каталог. Имена девиц, их адреса, телефоны, возраст и цвет волос, габариты, характер, привычки, а также отзывы, имена и доходы особо солидных клиентов наполняли, как кровью, эту живую, регулярно пополнявшуюся базу данных. Идеальную Матрицу — Сеть Интимных Услуг быстрого развертывания на любой подходящей для этого территории.
К лету 97-го Мама Аня окончательно разобралась с территориями. И поняла, что ее время пришло.
Почему она выбрала именно Ниигату — догадаться несложно.
Во-первых, одними лишь самолетами из Хабаровска и Владивостока сюда можно забрасывать до ста единиц секс-десанта в неделю.
Во-вторых, сверхскоростные поезда из Ниигаты за какой-нибудь час-другой перекинут вас в любой мегаполис Японии. Клиентура растет как на дрожжах! И сваливаешь моментально, если за жабры взяли…
В-третьих, приморская автомафия, прочней других осевшая именно в Ниигате, всегда рада помочь нашим дамам за границей. И словом, и делом. Правда, мальчики?
В общем, как выразился Иосич, «закрепись эта сучка здесь, в Ниигате — весь остров Хонсю встал бы навытяжку, как похотливый ягненок перед стаей голодных волчиц».
Понятно, для возведения таких фортификаций «упадать» на японскую землю следовало основательно и надолго. И чтобы с борделями региона связь наладить. И чтоб за визу голова не болела. И чтоб никакие полиции-иммиграции даже близко унюхать ничего не смогли, хотя бы первое время.
Иными словами, Маме Ане дозарезу потребовался вид на жительство в Стране Восходящего Солнца. А для простой русской бабы единственный способ его заполучить — это выскочить за какого-нибудь завалящего японского мужичонку.
За мужичонкой дело не стало еще в Хабаровске. Такой же подержанный, как и его тарантайки, старикашка с автомобильной фамилией Хонда сам приперся в Россию на поиски новых клиентов, поскольку всех старых расхватали конкуренты помоложе и побойчей. Свое семейное счастье Хонда-сан прощелкал давно, сразу вслед за хлипкими капиталами. «Простая русская баба» учуяла это мгновенно — и на первом же свидании, не задумываясь, предложила торгашу-неудачнику руку, сердце и приданое в один миллион японских иен. Или, по-нашему, десять штук баксов.
Дальше все развивалось как по нотам великого Моцарта. Которого, кстати, в Японии очень любят. Лично я, пока там жил, собрал аж пять дисков «Реквиема» в исполнении разных наций. Всë искал вариант по душе, и никак не находил. Ленинградцы, помню, несмотря на латынь, по инерции всë тянули свою нетленную оперу «Хованщина». Берлинцы как-то уж очень жестко претендовали на единственно верное пропевание Истины. Японцы старались слишком усердно, чтобы меж нот уместился хоть чей-либо дух. И только Лондонская филармония выдержала, на мой взгляд, очень верную интонацию. Сдержанно-скорбную и аккуратную, точно скальпель хирурга, нацеленный из бездны отчаяния прямиком в Небеса.
В такой вот «джентльменской» манере и попробовали общаться молодожены. Полусотни английских слов им для этого вполне хватало. Никакого надрыва, ничего лишнего. Неукоснительное соблюдение жанра. И в самом деле, чем не семья? Жена поставляет японцам красивых русских баб. А муж продает русским подержанные японские колымаги. О брачном ложе или барбекью на острове Садо никто и не вякает. У каждого свой бизнес, никаких претензий. Казалось бы, живи — не хочу…
Но уже через пару дней после свадьбы «кормилец» спросил жену о приданом. «Да погоди ты! Сейчас на девочках сделаю — отдам!» — обещала ему благоверная. Поскольку «прям-таки щас» оговоренной суммой не располагала, а «вписаться в здешнюю тусу как следует» требовало еще пару недель. Муж покорно подождал еще две недели. Потом еще две. А затем влез в очередные долги — и вопрос снова встал колом под ребро.
— Where is the money, Anna?! — грозно, как только мог, закричал щупленький Хонда-сан. И простыми английскими словами поклялся Маме Ане, что в случае обмана пойдет куда следует и расскажет, чем его супруга-иностранка занимается
Поздним июньским вечером от пассажирского причала Ниигаты отошел огромный белый паром «Сиракаба». Он держал курс на Садо — остров диких пляжей, мекку отдыхающих-по-субботам и знаменитую столицу японского барабан-шоу.
«Время в пути — два с половиной часа, на протяжении которых вы можете полюбоваться морскими закатами и незабываемыми пейзажами берегов Японского моря», — вещал супервежливый женский голос из динамиков бортового радио.
Вечерело. Солнце, бесформенное от жары, все больше размазывалось по линии горизонта. В наступающих сумерках на палубе с теневой стороны было уже почти ничего не видно.
Почти.
Есть большая разница в том, как чувствуют опасность русские и японцы. Не знаю, какими стали бы мы, если бы нас так же часто трясло или накрывало тайфунами и цунами. Может, хоть нынешние теракты выпестуют в нас несуществующий пока орган тела, которым японец чувствует: что-то не так?
Может быть…
Ровно на полпути к Садо на стол капитана парома лег лаконичный рапорт:
Их задержали в полночь на причале Садо.
На острове Садо никто не говорил по-русски. А потому уже наутро их отправили обратно в Ниигату. И начался язык японского допроса. Уж не знаю, кто у них там был переводчиком.
На первом часу, в духе мирной беседы, Мама Аня заявила, что в мешках она выкинула рыбу, которая скопилась у нее дома в больших количествах и страшно воняла.
На втором часу, уже сквозь сопли и слëзы, Мама Аня сообщила, что супруг ее не кормил, регулярно избивал и насильно склонял к сожительству. Где он находится сейчас, она не знает. Последний раз видела мужа неделю назад.
А на следующее утро новостные ленты японского телевидения заалели пятнами крови на татами в гостиной дома, где прожил все свои 63 года маленький неудачливый автодилер по имени Хонда.
Расчет Мамы Ани был, в принципе, верен. За несколько дней, проведенных с мужем в его домике на краю Ниигаты, она просчитала практически все. Гости к нему не ходили, писем никто не писал. Близких знакомых он не заводил, а к дальним наведывался слишком нерегулярно, чтобы в ближайший месяц его отсутствием кто-либо заинтересовался. Еще на месяц-другой сгодилась бы версия «уехал в загранкомандировку». А через три месяца, построив и отладив свою секс-машину, Великая Сутенерша растворилась бы в постперестроечных дебрях России, где ее не нашел бы никакой Интерпол.
В этот расчет не входил лишь один фактор — понимание японского человека. Откуда Маме Ане было знать, что жителей города Вакамацу воспитывают немного не так, как уроженцев Хабаровска? Что местным жителям со школьной скамьи вбивают в голову простые цифры: японский народ населяет лишь 30 % территории своих островов, остальное — горы да скалы? Что природа — живая, и ее надо беречь, иначе скоро вообще ничего не останется? Что под каждым камешком и лепестком, как и в каждой морской волне, скрываются языческие боги — ками, и если их разозлить, они начинают мстить? И что когда на глазах у японца прямо в море что-то выкидывают, он физически не способен сказать себе простую, с малых лет знакомую каждому русскому фразу «А мне-то какое дело?»
Помогал Маме Ане житель Хабаровска — молодой автослесарь, калымивший по частному приглашению на стоянке у местного дилера. Ходили слухи, будто это и был ее истинный сожитель, но подтверждений этому следствие не нашло. На допросе он сообщил, что за помощь в убийстве, расчленении и уничтожении трупа Мама Аня предложила ему половину суммы, обещанной мужу: пять тысяч долларов. Деньги, которых у нее так и не появилось. Ибо в результате расследования Великая Сутенерша получила, ни много ни мало, десять лет японской тюрьмы без права быть переданной российским органам правосудия.
Счастливо отделалась?
Кто ее знает. Сколько дают в России за убийство японского мужа ножом для разделки тунца?
— Иосич, дорогой! — не выдержал я. — Но при чем тут ты и спецслужбы?
— Ох, Митрий, — обреченно вздохнул водитель кобылы. — Ну, ты же в курсе, с кем я общаюсь! Люди из Владика и Хабары знают меня годами. Потому я с ними и работаю. Но точно так же меня годами отслеживает «хоан»! Ты меня знаешь, я ленивый. А потому с «хоаном» предпочитаю дружить. Но когда Маму Аню накрыли, дружить стало труднее! Девок еë разогнали. Все теперь в черные списки внесены, и в ближайший год ни одна из них в Японию въехать не сможет. Да там человек пятьдесят на деньги попало! А также на выдворение из страны в двадцать четыре часа. И когда на этом фоне вдруг появляюсь я — ребята, само собой, вынуждены и меня приструнить. Сколько б я с ними ни пил…
Иосич притормозил на очередном светофоре, достал из бардачка уполовиненную бутылку водки «Сантори», отпил глоток, спрятал пузырь обратно, выудил из кармана рубашки пачку «Парламента» и закурил.
— И ты знаешь, Митрий, в каком-то смысле я их понимаю. То есть я для них, конешно, хороший пацан, но надо же и совесть иметь! Теперь, когда эта дура мужа-японца замочила, у каждого, кто с ней хоть как-то пересекался, весь бизнес летит под откос. С мокрушниками водиться — гнилое дело, этого тебе никто нигде не простит.
— Ну… И что в твоем случае?
— Да не знаю я, что! По крайней мере, устроили хвост. Уже третий день пасут, вынюхивают чего-то.
— Что, и сейчас? — уточнил я озабоченно и оглянулся. Дорога за нами была пуста. Куда мы направляемся — я до сих пор не знал.
— Сейчас уже нет. Говорю же, сегодня я им пересменку устроил. Но завтра опять прицепятся, задницей чую! А как раз сегодня мне нужно было к ребятам на фазенду. Где все эти джеймсбонды ну просто на фиг упали. Эдак, сам понимаешь, не только без штанов можно остаться… Еще я только русскую малину японским копчикам не сдавал!
— Копчикам?
— Ну, слово такое международное. Копчик, маленький «коп». Мусор, по-нашему.
— А… Ну-ну.
Иосич глубоко затянулся и помолчал на скорости восемьдесят. Двухэтажный японский пригород медленно угасал в окнах старенького микроавтобуса.
— И вот притормозил я на большом светофоре, — продолжал Иосич задумчиво. — На о-очень большом светофоре, — развел он руки в стороны, оторвав на секунду ладони от руля. — Таком, где обычно все стоят минуты по три. Смотрю в зеркальце — а эти уже сзади! Метрах в пяти. Остановились, значит, и ждут… Очень такие незаметные японские копчики.
Он усмехнулся и снова умолк. За возникшую паузу в моей голове успели пронестись лучшие погони мирового кинематографа последних десяти лет. С переворачивающимися машинами, взрывающимися бензобаками и раскуроченными лавочками придорожных торговцев.
— И тут… — подзадорил я рассказчика.
— И тут, — подхватил Иосич, — я надеваю вот этот пиджак. А ты знаешь, Митрий, как сильно я не люблю пиджаков!.. Выхожу из машины. И четким, насколько позволяет состояние, шагом направляюсь к автомобилю противника. Правой рукой вынимая из внутреннего кармана, — он полез рукой в карман пиджака, — вот этот черный блокнот! И еще вот эту шариковую ручку. Останавливаюсь прямо перед бампером — и ме-е-едленно переписываю ручкой в блокнот номер их поганого автомобиля.
— Та-ак, — протянул я с интересом. — А они что?
Не знаю, Митрий, не знаю! — помотал он головой. — Что самое главное в схватке со зверем? Я тебе скажу. Самое главное в схватке со зверем — не заглядывать зверю в глаза! Это мне еще по молодости один якудза-пенсионер объяснил. А я запомнил… Так что я на них не смотрел и ничьих физиономий не считывал. Просто ме-едленно записал номер. Ме-едлено вернулся к себе в машину. И ме-едленно поехал до следующего светофора…
Укротитель японских ментов вдавил окурок в пепельницу, сбросил скорость и подрулил к стоянке перед внушительным двухэтажным особняком. Европейского типа. На втором этаже здания горел свет. Никакой вывески у входа я не увидел.
Припарковавшись, Иосич заглушил мотор, достал из бардачка пластиковую папку с документами и принялся деловито в ней ковыряться. По его лицу было понятно, что рассказ окончен.
— Ну? — не понял я. — А дальше-то что?
— Дальше? — переспросил Иосич рассеянно, доставая из папки чистый лист бумаги. — Дальше всю дорогу позади меня была девственная чистота! От следующего светофора… — он снова извлек из кармана блокнот и ручку, — и до сих пор. Иначе бы я тебя, господин официальный служащий японской фирмы, сюда не привез. Да и сам не приехал бы.
После пыток сегодняшним днëм моя фантазия сдохла, и лишь израненное любопытство еще било крылом по земле.
— Но почему? — тупо спросил я.
— Ну ты подумай сам! Если я ни в чем не виноват — по какому праву за мной третьи сутки следит какая-то хрень? Как честный гайдзин, проживающий на японской территории, я просто обязан возмутиться. Или испугаться? Тут я пока не придумал… В общем, позвонить куда следует — скажем, в головную контору «Хоан-кэйсацу». Телефон которой можно найти в любом справочнике. И настойчиво так поинтересоваться — какого лешего в вашей стране автомобиль с таким-то номером тревожит частную жизнь мирного налогоплательщика? Или, может, я вообще не туда звоню, и мне стоит обратиться в газету «Ëмиури»? Ну, логично я рассуждаю?
— Логичнее некуда, — кивнул я.
— Во-от! А теперь представь — xe-xe! — какой вид будут иметь эти салаги перед начальством, которое послало их шпионить за мной, а я их в первый же день раскусил, да еще и оскандалил на всю ивановскую… И больше пока вопросов не задавай, мне тут один документик составить нужно. Я быстро, ты покури пока.
По невозмутимому лику девицы пробежала едва заметная рябь.
— Секундочку! — пропела она, сняла непослушную крышку, положила рядом с урной. Собрала все четыре части черепа, ловко зажала их в пальцах левой руки. И пальцами правой принялась ворошить содержимое урны. Секунд десять она что-то там перекладывала и утрамбовывала. После чего вернула череп на место и снова накрыла крышкой.
На сей раз вышло удачнее, но зазор все равно остался.
Тогда, положив на крышку ладони, она мягко, но решительно налегла на нее своим весом. Раздался хруст, от которого все, кто был в комнате, вздрогнули как от выстрела, — и упрямая крышка наконец-то закрылась.
Подняв урну, девица подошла к капитану и с поклоном протянула ему драгоценный груз.
— Пожалуйста, несите вертикально!
— Please carry it… — перевел было я машинально, но замер на середине фразы. Ибо то, что я увидал, невозможно разыграть ни на какой сцене.
Капитан, побелев, начал пятиться, в ужасе разведя руки в стороны. И, наверное, так и пятился бы до самой двери, если бы за широкой капитанской спиной не попыталась укрыться сразу вся команда его коротышек. Морячки сбились в кучку и что-то перепуганно лопотали. Девица, ничего не понимая, застыла в поклоне с тяжеленной урной на вытянутых руках. Сколько бы она так продержалась — одному богу известно, не получи я от шефа локтем под ребро.
— В чем дело? — хрипло осведомился шеф. — Спроси его! Он старший, пускай и забирает!
— Э-э… What's wrong? — спросил я. — Why don't you take it?
Капитан помотал головой.
— We can't!
— But why?
— Because… the whole ship has already said goodbye to him. Now, if he gets back, his soul would feel uncomfortable, run away and stay on board forever.
— Что он говорит? — снова вынул меня из ступора шеф.
— Что они не могут его забрать, потому что все с ним уже попрощались, — сказал я, как только перевел дух. — На борту его душа почувствует себя неуютно, убежит из урны и останется на судне навечно.
— Ч-черт! — ругнулся шеф. — А… что же делать?!
Впервые за пять лет работы я видел свое начальство таким растерянным.
— О, господи! — соображал я на ходу. — Ну, давайте поставим у нас в конторе. Субботу-воскресенье в сейфе постоит, а в понедельник отправим спецпочтой…
Глаза у шефа затуманились. Он посмотрел на меня в упор, но я ощутил себя каким-то очень стеклянным.
— М-да?.. — глухо произнес он. — А если она у нас убежит?
Я уважаю своего шефа. Практичный мужик, два института закончил, теперь заведует отделом в крупном международном порту. Приятного типа начальник — кроме работы, вообще ни о чем не думает, благо все остальное в жизни за него уже придумала японская экономика. День за днем — точно старый, но вечно исправный мотор «тойоты»: поработал, выложился, вечером с сослуживцами в кабак, напился — спать в контору пополз, а если совсем хреново, то и в сауне на полке заночует. Так где-то к концу недели до дому и добирается. Убежденный, я бы сказал, реалист. После обеда дымит с народом в курилке. Теленовости обсуждает. За биржей следит. Деньги в акции вкладывает. Кредиты выплачивает. За новую машину полгода осталось, за старый дом — лет пять. А тут младший сын жениться задумал, очередной дом строить надо. Еще бы где-то кредит оторвать — да, судя по биржевым сводкам, сейчас не время. Внуки уже в садик пошли, как их там звать-то? А, ладно, лишь бы здоровые были… Ну, что, покурили? А теперь — сигóто-сигóто!
Такой вот у меня шеф. Плохой ли, хороший, — он мой шеф, и я его уважаю.
Но тут мои нервы не выдержали.
— Шеф!! — закричал я. — Очнитесь, я вас умоляю! На часах полседьмого, у вас два высших образования, а у нас в порту еще три сухогруза не отшвартовано! Вы сами слышите, что говорите? Кто убежит? Куда убежит? Дело надо делать, а вы о чем думаете?!
Спорю на что угодно: в любой другой ситуации я бы за свои речи поплатился, и очень сильно. Ибо в Японии повышать голос на начальство, да к тому же прилюдно, — еще безрассуднее, чем убегать по рельсам от электрички.
Но сейчас всë разрешилось предельно просто. Японское начальство поглядело на меня до безумия ласково. И очень тихо спросило:
— А что, Митя-сан? Может, вы заберете это к себе домой?
И тут со мной что-то произошло.
«Да где ж я вам, к чертовой матери, сейф-то возьму?!» — заорал было я, но осекся. Возможно, из-за странного голоса шефа, возможно, еще почему — меня вдруг переклинило, и я отчетливо, до мельчайших деталей представил себе свой дом. Двухэтажный дом европейского типа на самом краю Ниигаты. Который снял с женою два года назад, чтобы хоть там свить гнездо, если уж в России не вышло, и рожать там детей. А чтобы вселиться, требовалось заплатить чуть не за полгода сразу, и я взял в банке кредит. Который теперь сжирает половину моей зарплаты. Потому как жить-то мы собирались на зарплату жены. Но жена взбунтовалась против армейского уклада японской жизни и умотала обратно во Владивосток. А я остался в этом доме разгребать долги. И давно уже переехал бы в конуру подешевле. Увы! Японская мышеловка захлопнулась. Чтобы въехать в новое жилье, нужно снова платить чуть не за полгода вперед. A откуда деньги, когда еще этот кредит не выплачен? С радостью плюнул бы на всë и умотал в какую-нибудь Австралию. Но какой ценой? Навесив на порт мои личные долги в банке и совершив профессиональное самоубийство? Да и потом что — всю жизнь скрываться от Интерпола?
Я вспомнил свой дом-ловушку, из которого некуда деться, дом-вурдалака, который высасывает из своих обитателей последние соки, дом с призраками нерожденных детей и вздохами исчезнувших жен в пустых коридорах. Сумасшедший дом, в котором на сегодняшний день обитает парочка пациентов. Я, проигравший битву с собственной тенью, — и мой «заклятый друг», головастый алкаш, заселившийся месяц назад чуть ли не с улицы. Бум японских авто миновал, и дéбиты бедняги Иосича окончательно перестали сходиться с крéдитами, а на то, чтобы вернуться в Россию и в хаосе 90-х пытаться встать на ноги, не осталось уже ни здоровья, ни сил.
Я подумал обо всем этом за какие-то пару секунд, пока шеф ждал от меня ответа. И вдруг окончательно осознал, что неуютней, чем в этом мажорском ангаре за тыщу долларов в месяц, ни я, ни Иосич не ощущали себя нигде и никогда в жизни. Да, никто на свете не мог сказать, сколько еще двум безродным отшельникам прозябать в этом прóклятом месте. Но разве это повод втягивать сюда кого-то еще?
Я вздрогнул, точно от холода, и медленно покачал головой.
— Нет уж, — криво усмехнулся я шефу. — А если она у меня убежит?
— Ну, и куда ты меня привез? — спросил я, когда мы поднялись на широкое каменное крыльцо.
— Это клуб, Митрий, — ответил Иосич, зажал папочку в левой руке, а правой уверенно повернул золоченую ручку в форме львиной головы. — Пожалуй, самый дорогой в этом городе. Ночной клуб, которого еще нет. Или вообще нет. С этим у них вечно какая-нибудь напряженка… Родину давно не любил?
— Которую? — уточнил я.
— Сам разбирайся… Если что, тебе здесь напомнят.
Мы ступили в вестибюль. Ступени зеленоватого мрамора вели на второй этаж. Вдоль лестницы тускло горели электрические светильники — точь-в-точь европейские канделябры позапрошлого века. Сверху лились звуки фортепиано в исполнении чуть ли не самого Чайковского.
— Ого, — удивился я. — Неплохо для самураев!
— Были бы деньги, Митрий, тебе и мамонт польку спляшет. Нам на второй!
Мы двинулись вверх по ступеням.
— Смотри-ка, — пробубнил Иосич, сражаясь с пузом и одышкой. — Можно подумать, нас тут ждали…
Я вгляделся в полумрак наверху, и взгляд мой провалился в распахнутые двери, обрамленные шторами из кроваво-красной парчи. Справа от дверей стояла тень человека. Вернее, мне показалось, что тень. Ни лица ее, ни цвета одежды в тусклом сиянии было не разобрать.
— Добро пожаловать… — поклонилась нам Тень, когда мы доковыляли до верхней ступеньки. — Клуб «Екатерина» еще не открыт, но господин Морита ждет вас. Располагайтесь, он скоро освободится.
— «Екатерина»? — переспросил я.
— Пошли, Митрий, пошли! — Иосич протолкнул меня в двери. — А ты думал, зачем мы здесь?
«А зачем мы здесь?» — хотел уточнить я, но застыл с открытым ртом. Вокруг нас была Россия девятнадцатого века. Та Россия, с которой я годами знакомил японцев интуристовскими маршрутами «Москва — Ленинград». На секунду меня охватило чувство, будто я попал на экскурсию в какой-нибудь Шереметьевский дворец. Огромная золоченая люстра в стиле загнивающего барокко, резные столы, вычурных форм диваны и кресла все в той же красной парче. В углу невысокая сцена, на сцене — белый рояль, за которым никто не сидел. Фортепианные трели вытекали из невидимых динамиков в потолке.
У самой дальней стены громоздились какие-то ящики — видимо, еще не распакованная часть мебели.
Я вдруг почувствовал себя до ужаса одиноко.
— Иосич, дорогой… Мы тут надолго? — загрустил я.
— Не дрейфь, Митрий. Всего разговора минут на двадцать. Присаживайся.
Мы уселись за огромный стол у рояля. На стене рядом висел гобелен. С гобелена на нас угрюмо взирала Екатерина Вторая. В ее пухлых арийских скулах ясно угадывалось что-то монголо-татарское. В центре стола громоздилась пепельница из розоватого мрамора. Я полез в карман куртки за сигаретами — и, усмехнувшись, выложил на стол перед Иосичем то, что обнаружил в кармане.
— И давно ты, Митрий, булыжники за пазухой таскаешь? — с интересом спросил Иосич.
— Тест, — объявил я. — На сообразительность. Угадаешь с трех раз, что за хреновина, — с меня пиво.
После долгих извинений и объяснений урну с прахом взял-таки на хранение крематорий. Разумеется, за отдельные (в перспективе — бирманские) деньги. Все полчаса, пока мы с шефом оформляли бумажки, команда и капитан дожидались в автобусе.
— В понедельник заберешь — и спецпочтой в Рангун! — распорядился шеф, вручил мне квитанцию и зашагал по коридору к выходу.
— Хай! — кивнул я и двинулся за ним. Первое, что я хотел сделать, выйдя на улицу — немедленно закурить. А потому на ходу сунул руку в карман куртки за сигаретами. И тут мои пальцы наткнулись на что-то твердое.
Я достал неизвестный предмет из кармана — и чуть не споткнулся на ровном месте.
Это был выгоревший добела фрагмент человеческой кости. Какой именно кости — бог разберет. Весьма отдаленно это напоминало небольшой позвонок. Хотя вполне могло оказаться, скажем, и частью бедра.
Я понял, что на протяжении всех «переговоров» вокруг скелета сжимал эту кость в руке. Подняв ее с пола. Выпавшую из палочек у капитана. Стиснул нервно в ладони — лишь бы ухватиться за что-нибудь, — да так и забыл положить куда следует. Слишком уютно в ладони лежала. Слишком уверенно. И больше не крошилась, как ни сжимай.
— Слушай, вот это кру-уто! — протянул Иосич и повертел кость в руках. — Ну, и что ты с ней будешь делать?
— Да не знаю. Не распечатывать же из-за одной косточки всю погребальную урну! А выкидывать как-то… стрëмно. Ты что предлагаешь?
Ответить он не успел. Парчовая штора в углу отодвинулась, и хозяин заведения предстал перед нами.
Человек этот был из тех, кто предпочитает с утра до вечера — и на работе, и дома (ну разве только не в сауне и не на площадке для гольфа) — расхаживать исключительно в костюме с галстуком. Морщинки у глаз от Богарта, седые виски от Бельмондо. Господин-с-Иголочки. На галстуке — шëлковом, шоколадных тонов — золоченая монограмма: заглавная «Е» с шапкой Мономаха на макушке. Движения уверенно-ленивы, как у леопарда после ужина. Возраст — под шестьдесят. Проседь на висках лишь подчеркивала поистине нечеловеческое обаяние этого человека. Профессиональное, высокооплачиваемое обаяние, какое приобретают на съемочных площадках кинозвезды средней руки. Только без загара от софитов.
— А! Мои дорогие русские друзья! — Морита-сан широко улыбнулся и картинно развел руками. Обниматься, впрочем, не стал. —
Мы дружно приподняли чресла с дивана и согнулись в неглубоком поклоне.
— Морита-сан! — торжественно объявил Иосич. — Извините, что отнимаю драгоценное время… Но у меня к вам небольшое дело.
— Что вы, что вы! — всплеснул хозяин руками. — Русские гости для меня всегда праздник! А о делах успеется. Вы присаживайтесь… Чего-нибудь выпьете?
— Ему бренди, — ткнул Иосич пальцем в меня. — А мы с вами можем и водки, если желаете.
— С удовольствием! Давненько водки не пил, а с русскими — и подавно! Присаживайтесь, господа, я сейчас…
Хозяин галантно засуетился, снова скрылся в своем будуаре, но уже через пару минут вернулся с серебряным подносом в руках. На овальном подносе стройной шеренгой выстроились бутылка «Реми Мартен», запотевшая поллитра «Столичной», три хрустальных бокала, блюдечко с дольками лимона и ведерко со льдом.
— Девушки пока не прибыли! Вот я пока за всех и… — словно извиняясь, приговаривал Морита-сан, разливая каждому. — Первые только через пару недель приедут. Но платья для них уже шьют!
— То есть как? — удивился Иосич. — Они здесь что, в униформе будут клиентов спаивать?
— Ну что вы! — небрежно рассмеялся хозяин. — У каждой из дам наряд будет свой, шитый индивидуально. Бальные платья России восемнадцатого века! Специально в Токио ездил заказывать. Лично дизайн выбирал!
— Во… восемнадцатого?
— Вот именно!
Все чокнулись и опрокинули по первой. Об искусстве закусывать водку Морита-сан, надо думать, пока не слыхал.
— Настоящие русские леди! — победоносно улыбнулся Морита. — Как в том фильме, про Каренину. Ну помните, где еще Анну играла эта… как ее…
— Софи Марсо? — почему-то догадался я.
 |
— Да-да, Марсо! А такая грация, скажу я вам, мно-огого стоит… Порода! Без нее просто не может быть культуры русских балов. Которые мы будем устраивать здесь, в Ниигате. И на которые будут собираться самые уважаемые люди нашего города. Обязательно пришлю вам приглашения! Если у вас нет смокингов, могу порекомендовать очень приличный прокат.
— Да откуда ж вы столько… — удивился было я, но Иосич вдруг наступил мне на ногу под столом, и я послушно заткнулся.
— Морита-сан! — громко сказал Иосич. — Давайте выпьем за успех вашего клуба, и я вам кое-что покажу!
Возражений не поступило, все снова выпили. Морита мужественно поморщился. Иосич раскатисто крякнул. Я закурил.
— Да! А вы уже слышали, что случилось с Анной-сан? — как бы вскользь поинтересовался Иосич.
— Анна-сан? — Морита-сан по очереди заглянул нам в глаза. Очень быстро: сначала Иосичу, потом мне. И, опустив взгляд, покачал головой. — Да, сегодня все об этом только и говорят… По телевизору так и мелькало… Ужасно, ужасно! Кто бы мог подумать? Как жестоко и глупо! Столько крови. Такая бессмысленная смерть… А почему вы спрашиваете?
— Дело в том, что неделю назад я продал Анне-сан автомобиль.
— Вот как? И что же? — хозяин изобразил на лице вежливый интерес и принялся разливать по третьей.
— И сейчас эта машина стоит у меня на стоянке. По идее, я должен отправить ее в Находку на ближайшем судне. Все-таки клиент все оплатил, включая транспортировку, да и получатель в России ждет, ну вы понимаете…
— О да, разумеется! Если все оплачено, заказ нужно выполнить, даже если клиент уже умер. Так поступают все уважаемые бизнесмены.
— Я тоже так считаю, Морита-сан. Вот только машину Анны-сан опечатала полиция. В таможне-то все документы на нее оформлены…
Морита-сан поднял руку со стопкой и замер, задумавшись на пару секунд.
— Был бы рад вам помочь, но… не вижу проблемы! В контрактах это, кажется, называют «обстоятельства форс-мажор»? Я думаю, в такой ситуации никто не станет требовать возврата денег.
— Нет-нет, Морита-сан! Вы не так поняли, — улыбнулся Иосич. — Мне не нужно помощи. Мне нужен лишь один небольшой совет. Все-таки вы человек опытный и в этом городе уважаемый…
— Хм!.. — гордо усмехнулся хозяин. — Ну что ж, я вас слушаю.
— Понимаете, вместе с автомобилем — а точнее, с капитаном судна, которое его должно было везти… в общем, Анна-сан попросила меня передать письмо.
— Письмо? — поднял бровь Морита.
— Да. Она вручила мне конверт и сто долларов для капитана — ну, чтобы это письмо передали кому нужно. Будь то обычная ситуация — мне бы и в голову не пришло, но… — Иосич изобразил на лице активную неуверенность. — Вот уже три дня ко мне приходят из полиции. Спрашивают, насколько я был знаком с подозреваемой, не просила ли она о чем-либо необычном… Ну, вы понимаете.
— Та-ак?
— В общем, я решил заглянуть в этот конверт. А то, знаете, мало ли что там — не дай бог, я же потом крайним окажусь.
— Ну что ж, э-э… Пожалуй, вы действовали правильно, — хозяин чокнулся о рюмку Иосича на столе. — Кампай!
И выпил свою до дна.
— Вот оно, это письмо, Морита-сан…
Иосич достал из папки грубо надорванный почтовый конверт с эмблемой «Аэрофлота». В конверте оказались сложенный втрое лист бумаги и новехонькая банкнота в сто долларов.
— Пожалуйста, посоветуйте, что мне со всем этим делать!
— Но я не читаю по-русски…
— Это ничего, Морита-сан. Я переведу. Тут совсем несложно.
Иосич откашлялся, выпил — и принялся с выражением декламировать по-японски то, что сам же написал всего полчаса назад. Я взглянул на бумажку в его руках. По-русски это выглядело так:
— …Ну, и еще двенадцать названий. — Иосич перевел дух, достал из кармана пачку «Парламента» и закурил.
Я взглянул на хозяина. Тот задумчиво смотрел в окно. За окном была ночь.
— Так какого совета вы от меня хотели? — очень медленно спросил он.
— Что мне с этим делать, Морита-сан? — Иосич драматично развел руками. — Завтра я, по идее, должен передать это письмо полиции. А ведь могу и не передавать! Но как тогда? Выкидывать подобные вещи в мусор, согласитесь, неосмотрительно. У вас есть идеи? Поделитесь…
— Я думаю, что… — Морита сан прищурился, все еще глядя в окно. — Я думаю, нам лучше пройти ко мне в офис.
И мы прошли в офис.
Потайной «будуар» оказался самой банальной конторой. Два железных стола с ящиками, стеллаж с папками вдоль стен, ксерокс в углу, мусорная корзина и огромный шреддер у выхода.
Словно бы невзначай хозяин остановился у шреддера, нажал какую-то кнопку. Аппарат плотоядно заурчал, на передней панели вспыхнул зеленый глазок.
— Вот! — ласково погладил он шреддер. — Недавно приобрел. Замечательная вещь. Не хотите опробовать? — и он выразительно посмотрел на бумагу в руках у Иосича.
— Смотря какой ценой, Морита-сан, — улыбнулся Иосич, глядя на хозяина в упор. — Смотря какой ценой…
— Смотря чего и сколько вам хочется, — с улыбкою же парировал Морита. И теперь уже глаз не отвел.
— Ну, лично мне в этой жизни уже мало чего хочется… — Иосич занес письмо над пастью шреддера. — Но вот уже шесть лет подряд, Морита-сан, я ужинаю в одной и той же лапшевне. Это меня очень тронуло. Надеюсь, вы меня поймете. Шесть лет подряд совершенно чужие люди кормят меня так, как мне нравится!
— Да, — хозяин задумчиво кивнул. — Я хорошо понимаю, о чем вы… Кстати, вы о какой лапшевне?
— «Тампопо». Не слыхали?
— «Тампопо»… на Фурумати? Да, помню! Кажется, сам забегал туда на прошлой неделе!
— Да-да. Вы, наверно, не в курсе… На Фурумати им задирают планку, Морита-сан. Ресторанчик может загнуться. Я понимаю, что здесь свои законы, но… Мне бы этого не хотелось. Уж очень я там привык. A что получается? Сидишь себе, ешь свою рамэн, никого не трогаешь. И вдруг заходят какие-то скандалисты — ну, вы меня понимаете…
— Да что вы говорите! В «Тампопо?» Вот уж не знал… Безобразие. Бедная женщина! Одну минуточку.
Хозяин достал из кармана мобильник, набрал номер, отодвинул парчовые шторы на окне и повернувшись к нам в профиль, красиво вгляделся в полную луну.
— Ямада?! — рявкнул он раз в пять громче, нежели разговаривал с нами. — Да, я! Кто у вас там по Фурумати?.. Дзиро? Давай его сюда!.. Дзи-тян? Да, Морита! В «Тампопо» на Фурумати заходил? Сегодня? Так вот, запомни: там отбой! Завтра же принеси им лимон и извинись! С шефом я улажу… Ты слышал? Я сказал: сегодня же принеси деньги, извинись и забудь об этом вообще!! Все вопросы — сам знаешь к кому! Да, я завтра заеду, так и передай… Ну, все понял? Чао!
Хозяин выключил трубку и легонько поклонился Иосичу. Иосич разжал пальцы над шреддером и уронил в щель машины письмо. Из раструба внизу выполза аппетитная белая лапша, покачалась раздутыми хлопьями у наших ног и застыла.
Иосич занес над щелью сто баксов.
— За сегодняшнюю выпивку, Морита-сан! А также привет российскому капитану.
— Замëтано! — усмехнулся хозяин.
Иосич сунул банкноту в шреддер. Из раструба внизу, трепыхаясь, вылез комок зеленоватой пены.
— Чек выписать? — улыбнулся Морита-сан.
— Не стоит, — покачал головой Иосич. — Всю жизнь пью за свои.
— И это правильно! — важно кивнул хозяин.
Пока они кивали друг другу, я расхаживал по офису со стаканом халявного бренди в руке и разглядывал помещение. Обычный конторский офис на четырех работников. Ничего личного. Ящики в столах. Бумаги в папках. Дискеты в кейсах. Ручки в карандашницах. Белые стены, высокий потолок.
Лишь на одном из столов я обнаружил занятную штуковину. Стеклянный шар сантиметров пятнадцать в диаметре. Внутрь которого непостижимым образом запаяна огромная черно-белая бабочка. Хрупкие крылья с тончайшими прожилками, распахнутые в полете, ниточки усиков, бисеринки-глаза — все было как живое. Просто Время застыло в стекле и решило никуда больше не торопиться.
На спине у бабочки я разглядел пятно, похожее на человеческий череп. Снаружи по стеклу бежала красивая гравировка — надпись «от руки» по-латыни:
 |
И по-японски:
— Что это, Морита-сан? — не выдержал я.
— А-а! Это мой старший брат, — отозвался хозяин. — Заливает в стекло что угодно. Разработал у себя на «Тойоте» специальные технологии… В прошлом году у него родился ребенок. Так отец первый локон с головы сына тоже запаял в стекло. Красиво, не правда ли?.. А бабочек этой породы в России больше не существует. Уже в начале 90-х годов их там не осталось вовсе. А эту еще в 80-м поймал для меня один русский друг… — Он театрально расхохотался, взял у меня шар поднял на вытянутой руке. — Хо-хо! Возможно, у меня в руках последняя «мëртвая голова» России! Кто знает?
Хозяин окончательно развеселился. И тут у меня в голове что-то сдинулось. То ли бренди мне было уже достаточно, то ли еще почему, — но я повернулся к нему и широко улыбнулся:
— Морита-сан! А ведь у меня для вас подарок! Можно сказать, амулет вашему клубу!
— В самом деле? — глаза хозяина лучезарно зажглись. — Спасибо! Что же это?
— Видите ли… Неделю назад через наш порт русские археологи провозили скелеты сибирских мамонтов. В дар какому-то институту…
Я достал из кармана кость и бережно передал Морите.
— Целую неделю с ними в таможне возился! — продолжал я. — Ну, и подарили на память. Только мне-то она зачем? А вы бы ее вот так же бережно в стекло залили, надпись написали, на стол поставили… Всем радость!
— Хм-м! Неплохая мысль… А что это за кость?
Я посмотрел на Иосича. Иосич все понял.
— Это копчик, Морита-сан! — небрежно разъяснил Иосич. — Митрий просто забыл это слово по-японски… Копчик мамонта. Отсюда начинается хвост.
— Что вы говорите? — впечатлившись, Морита-сан вгляделся в объект повнимательнее. — Но… почему такой хрупкий? Кость мамонта обычно как камень! У нас, вон, даже печати из них вырезают. Вечные. Очень дорого, между прочим…
— Все верно! — важно кивнул я, только что не щелкая каблуками. — Но
— Ах, во-от оно что! Но тогда его действительно необходимо залить в стекло! Завтра же брату позвоню. Так значит, копчик камчатского мамонта? Хм-м… А вы, случайно, не знаете, как это пишется по-латыни?
Я посмотрел на Иосича. Тот кивнул и достал свой черный блокнот.
— Я сейчас напишу, Морита-сан… А вы потом так же и гравируйте.
Нацарапав что-то в блокноте, он вырвал страницу и положил на стол перед заинтригованным хозяином. На странице было выведено латиницей:
 |
И по-японски:
— Да-а, дорогой мой… — xoхотал я в машине по дороге домой. — Какое же ты все таки потрясающее трепло!
— Ну почему же сразу трепло? — удивился Иосич. — Просто, вишь как… Я же просто так занят, Митрий. Понимаешь? Занят делом!
— Каким делом? Объясни мне хоть раз наконец! Тебе бы лекции читать! Или стихи переводить, своих любимых поэтов группы «Арэти»… А ты чем занимаешься?
— Хех! — Он сплюнул в окно. — Я, Митрий, занимаюсь делом, блин, всей своей грëбаной жизни! Легче, конечно, делать жизнь при помощи денег, кто ж спорит. Но это когда они есть! А когда их нет? Что нам с тобой остается, когда нет денег? Правильно, Митрий. Остаются одни слова.
— И бессмертные души… — почему-то добавил я и вздохнул.
— Угу! — кивнул он важно. — Бирманских боцманов.
— И еще копчики, — мрачно добавил я. — Камчатских мамонтов.
— И консулы стран покойников, — парировал он.
— И телефоны японских борделей, — не сдавался я.
— И разбитые тарелки с пельменями… — Иосич наконец-то заржал и махнул рукой. — Ох, ладно, Митрий! Давай лучше водки тяпнем! Сейчас я тут у заборчика припаркуюсь на пять минут, тут-то мы с тобой и того…
Клуб «Екатерина» разорился через три месяца после открытия. Нужного количества «русских леди» Морита-сан так и не набрал, клуб свернул, а здание передал в пользование своему сыну. Сын забил пустующие залы игральными автоматами «пачинко». Заведение располагалось слишком далеко от больших дорог, чтобы выжить, и через полгода также закрылось.
Старший брат Мориты вскоре сломал бедро в автокатастрофе, потерял работу в «Тойоте» и, по слухам, развелся с женой.
На этом след бирманского боцмана окончательно обрывается.
Ресторанчик «Тампопо», как я слышал, кормит людей до сих пор.
Если долго смотреть на море, начинает казаться, что так, как сегодня, действительно будет всегда. Мы смотрели на него годами, но оно оставалось прежним.
В ясные дни оно печально вздыхало, в дождь угрюмо брюзжало, в шторм непотребно и смачно ругалось. Японское море хотело нам что-то сказать, — а мы, два потасканных востоковеда в отставке, пытались расшифровать его Послание. Может, оно рассказывало нам, что через десяток лет я вырвусь-таки отсюда, осяду в Москве, напишу наконец свою книгу и разведусь со второй женой, — а Иосич, святая душа, проживет в Ниигате еще немного, помрет в одиночестве от белой горячки, и его тело сожгут аккурат в том же самом городском крематории?
Не знаю, что слышал он. Он просто пил и слушал. Слушал и пил.
Я же, вспоминая все это, понимаю теперь лишь одно.
Слава богу, хотя бы язык Океана нам уже не постичь никогда.
Слишком давно мы оттуда.
 |
(support [a t] reallib.org)