"Понедельник начинается в субботу" - читать интересную книгу автора (Стругацкий Аркадий Натанович, Стругацкий...)
Глава вторая
Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зелёные равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалёку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина поэтому двигается рывками, вдобавок то и дело натыкаясь на развалины античных и средневековых утопий. Я подбавил газу, движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.
Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться стихосложению.
Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землёй медленно проплыли тяжёлые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идёт из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.
В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблёскивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба всё колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.
Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своём, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.
На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зелёной шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в жёлтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и тёмных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда, в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменём или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многоногих механизмов и затравленно озирались.
Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убеждённо говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретём его. Обязательно изобретём. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нёс своё: «Я нашёл, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.
Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошёл с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слёзы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопанье это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощёного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолёта. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.
 |
Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешёнными лицами, собирались к другим звёздам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом моё внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы чёрного дыма.
— Что это там? — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.
— Железная Стена, — ответила она, не останавливаясь.
С каждой минутой мне становилось всё скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль…» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я ещё успел заметить, как над городом с рёвом взлетели звездолёты, планетолёты, астропланы, ионолёты, фотонолёты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.
После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишённое материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились всё прозрачнее, а звездолётов на площади становилось всё меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.
Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь Землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да ещё пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошёл прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределённой профессии. Ни к селу ни к городу он повёл речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и… Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повёл. Видимо, никто не верил в бунт машин.
Из переулка выскочили ещё две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:
— Это «Звезда Мечты»!
— Да, это она!
— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!
— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн… Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.
Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.
— Это Земля? — раздражённо спросил он.
— Земля! Земля! — откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.
— Слава богу, — сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.
Увечный астролётчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал всё человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рёв дюз заглушил его слова. На площадь спускались ещё две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.
Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.
Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.
Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.
— Тебе что, малыш? — спросил я.
— Твой аппарат повреждён? — осведомился он мелодичным голосом.
— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно.
Он очень удивился, потом лицо его просветлело.
— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.
Я не нашёлся, что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал её в разных местах и произнёс несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьёзным для своих лет.
За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.
— Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена?
Он обратил на меня серьёзный застенчивый взгляд.
— Это так называемая Железная Стена, — ответил он. — К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. — Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.
— Любопытно, — сказал я. — А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?
— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори своё любопытство.
Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошёл и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:
— Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придётся предстать перед Объединённым Советом Ста Сорока Миров.
Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рёв чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскалённый ветер недалёкого ядерного взрыва опалил моё лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединённый Совет, и бросился к машине.
Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперёд сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования. Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолёт в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвёл глаза — мне стало неловко. Поодаль, чуть смущаясь, индифферентно стоял какой-то старикан и ловил из аквариума золотых рыбок. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.
Чтобы размять ноги, я сошёл с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.
По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассечённое до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплёвывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.
Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:
— Хэлло! Ю фром зэт сайд?[20]
— Да, — ответил я. — То есть йес[21].
— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа?[22]
— Со-со, — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа?[23]
— Итс о'кэй[24], — сказал он флегматично и замолчал.
Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей Вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Ещё дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть ещё области, порабощённые разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами, а также коммунистами. И наконец, за горами есть области, порабощённые ещё кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьёзный человек верить не станет…
Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лёг ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона всё никак не могли покончить со своим диалогом, а индифферентный старикан, выловивши всех рыбок, глядел на них и вытирал глаза платочком. Я ещё раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом. Вдоль рва прямо на меня полз, стреляя из пушек и пулемётов, огромный танк на трех гусеницах. Из радиоактивных туч снова вынырнули тарелкообразные аппараты…
Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.
Потом вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать ещё на миллионы лет вперёд и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.
— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.
— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили… А как было интересно, верно, товарищи?
Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.
— Но я всё это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.
— Ну а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в
— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Всё разговоры, разговоры…
— Ну уж тут я ни при чём, — сказал Седловой решительно.
— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.
— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина… Помните? На тригенных куаторах… Это, знаете ли, да…
— Нуте-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?
Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объёмного расширения), и я потихонечку удалился.
У меня было странное ощущение. Всё вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошёл Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшённая каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздём и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.
Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своём приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зелёного попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зелёный попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мёртвой белёсой плёнкой.
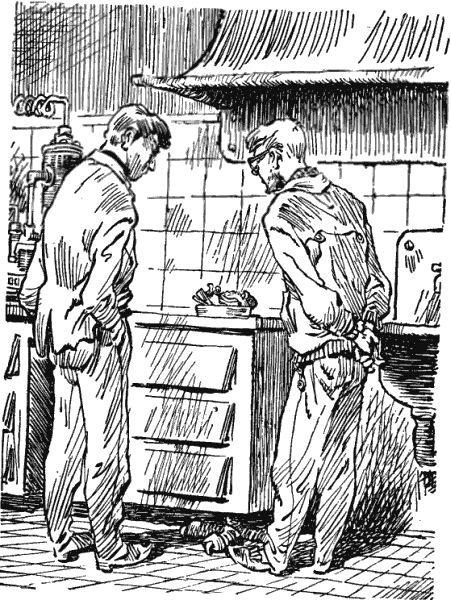 |
— Что это с ним? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.
— Откуда у тебя попугай?
— Сам поражаюсь, — сказал Роман.
— Может быть, он искусственный? — предположил я.
— Да нет, попугай как попугай.
— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.
Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На чёрной поджатой лапке у него было колечко.
— «Фотон», — прочитал Роман. — И ещё какие-то цифры… «Девятнадцать ноль пять семьдесят три».
— Так, — сказал сзади знакомый голос.
Мы обернулись и подтянулись.
— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.
— Здравствуйте, Янус Полуэктович, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.
Янус увидел попугая и ещё раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил её ярко-красный хохолок и тихо проговорил:
— Что же это ты, Фотончик?..
Он хотел сказать ещё что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошёл в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зелёный трупик.
— Роман Петрович, — сказал он. — Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.
Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждёт его у себя через полчаса, и ушёл.
— Странно, — сказал Роман, глядя ему вслед.
— Что — странно? — спросил я.
— Всё странно, — сказал Роман.
Мне тоже казалось странным и появление этого мёртвого зелёного попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешённым взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:
— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое
Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.
— В чём дело? — спросил я. — Диссертацию потерял?
— Ты понимаешь, Сашка, — сказал он, глядя на меня невидящими глазами, — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашёл в ней обгорелое зелёное перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.
— Чьё перо? — спросил я.
— Ты понимаешь, зелёные птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зелёным.
— Что за ерунда, — сказал я. — Ты же нашёл перо вчера.
— В том-то и дело, — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |