"Зеленая ветка мая" - читать интересную книгу автора (Прилежаева Мария Павловна)
18
День был морозный, ветреный. Мела поземка. Колючие струи снега неслись вкось монастырских троп и дорог. Страшно нос высунуть на улицу. В школу не хотелось идти. Тем более, по расписанию два первых урока — алгебра и геометрия, а преподавателя математики нет, саботирует. Людмила Ивановна придет читать вместо алгебры и геометрии Тургенева. Потом в большую перемену продовольственная комиссия будет раздавать по классам кислые щи из селедки и по ломтику ржаного хлеба наполовину с овсяной, грубого помола мукой. Хлеб с колючками, клеклый, а все равно съешь жадно, почти не жуя.
«К большой перемене пойду, а почитать можно и дома», — решила Катя и взяла с бабы-Кокиной полки недочитанную вчера Людмилой Ивановной «Первую любовь».
Баба-Кока со своим письменным столиком из красного дерева, со множеством ящичков, потаенных и явных, была погружена в занятие не очень для нее обычное. Баба-Кока оказалась по натуре новатором, постоянно осваивала какое-то новое дело. В это утро занималась шитьем. Швейная машинка фирмы «Зингер» годы бездействовала в высоком деревянном футляре с желтой, как в позолоте, ручкой. А теперь Ксения Васильевна водрузила машинку на свой письменный столик и перевертывала и перекраивала старые платья на новые, и, хотя и без практики, довольно искусно. Да еще ухитрялась приладить к месту где поясок, где оборку или бантик; таким образом, Катины туалеты были даже нарядны.
— Всякий портной на свой покрой, а мой и совсем неплохой, — хвалилась Ксения Васильевна.
Не любила она унывать. А Катю баловала, нередко нарушая наипервейшие педагогические правила. Например, вместо школы с утра расположиться на диване с книгой Тургенева — дело ли это? Конечно, не дело. Другая бабушка внушала бы внучке: долг, обязанности прежде всего; работе — время, потехе — час. И так далее.
А Ксения Васильевна поглядела в окошко, увидела снежную мглу и качающиеся от ветра кусты и не стала ничего внушать Кате.
Кстати, кроме поземки, грозящей разыграться в пургу, Ксения Васильевна увидела в окошко черную фигуру монахини, которая, по всем признакам, направлялась к ее, Ксении Васильевны, крыльцу. Давно уже монашенки забыли к ней дорогу; понятно, Ксения Васильевна приостановила шитье и в удивлении ждала.
Так и есть, минутой спустя раздался негромкий стук в дверь.
— Войдите! — разрешила баба-Кока.
Монахиня вошла.
Вошла не простая монахиня. Не из тех, что при старом режиме делили время между моленьями в храмах и стеганьем в кельях натянутых в пяльцы от стены до стены атласных одеял для заказчиков. Нет, пришла монахиня из начальства, правая рука и советчица игуменьи, мать-казначея. Все монастырские приходы и расходы, денежные средства, церковная драгоценная утварь: золотые кресты, усыпанные алмазами чаши, золоченые оклады евангелий, расшитые жемчугами епитрахили, — все огромные монастырские богатства состояли в ее ведении, под ее неусыпным контролем.
Вот каким важным в монастыре человеком была явившаяся к Ксении Васильевне в утренний час пожилая, степенная мать-казначея. Покрестилась на икону не поспешным крестом. Поклонилась не низким поклоном. Привыкла в сане своем не поспешничать.
— Уважаемая сударыня Ксения Васильевна, нашей смиренной монастырской обители великая до вас нужда.
— Догадываюсь. Без нужды не оказали бы чести.
— Об той великой, трудной нужде покорно прошу вас наедине поделиться, а внучке вашей…
— От внучки моей у меня нет секретов.
— По несовершеннолетию ее…
— Повторяю, секретов между нами нет. Сиди, Катя.
Мать-казначея потупила глаза, перебирая четки, видимо колеблясь, ища выход. Не нашла.
— Вас также большевики обидели, Ксения Васильевна.
— Не будем этот вопрос обсуждать, — сдержанно возразила Ксения Васильевна.
— Одному богу молимся, веру православную одну исповедуем…
— Давайте-ка, мать-казначея, поближе к вашей нужде.
— Ну тогда… ну, коли так… прикажите — паду на колени, — вдруг каким-то поднявшимся, надрывным голосом почти заголосила мать-казначея. — До конца жизни всея святой обителью нашей молить всевышнего будем за вас, разумность и милосердие ваше, сударыня Ксения Васильевна, протяните помощи руку, господь вознаградит и внучке вашей удачи в жизни пошлет…
— …в награду за что?
Мать-казначея оглянулась на дверь, возбужденно затеребила четки.
— Сударыня Ксения Васильевна! Вы благородного роду, вам от старого режиму вредного не было, а нынешняя власть милостью не пожалует, не для вас она, большевистская власть… Слушаюсь, слушаюсь, молчу о том, о деле буду. Зачем и пришла. Сударыня, вы у нас в обители с внучкой мирскими живете, на вас подозрение не ляжет… с обыском не нагрянут чекисты… Притесняют обитель. Какие кельи побогаче, стоят отдельными домиками, туда городских вселили. Грозятся и главный келейный корпус отобрать, слухи идут… Да я не про то… Реквизировали нас, достояния монастырские, трудом и дарами добытые, наполовину отобрали, грабеж, злодейство среди бела дня! Сказывали верные люди, снова придут, выметут все подчистую.
— Что же вам от меня требуется? — сухо спросила Ксения Васильевна.
Но Катя догадывалась, бабе-Коке понятно, что им от нее требуется.
И Кате понятно.
Вкрадчивый, сладкий, молящий и в то же время с властными нотками голос журчал:
— Сударыня Ксения Васильевна, припрячьте что по силе возможности. Не дайте святую обитель по миру пустить. Времечко-то, даст бог, переменится, перетерпеть бог велит. Припрячьте, Ксения Васильевна. Христом богом молим. Нынче ночью потихоньку к вам в подпол снесем да в яму и закопаем. Иконы-то в золотых окладах с алмазами, богатство-то! Божье, монастырское. Сделаем так, никто не унюхает, все шито-крыто, Ксения Васильевна, надежда наша…
Ксения Васильевна поднялась, бледная, с темным блеском нестареющих глаз.
— Вы решились ко мне прийти?
— Сударыня, милостивица Ксения Васильевна, — тоже вставая, но суетливо, потеряв степенность, заспешила мать-казначея. — Настоятельница передать наказали, слезно просим прощения, что с трапезной-то неловко тогда получилось, без ведома игуменьи, благодетельница Ксения Васильевна. Еще приказывали доложить: не задаром, Ксения Васильевна, вашей помощи ждем. Убережем добро, вашей милости по заслугам отпустим, жить-то надо, внучку кормить…
— Идите вон!
Баба-Кока стояла возле своего столика из красного дерева, где валялось скомканное шитье. Высокая, недоступная.
Мать-казначея как будто перевернулась: разом смыло умильность, лицо вытянулось, бледнея до зелени; пиявками кололи глаза, с дрожащих губ срывалось что-то безумное:
— Да будет проклята твоя окаянная жизнь, распутница, отступница от бога, пусть род твой истребится и имя твое, и муки адовы падут на тебя и внучку твою-у-у-у… Проклятье на вас, вся святая обитель вас проклинает!
И в этот миг, ах, могла ли Катя вообразить, чтобы в этот именно миг, когда на ее и бабушкину головы рушились проклятия монахини, открылась дверь, вкатились понизу клубы морозного пара, и в морозе и инее явилась Фрося с котомкой за плечами и увязанным в платки и одеяла… свертком, сказала бы Катя, если бы не догадывалась…
Не здороваясь, не видя никого, кроме матери-казначеи, Фрося шагнула на нее.
— Ты, святая, ты и меня так кляла, — она кивнула на сверток, — за Васеньку. Все ваше черное племя, губительницы вы, а не святые. Слышала я, на что ты подбивала Ксению Васильевну, за дверью твой голос узнала. Теперь я про тебя, святая, Советской власти все твои умышления выложу. Не смолчу, я тебя всю открою, что вражина ты. И все вы, монашки, только что без ножа, а убивцы…
Мать-казначея вдруг громко икнула, и Фрося умолкла, так это было странно и нехорошо. А мать-казначея неудержимо икала и всхлипывала. Грузные плечи тряслись. И с икотой и всхлипом ушла.
— Не хватило силенок до конца продержаться, — брезгливо поморщилась Ксения Васильевна. И Фросе: — Здравствуй, милая наша!
— Катенька, Ксения Васильевна, здравствуйте!
Иней на ресницах и платке у Фроси растаял, лицо было мокрое, с еще не остывшим от мороза румянцем, но такое худенькое, как бы все истончившееся, с глубокой грустинкой во взгляде.
— Здравствуйте!
И она тихо покачала головой. И видно было, как устала она, как забили ее невзгоды и беды.
— Ну-ка, быстрее знакомь, представляй своего сыночка, — говорила Ксения Васильевна оживленно и весело, чтобы не дать Фросе заплакать, и принялась разворачивать сверток, освобождая из одеяла и платков безбровое, курносое существо, которое, почувствовав себя на воле, зашевелило ручонками, открыло глаза и широко улыбнулось.
— Рад, что к хорошим людям попал, — шепотом, с нежностью промолвила Фрося. — Сынок уродился, полгода сровнялось, Вася…
— Вася? Он Вася? — удивилась и обрадовалась Катя.
— Катя, я его Васенькой в честь брата твоего нарекла. Ты отпиши Василию Платоновичу…
Фрося говорила, говорила, говорила, торопясь и дрожа от волнения, как в лихорадке:
— Выгнали меня из дому. Пропала бы я, да бабка Степанида приютила, бобылка Степанида, вы у ней, Ксения Васильевна, в то лето избу под дачу снимали. У ней и родила сыночка. Сами с ней зыбку смастерили, а на пеленки бабы тряпок да ношеных рубах нанесли. А в крестные матери ни одна не согласна. По нынешнему времени бога упразднили, можно и не крестить, а он поспешил, до Октябрьской родился. Поп с угрозой: «Ты зачем, такая-сякая, крестить не несешь своего?..» Хотел обозвать, да споткнулся, поп все-таки, в рясе, язык-то придерживать надо… Катенька, Ксения Васильевна! Нешто маленький мой виноват, что незаконно родился? А они его бранным словом… Ну, ладно. Я попу: «Не сыщу крестных отца с матерью. Никто крестить не идет» А он мне: «Что заслужила, то и несешь. Поделом». Да как настращает! «Гляди, — говорит, — помрет твой ребятенок, сгубишь некрещеную душу, обречешь на вечные муки в геене огненной». Как я на ногах устояла от угрозы такой! А бабка Степанида смышлена, уговорила пастуха. Пастух у нас пришлый, от села независимый. Постояли бабка с пастухом у купели… — Она замолчала. Крупная слеза покатилась по щеке, она вытерла слезу рукавом. — Ксения Васильевна, мы к вам, — робко проговорила она. — Бабка Степанида померла. Хотела я вам про свою жизнь отписать, сяду за письмо, слезами изойду, так и кину, не кончу. Боязно нам с Васенькой в пустой избе, да и ветхая, вот-вот потолок обвалится. Нынче по новым порядкам нас, чай, не погонят отсюда? Может, я Советской власти сгожусь, а? Ксения Васильевна?
— Сгодишься, — ответила Ксения Васильевна таким спокойно-уверенным тоном, как если бы выступала полномочным представителем самого Совнаркома. — Ты и твой мальчонка Советской власти не пасынки, а родные дети… Ну, давайте чаевничать. Для дорогих гостей у меня чайку и сахару хоть и небогато, а в запасе ведется. Я старуха экономная, научили большевики экономить. Катя, ставь самовар.
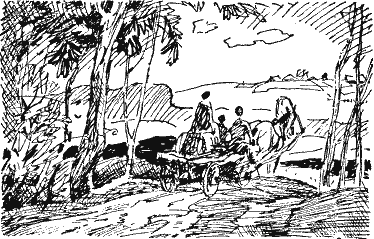 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |