"Повести" - читать интересную книгу автора (Шевченко Тарас Григорович)
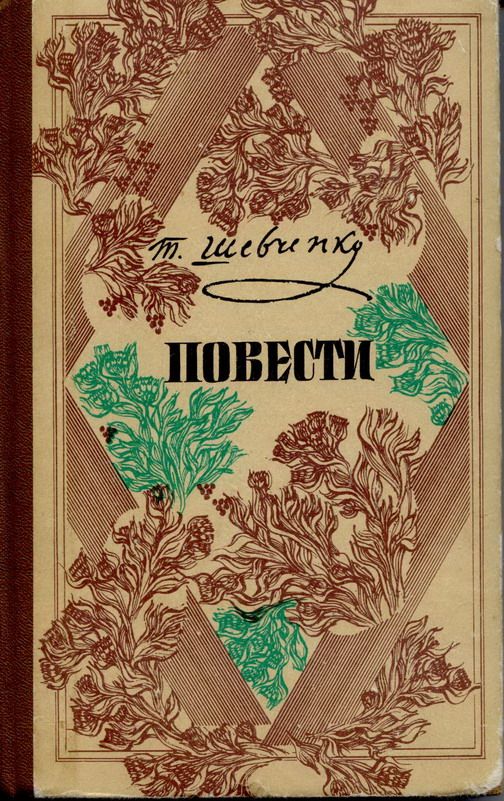 |
Киев
«ВЕСЕЛКА»
1984
 |
Художественное оформление
ВЛАДИМИРА ЮРЧИШИНА
Предисловие члена-корреспондента
АН УССР Е. П. КИРИЛЮКА
Составление и примечания
доктора филологических наук
С. М. ШАХОВСКОГО
 |
Ш4
803010200— 097
М206(04)—84
86. 84
©Издательство «Веселка», 1984,
предисловие, составление, примечания, иллюстрации, художественное оформление.
 |
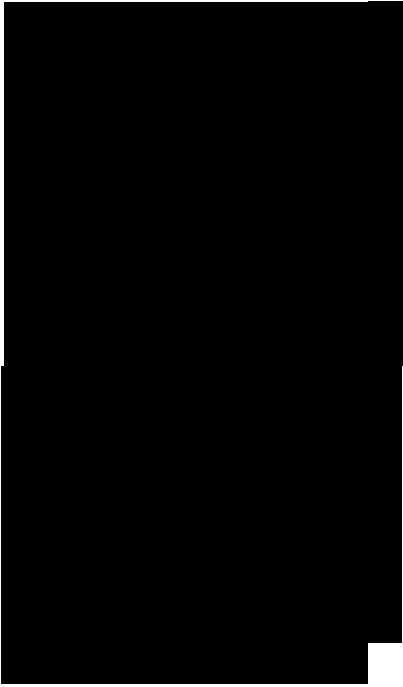 |
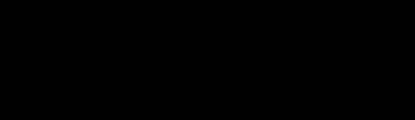 |
Человеческий гений проявляет себя во многих областях. Шевченко был крупнейшим поэтом современности и в то же время замечательным художником, удостоенным звания академика. После ареста за участие в тайном революционном обществе он был сослан в солдаты в далекий пограничный корпус с запрещением писать и рисовать. Но и здесь он продолжал тайно писать свои революционные стихи. Спустя три года последовал второй арест. Несмотря на то, что поэт успел передать миниатюрную книжечку со стихами верным друзьям, его все же ждала вторичная ссылка в далекий прикаспийский гарнизон.
Хотя и здесь поэт нашел благородных друзей, он решил не испытывать больше судьбу и в свободные от караульной службы часы в течение семи лет украдкой писал только повести на русском языке. К сожалению, не все они дошли до нас. Так нам известно название одной из них — «Повесть о безродном Петрусе», ученые догадываются о ее содержании, но сам текст произведения утерян.
Поскольку произведения Шевченко было строжайше запрещено печатать, он попытался передать свои повести через друзей в Петербург для публикации под псевдонимом «Кобзарь Дармограй». Однако осуществить этот замысел не удалось. И дело не только в цензуре. Замечательный русский писатель Сергей Аксаков был искренним другом поэта, но он полагал, что повести Шевченко уступают его украинским стихам. Когда Шевченко возвратился из ссылки, Аксаков не посоветовал ему печатать повести, и хотя Кобзарь и мог бы предложить издателям свои прозаические произведения, он прислушался к мнению друга.
Только спустя два десятилетия после смерти Шевченко друзья поэта напечатали его повести. Об этом речь впереди.
Мы предлагаем вниманию юных читателей лишь четыре повести Шевченко. Первой написана «Наймичка».
В этом произведении автор использовал фабульные ситуации одноименной поэмы, но сюжет несколько видоизменил. Героиню повести он назвал Лукией, ввел новые эпизоды, показал встречу с офицером-соблазнителем. В образе Лукии мы видим новые черты — ее высокую моральную стойкость. Соблазнитель предлагает ей руку, но Лукия отвергает предложение: «Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!» Автор раскрывает силу простой девушки: «Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя. И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти».
В повести шире, чем в поэме, раскрыта высота народной морали. Яким и Марта, безусловно, догадываются о судьбе Лукии, но принимают ее у себя с маленьким сыном: «О роду и племени ее они как бы боялися с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастии».
В тексте повести встречаются важные моменты, о которых, конечно, не было и упоминания в поэме. Шевченко прекрасно понимал всю тяжесть жизни подневольного крестьянства и как выдающийся мыслитель мечтал об облегчении крестьянского труда: «О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству», — писал он в повести «Наймичка». Как известно, лишь после победы социализма в нашей стране была осуществлена мечта великого писателя.
Иногда Шевченко прибегает к историческим экскурсам, четко выделяя при этом свои собственные взгляды. Так, упомянув о кургане «Королева могила», он добавляет: «Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся со своими синекафтанными шведами». В другом месте, уточняя название «Ромоданов шлях», он сначала писал, что делает это «по долгу списателя народного быта». Затем автор снимает два последних слова, подчеркивая этим, что он ставит перед собой более широкие задачи, а не только воспроизведение быта. Шевченко раскрывал типические образы в типических обстоятельствах, не раз упоминая своего предшественника в прозе Гоголя. (Так, он сравнивает старого Якима с Афанасием Ивановичем после смерти Пульхерии Ивановны).
В повести «Наймичка» мы видим широчайшую палитру художника: «Солнце близилося к горизонту и золотило своим желто-багровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрывалася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпурному мату извилистой Сулы кое-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки. Тянутся — и пропадают в темно-зеленом очерете».
Вслед за «Наймичкой» по фабуле одноименной поэмы была написана повесть «Варнак», а немного позже — повесть «Княгиня» по фабуле поэмы «Княжна». В конце 1854 и начале 1855 г. Шевченко пишет повесть «Музыкант» по оригинальному сюжету. Произведение посвящено крепостной интеллигенции. В русской литературе 30—40-х годов тема эта уже разрабатывалась В. Белинским («Дмитрий Калинин»), А. Тимофеевым («Художник»), Н. Павловой («Именины») и др. Образ талантливой крепостной артистки особенно сближает произведение Шевченко с повестью Герцена «Сорока-Воровка» (1848), в основу которой положен эпизод, рассказанный М. Щепкиным. К сожалению, мы не знаем, была ли известна Шевченко повесть Герцена, опубликованная в журнале «Современник». Действительность того времени давала много подобного материала. Не случайно Шевченко называет конкретные села, в которых про- исходят*события: Дигтяри, Сокиринцы, Качановка, называет почти собственными именами помещиков-крепостников. Ведь каждый читатель в образе Арновского легко мог узнать весьма популярного мецената Г. Тарновского, владельца Качановки.
В свое время к середине 30-х годов мне пришлось работать в Харькове в Институте Тараса Шевченко Нарком- проса УССР и готовить академическое издание его сочинений. Мне поручили подготовить текст повести «Музыкант».
Известно было, что эта повесть впервые была опубликована после смерти автора в киевской газете «Труд» за 1882 г., а немного позже вторично напечатана в журнале «Киевская старина» за 1887 г.
Комплект газеты «Труд» я не мог достать в Харькове и сверял текст автографа с журнальной публикацией. И что же оказалось? Буржуазные фальсификаторы пытались скрыть от читателей название сел, в которых происходило действие, а также фамилии помещиков-крепостников. Впоследствии во время командировки в Киев я сверил текст и по газете «Труд». Оказалось, что отклонений от оригинала в журнале было не меньше, чем в газете. В газете текст публикации подготовил известный в свое время критик В. П. Горленко. Он старательно затушевывал от читателей, где именно происходит действие. Вместо «Прилуки» — ставил букву «П», вместо «Дигтяри» — «Д», а вместо «Качановка» — писал «Кленовка». Шевченко в автографе дал почти подлинную фамилию помещика-крепостника: «Арновский», а публикатор везде заменил ее «Кленовский». Только в академическом издании 1948 г. текст повести напечатан по подлинной рукописи Шевченко.
Факт этот весьма показателен: помещики реакционного толка пытались скрыть от читателей названия сел, где происходили эти мерзостные истории, а также имена их владельцев.
Главная идея повестей и Герцена, и Шевченко общая: показать, что страдания талантливых крепостных — не единичное явление, а закономерность крепостнической действительности. Композиционно повесть «Музыкант» имеет форму путевых заметок автора, который по поручению Киевской археографической комиссии описывает в селах исторические памятники. Часть повествования имеет характер писем крепостного музыканта Тараса Федоровича и воспоминаний другого персонажа произведения Ивана Максимовича. Нам кажется, что Шевченко не случайно назвал своего героя Тарасом. Сирота-крепостной оказался музыкантом-виртуозом, скрипачом и виолончелистом. С большим мастерством он исполняет сложные классические произведения Мендельсона, Шопена, Вебера, Беллини. В повести говорится, что его исполнение высоко оценил великий Глинка. И в то же время герой повести Тарас вынужден, как и раньше, выполнять за столом обязанности лакея.
Не менее трагична выведенная в этом произведении история талантливой артистки-сироты Тарасевич. Нам кажется, что ее фамилия тоже не случайно произведена от имени поэта. Она совершенно бесправный человек, хотя не крепостная. Тарасевич получила воспитание в «благородном» пансионе, она очень начитана, образована, прекрасная певица. В повести Тарасевич исполняет арию Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» под аккомпанемент самого автора, ее пение Глинка и художник В. Штернберг высоко оценивают. Но попасть 'На петербургскую сцену ей так и не удается. Тарасевич умирает в больнице под именем «крепостной девки» помещика Арновского.
Шевченко чрезвычайно смело вскрывает все язвы крепостничества, весь общественный строй, который допускал подобные уродливые явления. Герой повести «Музыкант» говорит в одном письме: «О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке. Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, — что если мы видим подлеца и не показываем на него пальцами, то и мы почти такие же подлецы».
Великий Шевченко обладал этим мастерством. Он не побоялся раскрыть подлинное лицо мецената Г. С. Тарнов- ского, который принимал у себя Гоголя, Глинку, Максимовича, Маркевича и многих других деятелей литературы и искусства, оставаясь при этом закоренелым помещиком- крепостником.
Арновский не одинок в своем городе. Под пару ему его сестра. Когда актриса Тарасевич была больна, для нее поспешили приготовить надмогильный крест. «Только случилось так, — пишет Шевченко, — что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры Г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барине платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг да и хвать ее нечаянно по голове так, что та, бедная, тут" же и ноги протянула». Таких мест в повести немало»
Вслед за «Музыкантом» Шевченко написал повесть «Несчастный» (1855) из жизни ссыльных, «конфирмированных» за различные проступки. Название — ироническое, автор не сочувствовал развращенным помещичьим и офицерским сынкам.
В том же году написана и повесть «Капитанша», также посвященная критике морально-этического аспекта крепостничества.
Повесть «Близнецы» создана в 1855–1856 гг. Как и в других своих повестях, Шевченко резко разоблачает здесь порочный характер крепостнической системы. В центре произведения судьба двух братьев-близнецов. Мать их покончила жизнь самоубийством, и мальчиков взяли в семью сотника Сокиры, назвав их Зосимом и Савватием. Хотя условия домашнего воспитания были одинаковы, но в дальнейшем в силу различных систем воспитания у братьев формируются совершенно разные характеры. Само название повести звучало иронически, ибо родные братья были в сущности общественными антиподами. Коснулся Шевченко и прогрессивных сил, сочувствовавших народу. В повести ими выступают знаменитый автор «Энеиды» И. П. Котляревский, учитель Степан Левицкий, аптекарь Карл Осипович и др. Савватий и его товарищи по университету увлекаются «Мертвыми душами» Н. Гоголя.
Творческий метод самого Шевченко-прозаика имеет много общего с критическим реализмом великого писателя. Об этом говорит в частности литературная полемика с подражателями А. Дюма, введенная в художественное полотно повести: «Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи… сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж, потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже, по мере сил, приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера. А хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно».
В течение января — октября 1856 г. Шевченко написал свою предпоследнюю повесть «Художник», имеющую отдельные черты автобиографического характера. В образе рассказчика легко угадывается добрый гений юного Шевченко, — художник Иван Сошенко, в образе талантливого крепостного художника (имя его не названо) — сам автор. Но повесть нельзя рассматривать как полностью автобиографическую. В ней много художественной фантазии, домысла. Крепостной художник изображен значительно моложе, чем был Шевченко в годы освобождения от крепостной зависимости.
Очень много эпизодов во второй половине повести — женитьба и смерть художника — полностью относятся к сфере художественной фантазии.
В то же время в произведении выведены замечательные реалистические образы многих современников Шевченко, в частности художников Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Ивана Сошенко, поэта Василия Жуковского, помещика Павла Энгельгардта, мастера Василия Ширяева. Центральным образом повести является одаренный художник, который гибнет в беспросветных условиях крепостнического общества. Главенствующая идея произведения, как и повести «Портрет» Н. Гоголя: подлинное искусство должно служить только благородным целям — прогресса и гуманизма.
Текст повести «Художник» свидетельствует о высочайшем уровне культуры Шевченко. Автор блестяще ориентируется в разных отраслях искусств различных эпох и народов. При этом необходимо принять во внимание, что у Шевченко в ссылке не было, конечно, никакой библиотеки, никаких справочников, энциклопедий. Все это богатство имен, фактов, названий произведений сохраняла память ссыльного художника. И тщательная проверка показала, что Шевченко нигде не погрешил против истории, против фактов!
Последняя русская повесть Шевченко называется «Прогулка с удовольствием и не без морали». Начата она была после окончания повести «Художник». Вторая часть завершена уже после возвращения из ссылки, 16 февраля 1858 г. Обе части подписаны псевдонимом «К. Дармограй». Шевченко возлагал большие надежды на публикацию этого произведения: «…по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута. То их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное безобразие». Как известно, такие же задачи перед искусством ставил и Чернышевский: «Отображение жизни — общий характеристический признак искусства, который является сущностью его; часто произведения искусства имеют и значение приговора явлениям жизни…»
К великому сожалению, и эту повесть, несмотря на благожелательное отношение в литературных сферах, Шевченко не удалось напечатать. Только через несколько десятилетий повести были опубликованы в периодической печати, а затем отдельной книгой. Но русская классическая литература ушла уже далеко вперед. Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чехов, Горький и ряд других величайших классиков русской прозы владели умами и сердцами читателя. К тому времени проза Шевченко была явлением уже минувшей эпохи.
И все же повести Шевченко являются для нас чрезвычайно ценным, своеобразным явлением, и современная молодежь не может не знать о них. Наряду с поэзией, изобразительным искусством — это одна из важнейших черт гениальной мысли Тараса Шевченко.
Е. П. КИРИЛЮК,
член-корреспондент АН УССР
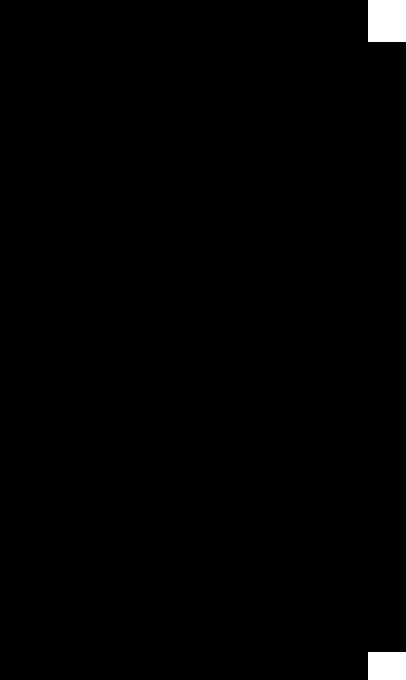 |
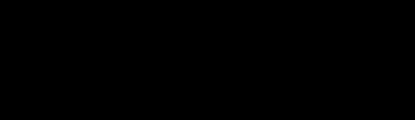 |
Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности. Чумаки же рассказывают вот какую былицу.
Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере, возов в двадцать каждая, одну на Дон за рыбой, а другую в Крым за солью. К первой пречистий чумаки, его наймиты, возвращалися в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромен с своею валкою. А шел он вот какою дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалася вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромен. Так посудите сами, какой он круг всегда давал. И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши нароздриб и частку гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.
А тут уже, под вербами около корчмы, стояло десяток- другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружают. Вот он остановился со своею худобою, снял шапку, помолился богу и, обратившись к чумакам, сказал:
— Благословите, панове молодци, волы попасать!
Чумаки ему отвечали так:
Боже благословы, велыке поле! — и принялися за свое дело.
А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря:
Я только чвертку выпью.
Заходит в корчму, а там шинкарочка точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и немолодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшися, и спрашивает его:
А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?
Она таки умела и по-московски слово закинуть.
А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да дви кварты меду, да сама сядь коло мене.
Добре, — сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла в лех с поставцем и принесла меду.
Сидит чумак Роман в конце стола, закуривши свою чумацкую люльку, а около его сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружает он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело, а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка знай наливает, а волы бедные в ярмах стоят. Вот уже и Чепига и Волосожар за гору спрятался, и зорница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: «Соб, мои половые!» Волы двинулися, взяли соб и пошли чистым полем, а не Лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и пробили широкую дорогу, и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.
Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтеся добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу списателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.
Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка? Я думаю, это будет правдоподобнее.
Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.
Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.
Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромна и до Кременчуга, не касается она на расстоянии 300 верст ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, собственно, для русских извозчиков, — наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажен 50 в диаметре. Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя. Это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной Петром Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антикварии.
Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия, как-то: Няньки, Мордачевы, Королевы и т. д. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся с своими синекафтанными шведами.
Я одначе, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился со своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.
Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенами; вдоль широкой долины извилисто вьется белой блестящей полосою Сула.
По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулося большое село, закрытое темными зелеными садами. Только кой-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко — это белая хата с соломенною крышею. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых благоухающих садах.
Солнце близилося к горизонту и золотило своим желто-баг- ровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделася матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбачьим челноком светлые блестящие струйки. Тянутся и пропадают в темно-зеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонилися к воде, как бы оплакивая умирающий день.
В такую-то вечернюю пору возвращалися в село с поля молодые прекрасные жницы. И как в этот день жнива были окончены, то они каждая для себя и для освящения в церкви сплела венок из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшися венком, возвращалися с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.
Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зеленою березкою. Настоящая Церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари с косами — они косили отаву на Суле — и скромно вторили им.
И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.
Прекрасная, умилительная картина!
А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее — и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.
Живуча и деятельна натура человека;
С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что же? Настал вечер — идет домой, поет, а дома не успела повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая, до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшися целый день, как ни в чем не бывало.
О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.
Группа косарей и жниц с своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближалися к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимных жнив.
Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.
Девушки, войдя в село, значительно переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?
А вот что! И те и другие заметили около некоторых ворот вихи.
«Какое же им дело до них?» — вы скажете. О, им великое дело до этих зловещих маяков!
Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.
Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих.
Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток.
А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина — ваш проклятый идол новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!
С поклоном и честью встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселю и повечерять, что бог дал.
Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже, на зеле- ном шпорыше, была разостлана большая белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый венок свой, и завернув круг головы кое-как свою раскошную косу, и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.
В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призбе и любовалися своей единственной прекрасной дочерью. Через край полною счастия жизнию их сердце билося, глядя на свою Лукию.
А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестию наивной простоты.
После вечери девушки, помолясь богу и поблагодарив хозяина и хозяйку, и свою молодую подругу за вечерю, и взявши венки, чинно вышли на улицу.
А на улице под частоколом и под вербами дожидали их чернобровые косари.
— Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай с дивча- тамы.
— Не хочеться мени, моя мамо!
— Чому ж тоби не хочеться, мое серденько! Може, ты утомылася, то ляж, засны.
— Я ляжу спать, мамо.
— Пострывай же, я тоби постелю постелю.
И мать послала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.
Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, немного повертевшись на постели, заснула.
А усталые подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:
Если бы на завтрашний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.
Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, так широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формою и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковом, на Бело- княжем поле. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромна в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумак простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим-то трупом вас начинено?» Или, задумчиво глядя на темные могилы, запоет однозвучно, монотонно.
Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор богатого козака Якима Гирла.
Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.
Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом. А ров усажен вокруг всего хутора крыжовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоялых русских дворов, а обыкновенные, простые; по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин. Да у глухого конца ворот старая широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, по левую сторону ворот — загороды с сараями для разной скотины, а за клунею невдалеке, под старыми берестами, две дубовые коморы и возивня. Напротив комор лех с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблунь, груш, слив, вишень, черешень и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом Якима Гирла. Посередине саду колодезь с колесом и навесом. А за садом в гаи, на небольшой поляне, пасика с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва.
А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечниками, а баштан был немного подальше, в поле.
Так какой-то благодатный хутор у старого козака Якима Гирла.
А каким добром наполнены его дубовые коморы и лех, и рассказать нельзя.
А чумаки его — где они на свете не ходят! И в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.
Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву; только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом. Так что он едва с парой волами домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе. Не всякому давал себе ступить на пяты.
Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призбе. Он был человек уже не молодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые; он не любил разных московских китаек, а носил все белое; сапоги на нем добрые, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.
Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая: в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, — хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.
Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую к и л ы м к о м, и поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной. И все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.
— Нумо полудновать, Якиме, — сказала она мужу.
Яким, перекрестясь, сказал:
— А полудновать, так и полудновать. Господи, благослови!
И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.
После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив, и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призбе около своего мужа. Долго они сидели молча. Наконец Марта заговорила:
— Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.
— Да, что-то долго не видать. — И Яким замолчал. Ему как бы не хотелося продолжать разговора. Впрочем, он вообще был неговорлив.
Немного погодя Марта опять заговорила:
— Я все думаю, Якиме: кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою господь ни дочери, ни сына. Так и помремо одиноки!
— Так что ж, что помремо? Люди добрые похоронят, а добро поживут!
— Конечно поживут, никуды оно не денется, а все-таки лучше, если б было свое родное дитя.
— Так где же его взять, коли господь прогневался на нас за грехи наши?
— Да, прогневили мы милосердного господа, не утешил он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме? Поеду я завтра в Бурта да отвезу отцу Нилу на сорокоуст и за твою, и за свою душу. Пускай отслужит, когда помремо.
— Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голово, кто живой человек по своей душе сорокоусты правит?
— Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.
— Бог милостивый, не останемся. А я вот что думаю: что-то наша челядь из села долго не возвращается.
— Цыть, цыть, Якиме! Чуєш?.. О, ще раз!
— Что там ще раз?..
— Чуеш?.. Дытына плаче…
— Так и есть, за воротами…
— Пойдем посмотрим, Якиме.
— Ходимо.
И не по летам бодро встали с призбы и пошли к воротам. Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрытая зеленым широким лопухом.
— Якиме! — только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.
А старый Яким, снявши б р ы л ь, молился богу.
— Якиме! — сказала Марта, взявши ребенка на руки. — Посмотри, какое здоровое да хорошее!
Яким взял ребенка на руки и сказал:
— Пойдем в хату, — оно, бедное, голодное.
И они пошли в хату с своею дорогою ношею.
Пришедши в хату, Яким положил младенца бережно на стол, достал с полки псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом «Живый в помощи вышня- го». Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:
— Паче ока береги его!
Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.
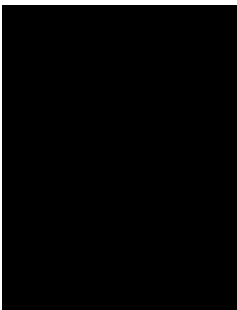 |
— Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу.
Принесши молока, Марта принялась кормить младенца. А Яким вышел на двор, нашел в сарае н о ч в ы и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-колыске, Марта, позабыв, ч-fo было воскресенье, достала тонкого полотна из б о д н и, принялася кроить маленькие рубашки.
Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что они видели на могиле какую-то молодицу. «Сначала она пела какую- то песню, а потом заплакала, а когда мы перекрестилися, то она исчезла. Должно быть нечистая сила, и в могилу провалилася», — так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.
На другой день до восхода солнца Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена и покрыл его килы- мом, сел в бричку и поехал в село Бурта за отцом Нилом.
Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору.
Он посмотрел на нее, остановил кони и громко сказал:
— День добрый, молодыце!
— Спасыби, — отвечала женщина.
— Что ты тут делаешь, молодыце?
— Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.
— Ну, добре, оставайся здорова.
— Спасыби.
Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшком через поле.
К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом дияконом. Отдохнувши немного под хатою и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком, потом с отцом дияконом совершил обряд святого крещения. Воспре- емниками были Яким и счастливая Марта.
До самой субботы гостил отец Нил и диякон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много людей набралося на Марковы крестины.
Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только, что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных крыныць волы поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, — просто волосы дыбом станут, когда послушаешь.
Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.
 |
Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.
На могиле близ хутора каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодыцю, и начали поговаривать, что это что- нибудь не просто. А оно было очень просто: бедная эта молодица была не кто иной, как простая покрытка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, где выростало ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные в рову, или по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалася к самим воротам, чтобы услышать хотя бы один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалася взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, без него хлеб не елся, вода не пилася, солнце божие не светило и не грело.
После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства уничиженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти.
А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужою грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя.
Любовь матери превозмогла и страх, и стыд. Она решилася во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидала только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.
В воскресенье, пообедавши и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из псалтыря «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие». А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго задумавшись и, вздохнувши, сказала:
— А что я думаю, Якиме?
— А бог те. бя знает, что ты там думаешь?
— Я думаю, прости меня господи, что если наш Марочко, боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем?
— Я так и думал! Ну, ни грех ли тебе такое все скверное в голову забирать!
— Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.
— Молися богу, Марто, бог милосердный не попустит такого великого несчастия.
— Еще я думаю, Якиме, коли, даст бог, доживем до покро- вы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.
— Поедем, это дело христианское.
— А там я думаю заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймичка, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймички мало.
— Что ж! Что нужно, я от того не прочь.
— Да если б бог дал, чтобы и хозяйство таки знала, тогда я бы себе нянчилася с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.
Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова «Не ревнуй лукавнующим».
Через несколько минут дверь осторожно отворилася, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женщина. Она робко встановилася на пороге и, поклонясь, едва проговорила:
— Боже помогай!
— Спасыби, небого! — сказал Яким. — Садиться просымо!
Она молча села на лаву у порога и молча пристально глядела
на колыску и на Марту.
Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.
— Что же ты нам скажешь хорошее, небого? — спросил ее Яким.
— Я зашла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?
— Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас теперь, дал бог, малая дытына, так я все с нею нянчуся, а хозяйство совсем заброшено.
— Так я бы у вас найнялася.
— Наймысь, наймысь, голубочко, у нас тебе худа не будет.
— А издалека ли ты, небого?
— Из-под Ромен, дядюшка.
— Добре, а что же ты возьмешь платы за год?
— А что вы платите другим, то и мне дайте.
— Добре! Мы платымо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.
— Добре, и я так наймуся.
— Добре! Дай вже нам, Марто, чого-нибудь пополудновать.
Марта, уходя, сказала Якиму:
— Посмотри на Марочка. Ежели оно проснется, то поколыши его.
Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.
Марта прибавила из-за дверей:
— Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуся.
— Разносилась со своими панскими руками, — проворчал Яким и ласково прибавил: — Садись, небого, на ослон, поближе к столу.
— Спасыби вам. — И наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменилася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек.
Яким заметил это и спросил:
— Что, небого, може, и у тебе дытына е?
— Было, да господь себе взял.
— Так, так. Значить, ты, небого, вдова?
— Ни, московка… — проговорила сквозь слезы наймичка.
— Так, так… А как тебе зовуть, небого?
— Лукия…
В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:
Бедная Лукия! Потому что это была она — та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! чем отдалися в твоем сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.
Марта возвратилася с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.
— Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебя с своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя пташечко! Я тоби м о з ю ч о к дам! — И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилась к Якиму: — Чему же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблок или дуль, то сам сходи в лех. Та заодно наточи и грушевого квасу. А я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!
Яким, помолясь богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил как бы сам с собою:
— Видишь, какая на свете правда. Отдать бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру. Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.
— Разве Лукия московка? — спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.
— Московка, — ответил Яким, не подымая головы.
— Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяныця, ледащо було?
— Ледащо! — ответила Лукия.
Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:
— Так туда ж ему и дорога.
— И я так думаю, Лукие! — сказала Марта. — Боже, сохрани и заступи, пресвятая дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа. Мы вот с Я кимом, благодаря богу, часточку прожили-таки на свете; правда… ну, да смолоду чего иногда не случается…
— Ну, завела теперь свои гусла… — сказал Яким полушутя, полусурово. — Да вашу сестру если б не попомять хорошенько, то и добра не видать.
— Ну, да вы хороши. Негде правды спрятать… Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул. — Она бережно закрыла его чистою простынкой и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши: — Годуйся, Лукие! Ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился никчеменный.
И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукою.
Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:
— Ты бы, Лукие, пошла в другую хату та отдохнула с дороги. Теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.
— Спасыби вам. Я не очень устала. — А ей, бедной, весьма нужен был покой или по крайней мере уединение.
— Ну, где же таки не устала! Ведь, шутка сказать, — от Липового до нас будет, я думаю, верст сорок. Как ты думаешь, Якиме?
— Сорок будет, — ответил Яким.
— Яв Ромне переночувала.
— Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодыть, — сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.
— То я пойду и одпочину немного, — сказала Лукия, отступая к порогу.
— Постой же, я тоби покажу хату, — сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.
— Ляж отут на полу или на лави та отдохни немного, Лукие.
— Спасыби вам, — сказала Лукия.
А Марта вышла из хаты, притворивши за собою двери.
Лукия, оставшися одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыв лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его, люди добрые!
— Господи! — она проговорила. — Благодарю тебя, святая матерь божия! Благодарю тебя, святая заступнице! Благодарю тебя, моя единая утешительнице! — И она снова залилась слезами. Приходя в себя, она ходила по хате, тихо плакала, ломая свои исхудалые загорелые руки.
— А как ты думаешь, Марто? — сказал Яким своей жене, оставшись одни в светлице. — Я думаю, что наша новобранка честного, хорошего роду дочка.
— И я думаю, Якиме, — сказала Марта, вытирая миску, — что она честного роду. Худого человека сразу угадаешь. Та видишь, она такая сумная. А може, это так, с дороги.
— Ни, не с дороги, я думаю, а она бесталанная и сама знает свое бесталанье. Когда ты выходила за полуднем, то она взглянула на Марочка и заплакала. Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» А она мне и говорит: «И у меня было дитя, та бог прибрал». Так вот оно что.
— Бедная! Ей только и радости, что дитя оставалося на свете, и того бог лишил. А не говорила, хлопчик чи дивчина?
— Хлопчик, — сказал Яким и задумался.
Марта, поставивши миску в м и с н ы к, села на лаве и тоже пригорюнилась. Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила у Якима:
— А как ты думаешь, Якиме, отдавать ли нам Марочка в школу или нет?
— Розумная голово! Подумала ли ты, что говоришь? Теля еще бог знает где, а ты уже и довбню готовиш ь, — сказал Яким почти сердито.
— Ну, вот уж и рассердился — я так только сказала.
— То-то вы все так говорите, цокотухи, а того не подумаешь, что еще бог пошлет завтра. Школа, школа — вещь, коли ты хочешь знать, не малая. Вот, например, у Таранухи учили, учили сына, а вышло что? Пьяныця и любостяжатель.
— Ну, ты уже когда рассердишься, то с тобою и рады нету! — сказала Марта, вставая со скамьи. — У тебя и спросить ничего нельзя. Ну, коли не хочешь отдавать в школу, то сам учи.
— Я-то буду учить его письма, сколько сам, грешный, разумею. А вот чтобы ты его сначала научила!
— А я его чему научу? Нехай соби здоров росте та счастливый буде. Мое дело женское, чему я его научу?
— Чему? Тому, чего ты и сама не знаешь: всему доброму! Вот что! Ты теперь у него мать, так учи его, когда он, даст бог, заговорит, молиться богу. А я, посмотревши, как он будет молиться, и письма святого выучу. И псалтырь ему свою святую, умираючи, передам.
— Насилу договорил до краю! Цыть! Цыть! Мое серденько!
В это время проснулся Марко. Марта подбежала к колыске
и, убаюкивая Марка, бессознательно запела:
И, взявши на руки малютку, ходила, приговаривая:
— Вот если бы лето, то в садок бы пошли, зашли бы в пасику. А там сидит старый дид. У! какой страшный! Вон он! Вон он! Посмотри, какой страшный! — И она показала на Якима, сидящего за столом. Яким молча улыбнулся.
Знаешь ли ты, видишь ли ты, бесталанница, свое родное счастливое дитя?
Видит и знает. Она, не прислушиваясь, слышала каждый звук, произнесенный старою Мартою и старым Якимом. Она в глубине души своей прозревала будущее своего дитяти. И от полноты сердечной радости благодарила всемилосердного бога за ниспосланное ей счастие!
Следующий и последующие дни текли на хуторе обыкновенным чередом. Новая наймичка вскоре освоилась со всею челядью и всем полюбилася. Она ко всем равно была внимательна И ласкова равно со всеми. Хозяйка и хозяин были ею особенно довольны, особенно за любовь ее к маленькому Марку. И действительно, он ни засыпал, ни просыпался без нее. Она всегда находила предлог присутствовать при его колыбели. Приносила ему пеленки теплые, чистые такие, что хоть бы и панычу какому, так не в стыд. Она как бы чуяла его пробуждение, и к этому времени всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. Старая Марта не могла надивиться усердию и заботливости своей новой наймички.
Еще прошел месяц, и Лукия, к немалой обиде старшей наймички, овладела всем домом. Сама хозяйка уступала ей все хлопоты и распоряжения по хозяйству, а наконец и ключи от комор и леху отдала ей. Себе только оставила ключ от скрыни. И то потому, что, ей казалось, неприлично хозяйке не иметь ключа.
Сам старый Яким, на что уже человек сурьезный и несловоохотливый на похвалу кому бы то ни было, и тот, бывало, наедине с Мартою иной раз не утерпит, скажет:
— Что за благодать нам господь послал в этой Лукии!
— Я и сама, встаючи и ложася, молюся богу за благодать его святую. Ты посмотри только, Якиме. Где она не поворотится, что ни сделает, только смотри та любуйся, а уж до Марочка какая щирая, так я и не надивлюся. Хоть бы и прошедшую ночь. Марочко проснулся, и заплакало, бедное. Я сплю себе как убитая, а она — й бог ее знает, как она услышала из другой хаты. Когда я проснулася, то она ему уже рожок с молоком подавала. Да еще и мне же говорит: «Не турбуйтеся, я и сама его присплю». Спасыби ей, такая добрая та щирая. И вот уже который месяц она у нас, а хоть бы раз тебе в село сходила. Я как-то ей раз в воскресенье говорю: «Да ты бы, Лукие, хоть до церкви в село сходила». — «И дома, — говорит, — можно помолиться богу, лишь бы усердие было». Такая, право, щирая та усердная, дай ей бог здоровье. Я просто паную за ее плечами.
— Да, и такое добро бог посылает какому-нибудь ледачому человеку.
— И не говори, Якиме. Я иногда смотрю на нее та аж заплачу. Чему бы тебе, милосердный боже, не послать ей талану та радости в сей жизни! Хоть бы когда-нибудь тебе усмехнулась или пожартовала, разве только с Марочком. А то всегда такая смутная та невеселая.
Подобные разговоры часто повторялися между хозяевами. Дивилися ее постоянной задумчивости, но им, простодушным, и в голову не приходила настоящая причина ее. Они видели достаточную причину быть московкою, чтобы быть бесталанною. О роду и племени ее они как бы боялися с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастии.
Поклон вам, грубые, простые люди! Вы бы своими расспросами заставляли ее врать и, значит, вдвойне страдать, потому что она не рождена была выдумывать небывалые исповеди своего сердца. Она была простое, натуральное, умное и прекрасное дитя природы. Она полюбила всей чистотою своего сердца уланского офицера за красоту его и ласковы речи. И когда он, ею наигравшися, бросил, как ребенок игрушку, то она, неразумная, только заплакала и долго, и до сих пор не может себе растолковать, как может человек божиться и после соврать. Для ее простой, девственной души это было не- удобовразумимо. А между людьми более или менее цивилизованными это вещь самая простая. Это все равно, что взять и не отдать.
На рождественских святках хозяева поехали в село навестить своих знакомых, в том числе и отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. Она осталася одна в доме. Челядь тоже отправилась в село на музыки, окроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал в загороде с волами.
Ее счастье было полное: она была одна, одна с своим счастливым сыном.
Первое, что она сделала, проводивши хозяев и затворивши за ними ворота, — осмотрела внимательно весь двор, вошла в хату и засунула засов двери. Марко в это время спал. Она подошла к его колыбели, открыла простынку и смотрела на него, пока он проснулся.
Потом взяла ребенка на руки и нежно, глубоко нежно поцеловала. Ребенок, как бы чувствуя поцелуй родной матери, обвил ее сухую шею своими пухлыми ручонками. Потом она одной рукой сняла со скрыни килым и разостлала его на полу, посадила на килым Марка и, отойдя шага на два от него, плакала и улыбалася на свое прекрасное дитя; потом села на ковер и взяла на руки Марка, нежно прижимая к груди своей.
О, как она в этот миг была прекрасна, как счастлива, какая чудная, торжественная радость была разлита во всем существе ее!
Что, если бы мог в это мгновение взглянуть на нее ее обольститель? Он бы пал перед нею на колени и помолился, как перед святою.
Нет, его очерствелой, грязной душе недоступно подобное чувство.
Долго она играла с ним, подымала его выше головы своей, ставила на пол, опять подымала и опять ставила, разговаривала с ним, смеялася, целовала его, плакала и опять смеялася. Словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, пела ему песни, сказывала сказки, называла его всеми уменьшительными сердечными именами, и дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. И какое оно прекрасное было! Карие большие глазенки блестели, как алмазы, и в них много было сходства с глазами его прекрасной матери. Их оттеняли черные длинные ресницы, что и придавало им какое-то недетское выражение.
Лукия и не заметила, как наступил вечер. Что ей делать? Нужно вечерять варить, а Марко и не думает о колыске, разыгрался так, что его и до ночи не уложишь. Хоть бы скорее кто из села пришел, а то приедут хозяева, что они скажут? Подумают, что она проспала весь день и весь вечер.
Ворота заскрипели, и на двор въехали хозяева. Она отворила им двери, жалуясь на Марка, что не дает ей печи затопить.
— Что же он делает? Все плачет? — спросила Марта.
— Какое плачет! Целый день хоть бы скривился. Все пустує.
— Ах ты, волоцюго, волоцюго! — сказала она, подходя к Марку. — Да ты ему еще и килым постлала.
— Не лежит в колыске — все просится на руки.
— Ах ты, непосидящий. Постой, вот я тебе дам! — И снявши кожух и свиту, она взяла его на руки и сунула ему в ручонки позолоченный медянык, гостинец отца Нила.
Лукия принялася затоплять печь. А через несколько минут вошел и Яким в хату, обивая арапником снежную пыль с сму- шевой новой шапки.
— Добрывечир! — сказал он, войдя в хату.
— Добрывечир! — отвечала Лукия.
— От мы, благодарить бога, и додому вернулися, — сказал он, крестяся. — А что наш хозяин дома поделывает? Плачет, я думаю, для праздника.
— Где там тебе плачет! Целый день покою не дал бедной Лукии. Пустує, и цилый день пустує.
— Ах ты, гайдамака! Смотри, как он обеими ручищами медянык загарбав! — И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил как бы сам с собою: — Горе мне с этой матушкою Якилыною. На дорогу-таки та й на дорогу. Вот тебе и надорожился. А тут еще и дьяконица, и тытарша с своею слывянкою. Ну, что ты с ними будешь делать? Сбили с пантылыку, окаянные, та й годи! Лукие, покинь ты свою печь к недоброму! Иди-ка сюда.
— А что ж вы будете вечерять, когда я печь покину? — обратясь к нему с рогачом в руках и усмехаясь, сказала Лукия.
— Не хочу я вечерять сегодни, та и завтра не хочу вече- рять, и послезавтра. Та и стара моя тоже вечерять не хоче. Правда, Марто?
— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый, то думает, что и все сыты, а Лукия, может быть, целый день, бедная, ничего не ела.
— Ну! ну! И пошла уже. С тобою и пожартувать нельзя.
— Хорошие жарты выдумал.
— Та ну вас, варить хоть три вечери разом, а я добре знаю, что не буду вечерять.
— Ото завгорыть! Нам больше останется.
— Пускай вам остается, — сказал Яким, садяся за стол. — А засвети, Лукие, свечку.
Лукия засветила свечу и поставила на стол. Яким, развязывая узел, запел тихонько:
— Лукие! Брось ты там свою печь, — сказал он, развертывая большой красный платок. — Возьмы соби, дочко моя, бесталан- ныце, возьми та носи на здоровья! А вот и на очипок. А вот на юпку и на спидныцю. Возьмы, возьмы, дочко моя, та носы на здоровья. Ходы ты у нас не так, як сырота, а ходы ты у нас так, як роменская мещанка, как нашого головы дочка. Это поносыш — другого накуплю. Потому что ты у нас не наймычка, а хозяйка. Мы с старою за твоими плечами як у бога за дверьми живемо.
— Возьмы! Возьмы, Лукие! — прибавила Марта. — Возьмы! Это мы для тебя у московских крамарей купили.
— Да на что же вы покупали такое добро? — сказала Лукия. — Зачем было напрасно только деньги тратить!
— Не твои, дочко, гроши — божи, бог дал, бог и возьмет. — И он передал ей гостинцы.
Лукия, принимая подарки, кланялась и сквозь слезы говорила:
— Благодарю! Благодарю вас, мои родные, мои благодетели.
— Вот так лучше! — говорил весело Яким. — Ты нам уже, Лукия, послужи на старости, а мы, даст бог, понемногу с тобой рассчитаемся. Ты видишь, мы все люди старые, бог
знает, что завтра будет. А у нас, ты видишь, дытына малая, одинокая. Ну, боже сохрани, моей старой не стане, куда оно денется!
— Перекрестися! Что ты там, как сыч на комори, вищуешь!
— А что ж, все в руце божей.
Марта, укладывая Марка в колыбель, тихо проговорила:
— Не слухай его, Марку, это он от тытаревой сливянки.
— Что?.. — сказал протяжно Яким. — Как дам я тебе сливянку, так ты меня будешь знать!
— Вот уже нельзя и слова сказать.
— Нельзя.
И в хате воцарилась тишина. Только Марта шепотом напевала колыбельную песенку, изредка поглядывая на сердитого Якима. Вскоре собралися все домочадцы. Вечеря была готова. Уселися все за стол в противоположной хате, кроме Якима, повечеряли и положилися спать. Через минуту на хуторе все спало.
Не спал только старый Яким. Он сидел в светлице за столом, склонив свою серую голову на мощные жилистые руки.
Долго он сидел молча, потом запел едва внятно:
Окончивши песню, он заговорил сам с собою:
— Пойду! Непременно пойду чумаковать! Да и в самом деле, что я дома высижу с этими бабами! Кроме греха, ничего. То ли дело в дорози? Товарыство. Степ, могилы. Города, а в городах храмы божии. Базары, купечество! Подходит к тебе бородач пузатый. «Почем, — говорит, — чумаче, рыба? или соль?» — «По тому и по тому, господа купець». — «А меньше не можна, братець-чумак?» — «Ни, — говоришь, — господа купець!» — «Ну когда нельзя, так быть по сему».
Эх, чумацтво! чумацтво! Когда-то я тебя забуду? Нет, кончено, иду чумакувать, только дай бог дождать лета, а то я отут с бабами совсем прокисну.
И, вставши из-за стола, он долго еще ходил по хате, потом остановился перед образами, помолился богу, достал псалтырь и прочитал псалом «Господь просвещение мое, кого убоюся». Потом начал сапоги снимать, приговаривая:
— От бесталанье, некому и сапоги снять!
Снявши сапоги, он погасил свечу и лег спать, читая наизусть молитву «Да воскреснет бог».
Однообразно прошла зима на хуторе. Настал великий пост, отговелися, и пост проводили, и велыкодня святого дождали. На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия с своим сыном наедине повторила ту же самую сцену, что и на рождественском празднике, с тою разницею, что она теперь надела в первый раз новую юпку, сподныцу и на голову повязала шелковый платок. Все это подарки, как уже известно, старого Якима.
Да еще после полудня на хутор зашел венгерец с разными кроплями и постучал в окошко, чем немало напугал увлеченную разговором с сыном Лукию. Она вскоре оправилась, отворила засов и впустила венгерца в хату.
Венгерец, как известно, был в шляпе с широкими полями и сферической тульей, в широком синем плаще, с коробкою за плечами, с палкою длинною в руке и с длинными усами.
Лукия пригласила его сесть на лаву, что он исполнил нецеремонно, сначала снявши коробку с плечей. А Лукия тем временем уложила своего Марущечка в колыбель и прикрыла простынею, бояся недоброго глаза. Потом обратилась к венгерцу и спросила:
— Какие же у вас лекарства есть?
— Лекарства? О, у меня всякие, разные есть кропли: и на зубы, и на голова, и на рука, и на нога — всякие, всякие кропли есть. Только, хорош фрау, деньга будешь не жалеть? — сказал венгерец, довольно нахально улыбаясь.
— Ну, хорошо, а есть ли у тебя такое лекарство, чтобы от всяких болезней ребенку помогало?
— О, как же! От разной болезни есть, разное, всякие кропли есть.
И он раскрыл свою коробку, показывая ей пузырек за пузырьком с разноцветною жидкостию.
— Вот эта от зуба, эта — голова, эта — лихорадка, эта — рука, эта — нога, эта — брушка немножко.
— А нет ли у тебя семибратней крови? Она одна ото всех болезней помогает.
— Есть, есть, зараз ищу!
И он вскоре достал из коробочки завернутую в бумажке семибратнюю кровь. Это небольшие кусочки чего-то окаменелого, вроде мелкого ракушника, темно-розового цвета. А почему оно называется семибратней кровью, то этого и сами венгерцы не знают.
— Что же будет стоить этот кусочек?
— Этот два рубля и одна полтина.
— А боже ж мой, что же мне делать? У меня только три копы.
— Только один рубдя и одна полтин. Нельзя, немножко мало. Разве еще, хорошай фрау, румочка шнапс, понимаешь — водка, и немножко кушать.
— Хорошо, и водки дам, и кушать дам, только уступи мне, ради бога, за три копы.
— Хорошо, хорошо, отдаю. — И он подал ей кусочек волшебного медикамента.
Она взяла его с благоговением, завернула в хустку и спрятала за образ. Достала медные деньги из сундучка, расплатилася с венгерцем и посадила его за стол, достала из мисныка восьмиугольную размалеванную пляшку с водкой и поставила перед ним. Поставила пасху, холодное порося и пирожки с сыром и со сметаной. Уставивши все это порядком, положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заполочью, на колена и отошла к колыбели.
Венгерец, хотя просил немножко шнапсу, однако выпил две рюмки залпом, а третью — после первого куска поросенка. Окончивши все, что было на стол поставлено, он вежливо раскланялся с Лукией, потом попросил огня, закурил свою фарфоровую трубку с кривым чубуком и начал собираться в дорогу. Взваливши коробку на спину, плащ на плечи, палку в руки, шляпу на голову, он еще раз раскланялся с Лукией и вышел из хаты.
Лукия, проводивши венгра за ворота, возвратилася в хату, подошла к колыбели, открыла простыню, и, увидевши, что Марко спит, перекрестила его и едва коснулася губами его разгоревшейся щечки, бояся поцелуем разбудить его.
— Теперь я, слава богу, спокойна, — говорила она про себя. — Теперь я хорошо знаю, что мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лечение от всяких немочей. А про счастье его я уже не сомневаюсь. Я вымолю у бога ему и век долгий, и долю добрую. Сказать ли ему когда-нибудь, что я его родная мать? Или никогда не говорить? — И она задумалась. — Нет, не скажу, никогда не скажу. Разве перед смертию на исповеди попу покаюся, а то никому в свете не скажу.
И, говоря это, она убрала со стола после трапезы венгра, подошла к колыбели, посмотрела на сына, стала на колени перед образами и молилася со слезами о жизни и счастии возлюбленного сына.
Солнце уже закаталося. Домочадцы с песнями возвратилися домой. Наконец ворота растворилися, и сами хозяева возвратилися домой.
— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили, — говорила
Марта, входя в хату, — и я у него купила семибратней крови для нашего Марочка. Бог его знает, а може, что и случится, так вот у нас и лекарство есть. Что, он спит? — сказала она, понизив голос.
— Спит, — отвечала тихо Лукия. — И здесь венгер был, и я тоже купила семибратней крови.
Так припевал веселый Яким, входя в хату.
— Цыть!.. Пьяный лобуре! — проговорила шепотом Марта, показывая на колыбель.
Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку и начал креститься перед образами, потом молча разделся и лег на постель.
— Ай да отець Нил, а бодай же ёго…
— Цыть… — прошипела Марта.
Яким замолчал, опустя голову на подушку, и вскоре заснул. Не замедлило и все живущее на хуторе последовать примеру Якима.
…Весна быстро развивала зеленые ветви в Якимовом гаи. Черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрилися молочным белым цветом, а земля разноцветным рястом. Началися полевые работы. Яким выпроводил с пшеницею чумаков своих в дорогу, но сам не пошел чумаковать: боялся положить где-нибудь свои старые кости на чужине, в степи при дороге, как это нередко случается с записными чумаками.
Проводивши чумаков, он усердно и смиренно принялся за свою пасику, говоря:
— Где мне уже теперь по дорогам шляться та с купцами торговаться! Вот мое дело: вертоград та пчелки божии. Нехай молодые чумакуют.
И он почти поселился в пасике. Раз в день заходил он в хату, и то только пообедать. Когда в пасике все было уставлено и убрано как следует, а пчелы еще не роилися, то он раскроет себе псалтырь и читает вслух с утра до ночи, от доски до доски, а когда язык устанет, то он доделывает новый улей, еще прошедшее лето начатый, или починивает старую серую свиту.
Иногда приходила к нему в пасику старая Марта с Марком, и это был для него торжественный праздник. Вынималася часть меду из лучшего улья и со всеми ласками угощался дорогой гость, т. е. Марко.
С наступлением весны Лукия с другою работницею неутомимо приготовляла гряды на огороде за гаем. И когда гряды были готовы и огородные овощи посеяны и посажены, она вскопала две грядки в гаи между деревьями, посадила цветов и каждый вечер поливала.
Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка, ей одной известный.
В тот памятный день она до рассвета пошла в свой цветник, нарвала самых лучших цветов, свила из них венок и, тихо вошедши в хату, так что и Марта не слыхала, положила венок на голову спящему Марку. Дитя от прикосновения свежих и влажных цветов проснулося и заплакало. Марта проснулася и увидела над колыбелью испуганную Лукию.
— На что ты его разбудила? — спросила Марта.
— Я не будила, оно само проснулося, я только венок ему принесла, потому что оно сегодня… — И она чуть-чуть не проговорилась.
— На что ему твой венок? Только ребенка перепугала.
Возьми его, повесь перед Варварою-великомученицею.
Лукия молча взяла венок и повесила перед образом.
В тот день был какой-то большой церковный праздник. Она позычила рубль денег у другой наймички и отпросилась у Марты в первый раз в село сходить, оделася в свою юпку, сподницу, повязала на голову шелковый платок, посмотрела в зеркальце, в стене вмазанное, и покраснела от удовольствия. И правду сказать, несмотря на пролитые ею слезы и претерпенное горе, сердечное и физическое, она все еще была красавица. Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу праздника Лукию. Простяся с Марком и Мартою, она пошла в село.
Еще и во все звоны не звонили, когда она вошла в церковь. В церкви уже народу было довольно, и все до единого заметили незнакомую молодицу. Девушки и женщины шепотом спрашивали одна у другой: «Чия это такая хорошая молодыця?..» Она же, не обращая ни на кого внимания, поставила перед местными образами по свечечке и подала на часточку о здравии младенца Марка.
После обедни она заказала молебен о здравии рабов божих Якима, Марты и младенца Марка. После обедни отец Нил вручил ей просфирку и просил зайти к нему пообедать.
Она зашла. Матушка Якилына привитала ее, как свою родственницу, много расспрашивала о хуторянах, в особенности о Марке: здоров ли он, большой ли он вырос, вырезались ли у него зубки? и т. д.
После обеда Лукия простилася с отцом Нилом и матушкой Якилыною, пошла на хутор.
В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками, но никто не доведался, откуда она и кто такая.
Возвратяся на хутор, она отдала поклоны от батюшки и от матушки старой Марте и Якиму, положила просфирку за образ до завтрашнего дня, полюбовалася на спящего Марка, сняла с себя праздничную одежу. Затопила печь в другой хате и при- нялася варить вечерю.
Так прошел первый год пребывания Лукии на хуторе, так или почти так прошел и второй год без особенных приключений, разве только, что Марко начал произносить довольно явственно слово «мама». И, боже мой, сколько общей радости было! Его, бедного, как попугая, попеременно заставляли повторять магическое слово. По прошествии недели или двух старый Яким добился до того, что Марко начал выговаривать слово «тато». Старый Яким был в детском восторге. Он уже хотел его начать грамоте учить, только, к великому его горю, оказалося, что Марко не мог выговаривать ни одной буквы. А Марта каждый день ему мылила серую голову за то, что он понапрасно мучит бедную дытыну.
Еще в конце того же года, как-то в воскресенье, после обеда, сидели они все трое под хатою и пробовали красно- бокие спасовские яблоки, а Марко перед ними ползал на шпо- рыше. Только они себе, пробуя яблоки, заслушалися Якима, а он им рассказывал уже в сотый раз, как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и л у ш н ю потерял. Они заслушались и не видят, что Марочко, вставши на ножки, и дыбает к ним, протянувши ручки и улыбаясь, произнося слова: «мамо», «тату». Какая же радость их была, когда они увидели идущего к ним Марка!
Лукия затрепетала от восторга и бросилась к своему Марочку, взяла его за ручонку и подвела к внезапно осчастливленным старикам.
Тут они принялися поочередно водить его около хаты и доводили до того, что Марко заплакал и сквозь слезы проговорил:
— Мама кака.
Старый Яким в восторг пришел от Маркового изречения.
— Так их, так, сыну, — говорил он, — ишь, старые бабы, замучили бедную дытыну.
Хотя он первый неутомимо мучил его первым уроком хождения. Да в этом же году осенью, по первой пороше, охотники, гонялся за зайцем, подскакали к самому хутору, и так как бедный заяц спрятался от собак на хуторе в гае, то неистовые псари решилися не оставлять бедного зверька и в гостеприимном хуторе.
На этом основании они, подъехавши к воротам, стали громко требовать, чтобы им отворили ворота.
Накинувши тулуп, вышел к ним сам Яким и спросил, снявши шапку, что им нужно.
— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол!
Яким надел шапку и, не говоря ни слова, пошел обратно в хату.
— Что там такое за воротами? — спросила его Марта.
— Татары подступили, — отвечал он спокойно.
Ворота, кроме засова, были замкнуты еще тяжелым шведским замком. Охотники, полагать надо, что были немного на- моча морду (термин из их же словаря). Спешились и начали ломать ворота; но труд был не по силам и только привел их в пущее бешенство. Яким вышел во второй раз, а за ним не утерпела, вышла Марта и Лукия. Один из охотников вскочил на двор через перелаз и бежал с поднятым арапником к Якиму. Но вдруг остановился как вкопанный и арапник опустил.
Это был красивый, стройный юноша с едва пробившимися усами.
Это был бездушный обольститель бедной Лукии. Он увидел ее и руки опустил в изумлении. Когда же пришел в себя, то вежливо сказал Якиму:
— Ну, добрый старичок, когда не хочешь нас пустить на свой хутор поохотиться, то пусти, пожалуйста, в свою избу немного обогреться.
— Милости просимо, — сказал Яким приветливо.
— Пожалуйте на двор, господа! — крикнул он своим товарищам.
Лукия узнала его по голосу, быстро воротилась в светлицу, взяла спящего Марка из колыски и вынесла в другую хату.
— Что ты делаешь? — спросила ее Марта.
— Они пьяные войдут в светлицу и разбудят его, бедного.
Лукия не ошиблася: охотники вошли с шумом и огромной
оплетенной бутылью в хату. Спросили довольно нахально закуски, уселися за столом и принялися мочить морды. Молодой корнет выпил только два стакана и больше не хотел пить. Он вопросительно осматривал хату и наконец спросил у Марты:
— Почтенная старушка, я с тобой на дворе видел еще одну женщину; кто она у вас такая?
— Это Лукия, наша наймичка.
— Так это колыбель, должно быть, ее ребенка?
— Нет, это наша дытына!
— Куда же спряталась твоя работница? Ведь мы не звери, чего она испугалась! — Так спрашивал чернобровый, со вздернутым фиолетовым носом и длинными усами охотник. Это был эскадронный командир уланского полка.
— Она в другой хате порается.
— Нельзя ли, голубушка, взглянуть на твою работницу? Она, кажется, недурна собою, — сказал тот же ротмистр, покручивая усы.
— Такая же, как и другие люди. Да ей теперь и некогда, — отвечала Марта.
— Закуримте трубки, господа, да марш! Я думаю, кони порядочно продрогли. Старушка, одолжи-ка нам огонька.
Марта зажгла им свечу. Охотники закурили разнокалиберные трубки, вышли из хаты. За ворота проводил их Яким и, пожелав им счастливого полюванья, возвратился в хату.
Лукия, по уходе непрошеных гостей, тоже вошла с плачущим Марком, уложила его в люльку, окутала и стала качать, тихонько напевая какую-то песню. Марко замолчал и вскоре заснул.
Яким долго молча сидел за столом, облокотясь на руки, и наконец едва внятно заговорил:
— Бог его святый знает, когда эти уланы от нас уйдут? Прогневали мы милостивого господа; вот уже четвертый год стоят да и стоят. Как будто навеки тут поселились. И что тот дурень турок думает, хоть бы войну скорее начал. А там бы, может, бог дал бы, и улан от нас вывели на войну. А то даром только хлеб едят, благо дешевый. Ну, да хлеб бы еще ничего, у нас его, слава богу, немало. А то грех, да и только, с ними! Теперь хоть бы и наши Бурта — велико ли село? А люди добрые говорят, что уже третью покрытку покрыли.
Лукия вздрогнула.
— Да, третью покрытку! Шутка ли? Каково же отцу и матери бесталанной? А им, горемычным? Пропащие, пропащие навеки!
Лукия тихо заплакала.
— Плачь, моя доню! Плачь! Ты еще, слава богу, хоть московка, все-таки не покрытка. У тебя еще осталася хоть добрая слава! А у них, бедных, что осталося? Позор, и до гроба позор!
В продолжение всего этого монолога Марта сидела на скрыне, подперши старую голову руками. Потом и она заговорила:
— Так, Якиме, так. Вечная наруга. Вечное проклятие на земли. А на том свете что? Огонь неугасимый! Сказано — блудница!
— Ото-то и есть, что ты глупая баба, стоишь в церкви, а не слышишь, что отец диякон в евангелии читає!
— А что ж он там читає?
— А то, что господь прощает всех раскаявшихся грешников, даже и блудницу.
— Правда! Правда, Якиме! А вот и Мария Египетская… как ты читаешь в житии…
— Вот то-то и есть, а преподобалась же? Не плачь, дочко Лукие. Тебе нечего плакать. Ты мужнина жена, пускай плачут да молятся вот те бесталанницы. А уж ты и без мужа найдешь кусок честного хлеба… Айв самом деле, давайте пообедаем, а то за тымы уланамы и пообедать не удастся.
Лукия молча накрыла стол чистой скатертью, поставила солонку и положила хлеб и нож на стол. Яким, перекрестясь, начал резать хлеб на тонкие куски, сначала сделав ножом крест на хлебе. Богу помоляся, села за стол Марта, а Лукия стала наливать борщ в миску.
Заяц, на беду свою, выскочил из хутора в поле в то самое время, как Яким затворял калитку и желал охотникам доброго полюванья. Охотники, увидя косого врага своего, закричали: «Ату его!» — и помчалися вслед за борзыми. Только снежная пыль поднялася.
Один охотник, проскакав немного, отстал от товарищей, остановил коня, постоял недолго, как бы раздумывая о чем-то, потом махнул нагайкой и поворотил коня по направлению к Ромодановому шляху.
Охотник этот был молодой корнет, которого мы видели в хате пьющего водку стаканом. Но это в сторону: можно и водку пить, и честным быть. Одно другому не мешает. Молодому корнету, как кажется, вино (а может быть, и воспитание) помешало быть честным (потому что он по породе благородный).
Долго он ехал молча, как бы погрузясь в думу.
О чем же он думал, сей благородный юноша? Верно, он вспомнил прошлое, былое. Верно, он вспомнил свой проступок перед простою крестьянкою — и совесть мучит молодую и уже испорченную душу. Ничего не бывало! Он по временам говорил сам с собою вот что:
— Фу ты, черт побери, как она после родов похорошела! Просто бель фам. — Молчание. — Жаль, не видал мальчугана, а должен быть прехорошенький. Я помню его глазенки, со- вершенно как у нее. — Опять молчание. — А что, если на досуге начать снова? Далеко, черт возьми, ездить — верст тридцать по крайней мере! А чертовски похорошела! И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеются… Эка важность! Посмеются да и перестанут. — Опять молчание. — Ба! Превосходная идея! Эскадрон один в этих двух селах! Решено! Жертвую Мурзою ротмистру, пускай меня переведет в третий взвод, а он квартирует в этом селе, как бишь его — Гурта, Бурта, что ли? Браво! Превосходная мысль! Я тогда могу бывать каждый день на хуторе. Превосходно! Ну, моя чернобровая Лукеюшка, закутим! Вспомним прежнее, былое! Марш, нечего долго раздумывать!
И он пустился в галоп. Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух и опять заговорил:
— Хорошо! А как же я расстануся с братьями-разбойниками? Ведь день, другой, пожалуй, неделю, можно поесть рябчиков, а там захочется и куропатки! Впрочем я могу каждую неделю, по крайней мере, навещать свою удалую братию один раз. Оно будет и разнообразнее, и, следовательно, интереснее. Решено! Ведь в этих случаях жертва необходима! Неси меня, мой борзый конь. И он сильно ударил нагайкой по ребрам своего борзого коня.
Конь полетел быстрее и быстрее, почуя близость знакомого села. И в широкой, покрытой снегом долине показалася синяя полоса. Это было село, родное село Лукии.
Он проехал шагом царыну и легкой рысью въехал в село. Первый живой предмет, попавшийся ему на глаза, это был пьяный мужик, едва державшийся на ногах. Корнет узнал в нем отца Лукии.
— Здравствуй, почтеннейший! — сказал корнет, приостанавливая коня.
— Здравствуйте, ваше благородие, — едва проговорил мужик, снимая шапку.
— А я ведь отыскал твою Лукеюшку!
— Она теперь не моя, а ваша, ваше благородие.
И, сказавши это, нахлобучил свою порыжелую шапку на глаза и побрел, шатаясь, к своей давно уже не беленной хате.
Корнет посмотрел вслед ему и проговорил:
— Глупый мужик, а туда же рассуждает.
И, подбоченясь, поехал шагом вдоль села.
А глупый мужик, не рассуждая, пришел в свою нетопленую хату, посмотрел на голые стены и, как бы отрезвясь, снял шапку, перекрестился три раза и лег на дубовой, давно уже не мытой лаве, говоря как бы сквозь сон:
— Вот тебе и постели, старый дурню! Не умел спать на перине — теперь на лаве! под лавою! в помыйныци! на смитны- ку! в калюже с свиньями спи, стара пьяныце! О господы! Господы, твоя воля! А, кажется, такая тихая, такая смирная была! А вот же одурила, одурила мою седую голову!
И он, не подымая головы, навзрыд заплакал.
В хате было пусто, холодно, под лавами валялися разбитые горшки и растрепанный веник. От стола и ослона только остатки валяются по хате. А от другой лавы и остатков не видно, кочерги, макогона и рогача тоже не видно около печи, а в печи зола инеем покрылася. Пустка! Совершенная пустка! А недавно была веселая, белая, светлая хата. Куда же девалась скромная прелесть простой мужицкой хаты?
Посрамление своего единого дитяти, своей Лукии, не пережила престарелая мать. Она плакала, плакала, потом захворала и вскоре умерла. Старик, похоронивши свою бедную подругу, не устоял против великого горя, начал пить и в два года пропил все свое добро, уже добивался до самой хаты.
Такие-то бывают иногда последствия минутного увлечения.
Старик долго еще бормотал, полусонный, и наконец замолк. Немного погодя мышь из норки выбежала на середину хаты, повертела головкой и, вероятно, заметила спящего на лаве хозяина, повернулася назад, еще раз осмотрелася и скрылася в норку.
На хуторе дни проходили без особых приключений. Марко вырастал не по дням, а по часам. У него прорезалися зубки без особых припадков, как это бывает с другими детьми. Он стал уже ходить по хате без помощи ослона или лавы, и, целые часы глядя на его походку, любуяся, старый Яким давал ему разные названия, как-то: гайдамака, чумак, запорожец, и однажды нечаянно назвал его уланом, отчего Лукия вздрогнула, побледнела и вышла из хаты, а Марта, не замечая смущения Лукии, вскрикнула на Якима:
— Перекрестися, божевильный! Какой он у тебя улан! — И, взявши Марка на руки, целовала его, крестя и приговаривая: — Укрой и сохрани тебя матерь божия от всякой злой напасти. — И, лаская, укладывала его в люльку.
Лукия возвратилась в хату, Марко уснул, и тишина водвори- лася в хате.
Неделю спустя после описанной нами сцены, после обеда Яким по обыкновению отдыхал, Марта тоже на печи дремала, а Марко, вооружась арапником, нарочно для него сплетенным Лукиею, бегал от стола до порога и от порога до стола, размахивая своим арапником. Лукия молча любовалася своим сыном. Она с чувством тихого восторга смотрела на него и не знала предела своему счастию. Ей послышалось, что наружная дверь заскрипела. Она вздрогнула. Через минуту створилася дверь в хату и вошел в охотничьем наряде корнет.
Лукия вскрикнула, схватила Марка и выбежала из хаты. Он выбежал за нею, но не мог ее догнать. Лукия спряталася в клуне, куда он побоялся войти, потому что там были молотники.
Походивши немного по двору, он вышел за ворота и, севши на коня, поскакал в поле.
Дремавшая Марта соскочила с печи и, не видя в хате ни Марка, ни Лукии, переполошилась. За нею проснулся и Яким, и оба, не понимая, что случилося, смотрели друг на друга.
— Где Марко? — спросила Марта.
— Не знаю! — отвечал Яким.
— Кто тут кричал в хате?
— Не знаю! — отвечал Яким.
— Ты никогда ничего не знаешь! — почти крикнула Марта и вышла из хаты.
— А ты так хорошо знаешь, когда едят да тебе не дают, — сказал Яким, медленно подымаясь с постели.
Марта вошла в другую хату, и там нету ни Марка, ни Лукии. Она вышла во двор и встретила из клуни идущую перепуганную Лукию.
А Марко, бедняжка, посинел от холоду и прегромко плакал.
— Ты бога не боишься, Лукие? — кричала Марта. — Ну, как таки можно бедное дитя выносить на такой холод. Видишь, как оно, сердечное, посинело? Дай его мне. И что это тебе в голову пришло, скажи, ради матери божои?
— Я испугалася, — едва проговорила Лукия.
— Какого ты там рожна испугалася?
— У нас был в хате…
— Кто у нас был в хате?
— Улан, кажется, — шепотом проговорила Лукия.
Они вошли в хату.
— Что там такое случилося с вами? — спросил Яким.
— Лукия говорит, что у нас улан был в хате!
Яким засмеялся и спросил:
— А волка не было с уланом?
Лукия на его остроту не отвечала.
Марка кое-как успокоили. И старый Яким снова, усмехаясь, заговорил:
— Ну, скажешь, Лукие, какой это к нам улан приходил: рудый, серый и волохатый? А бодай же тебе, Лукие. От насмешила, так так!
И он простосердечно захохотал.
Лукия молча улыбалася. А Марта, качая люльку, шепотом говорила:
— Цыть! Дытыну розбудишь своим проклятым хохотом. Оно, бедное, только что глазки закрыло.
— Да как же тут не смеяться? Вовкулака, или тот, как его, улан рудый, в хату заходил.
— Та пускай себе и заходил, только ты замолчи, — сказала Марта, не переставая качать люльку.
Не проходило дня, чтобы старики не подтрунили над бедною Лукиею, и это продолжалося до тех пор, пока не посетил их корнет в другой раз.
А это случилось ровно через неделю.
Старики и Лукия тешилися Марком, как он таскал за собой повозочку, Лукиею же сделанную из редьки, и погонял сам себя нитяным арапником. И только что он прошел от стола до дверей, как дверь отворилася и в хату вошел корнет и чуть не свалил с ног чумака Марка.
Лукия бросилась к ребенку, схватила его и бросилась из хаты. Марта выбежала за нею, а корнет, снявши шапку, поздоровался с Якимом.
— Доброго здоровья, — отвечал Яким, вставая.
— Что это они у тебя такие дикие?
— Да что, добродию! Сказано — бабы. А бабы и козы — все равно, скачут, когда завидят человека. Дуры хуторяне, никакого звычаю не знают.
— А я сегодня поохотился немного да и тебя, старина, навестил, — сказал он, садясь на лаву.
— Покорно благодаримо, просимо — садитесь. Не угодно ли будет пополудновать у нас по-простому? Вы, я думаю, на своей охоте проголодались?
— Да, весьма не помешало бы. Я таки порядочно голоден. С утра ничего не ел.
— Ото-то ж! Посидите ж часть времени, а я пойду отыскать своих диких хуторянок.
И он вышел из хаты.
Корнет, оставшися наедине, прошелся раза два по хате и остановился около люльки.
— Ба! Превосходная мысль! — прошептал он и, вынув из кошелька червонец, положил под подушку в люльку, и только что уселся на прежнем месте, как вошла Марта в хату, молча поклонилася гостю, достала чистую скатерть, накрыла стол и начала молча приготовлять полдник.
Через несколько минут вошел Яким в хату, говоря:
— Хоть кол на голове теши, не хочет войти в хату, да й только!
— Кто это не идет в хату? — спросил охотник.
— Да наша наймичка, такая глупая, как будто людей отродяся не видала.
— А не йдет, так и пускай себе не йдет, — сказала Марта, — мы и без нее управимся.
Приготовивши все для полдника, она вышла из хаты.
— Прошу вашои милости, садитеся за стол та полуднуйте, что бог дал! — сказал Яким, садяся на ослоне.
— Ах да, я и забыл. Ведь у меня есть роменская кизлярка! — И он вынул из охотничьей сумы бутылку с водкой и поставил на столе.
— Не извольте трудиться, ваша честь. У нас, правда, есть и своя, да мы с старою мало употребляем, то и добрых людей иногда забываем потчевать.
И он хотел встать, но охотник удержал его:
— Постой! постой, дядя! Ведь у вас не такая, у меня ведь настоящая кизлярка. — И он вынул серебряную чарку из сумы.
— Не знаю, не случалося пивать такой. А всякие вина перепробовал на своем веку.
— Так вот попробуй, дядя, — сказал охотник, подавая старику чарку.
— Попробуем, что там за кизлярка! — сказал он, принимая чарку и крестясь. — Господы благословы!
Выпивши водку, он немного помолчал и проговорил:
— Нечего сказать, хорошая водка. А дорога?
— По цалковому бутылка.
— О, цур же ей, когда так! У нас на карбованець видро купыш.
— Купишь, да не этакой!
— Э, все одинаково, лишь бы назавтра голова болела.
И они молча принялися закусывать колбасу и холодное свиное сало, до которого, впрочем, охотник не прикасался. Невежа не знал, что холодное свиное сало лучше всякого патефруа. А впрочем, о вкусах спорить нельзя.
Охотник кстати привел поговорку, что по одной не закусывают. Потом другую, что без тройцы дом не строится. Потом еще и еще поговорку, а за поговоркой, разумеется, наливалася и выпивалася чарка, так что не прошло часа, а в бутылке уже было пусто, как у пьяницы в кармане.
Они стали говорить громче и быстрее. Охотник наговорил Якиму много любезностей, почти великосветских, и между прочим вот какую:
— А ты мне, дядя, с первого разу понравился. Помнишь?
— Помню, — отвечал Яким. — А вы мне так попросту совсем тогда не понравились. А теперь так вижу, что ты человек хороший.
— Вот то-то и есть! Ты раскуси-ка меня, дядя, так не то увидишь!
— Нет, я кусать тебя не буду, а знаёмыться милости просимо.
— Ведь я, правду тебе сказать, для тебя и в ваше село на квартиру перешел, чтобы только к тебе в гости ездить.
— Благодаримо, благодаримо! Марто! — крикнул он, вставая со скамьи. — Пряжи яешню с колбасою! Давай видро вы- стоялки. Не знаешь, старая баба, какой у нас человек сидит!
— Полно, полно, ничего не надо, дядя! Я сейчас уеду.
— Уедешь, только не сейчас, я тебе еще покажу нашего Марка.
— А кто это такой ваш Марко?
— А наша дытына. Разве ты и не знаешь, что у нас и сын есть? — И он пошел к двери, бормоча: — Вот я вам дам, вражи бабы! — И он вышел за двери.
Через минуту он внес на руках в хату плачущего Марка, а за ним вошла и Марта.
— Посмотри! посмотри! — говорил он. — Какое нам добро господь на старости послал! На, забавляй его по-своему, — и он передал Марка Марте.
— Иды, иды, гайдамака, сякий сыну такий! — И он рассказал охотнику историю успокоившегося Марка.
Охотник рассеяно выслушал рассказ Якима, сказал:
— А кто же его настоящая мать?
— А бог ее знает! Уповать надо, покрытка какая-нибудь, бесталанница!
— У тебя все покрытки! А может, и честная женщина, только бедная, — сказала Марта.
— А может, и честная. Бог ее знает. Куда же вы? — сказал он, обращаясь к охотнику. — Погостите, бога ради, вы у нас и то редко бываете. Стара! Выстоялки! Яешни!
— Благодарю тебя, дядя. Буду часто бывать, только сегодня не держи: не могу, дома есть дело.
— А коли дело, так и дело. Как волите, сами лучше знаете. А хорошо б попробовать еще нашои выстоялки.
— Нет, благодарю. В другой раз. Прощай, дядя. — И он вышел из хаты.
Яким, проводивши за ворота дорогого гостя и в сотый раз повторив просьбу не минать их хутора, возвращался в хату, бормоча про себя:
— Притча во языцех! Вот тебе и москаль! Вот тебе и улан! Да дай бог, чтоб и хрещеные люди такие рослы на божьей земле. Молодец, нечего сказать. И где он такую дорогую водку покупает? Говорит, в Ромнах. Надо будет поехать в Ромен та достать такой водки, чтоб не стыдно было, когда в другой раз заедет. Так, я думаю, не достанешь. Паны всю выпили. Ну, уж за этими панами нашему брату просто некуда деваться. А что ж, ведь и он тоже пан, хоть и московский, а человек хороший, очень хороший человек. Хоть бы и у нас таких панив наснять. А что, на Москве тоже растут паны?
И, задавши себе такой хитрый вопрос, Яким, шатаясь, вошел в хату.
Лукия, перестилая ввечеру постельку Марку, нашла под подушкою червонец и сейчас догадалась, что это было дело его нежного папаши, взяла его в руки и не знала, что с ним делать. Подумавши немного, она опустила его в пазуху и молча продолжала свое дело.
Охотник сдержал свое слово: он каждую неделю исправно два и три раза посещал хутор, только без всякого со стороны сердечной поощрения. Поил Якима кизляркою, а Яким его потчевал десятилетнею выстоялкою. Тем и кончалися его визиты. Лукия всегда убегала из хаты, когда его только завидит, а он был до того скромен или лукав, что никогда ни слова не сказал старикам про их наймичку. Как будто он ее никогда и не видал.
Любовался всегда своим Марком, как совершенно для него посторонний, привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостинцы, чем и успел приласкать к себе дитя. Так что, бывало, когда он входил в хату, то оно бежало к нему навстречу, протягивая ручонки, и кричало:
— Да-да.
В великом посту, когда старики говели и с пятницы на субботу осталися ночевать у отца Нила, чтобы не проспать заутрени, корнет перед вечером приехал на хутор. Он знал, что старики в селе и ночевать не будут дома. Оставил с денщиком своего коня, а сам прокрался, как вор, на двор и потом в хату.
Лукия в это время играла с Марком и, когда увидела его в хате, то вскрикнула и чуть ребенка из рук не уронила.
Они молча остановились друг перед другом. Марко протянул к нему ручонки и сказал свое обычное «да-да». Но «да-да» не отвечал ни слова на привет Марка. А Лукия схватила его ручонки и прижала к себе.
Долго продолжалося молчание. Наконец он заговорил:
— Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не любишь, зачем ты от меня прячешься всякий раз, когда я сюда приеду?
Лукия молчала.
— Я мучуся! Я страдаю! Я умираю без тебя, цветочек мой прекрасный, мой розан ненаглядный. Проговори хоть одно слово, хоть взгляни на меня!
Она взглянула на него, но не проговорила ни слова.
— За что я тебе вдруг немилым стал? Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты, что мы проводили с тобой.
Она опять взглянула на него, и из прекрасных ее карых очей покатилися крупные слезы.
— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.
Она плюнула ему в глаза.
— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.
Лукия с омерзением отворотилась от него, подошла к двери и, отворивши дверь, громко крикнула:
— Катре!
— Не зови никого, побудь со мною наедине, я тебе всю правду, всю истину скажу. И ежели есть у тебя хоть искра чувства, ты извинишь меня!
Между тем вошла в хату, со скалкою в руках, дюжая Катря.
— Катре, голубочко, побудь с этим паном, а я вынесу Марка в другую хату, а то он его боится и плачет.
И с этим словом она вышла из хаты. Через минуту она возвратилась, держа в руке червонец. Подошла к нежному своему обожателю и, подавая ему червонец, сказала:
— Марко и без твоих червонцев богат, возьми.
Он отодвинул ее руку. Она бросила ему червонец на пол и вышла их хаты.
Он поднял червонец, повертел его в руке, как бы раздумывая, что с ним делать.
— Вот тебе, голубушка, — сказал он Катре, подавая ей червонец. — Только ты пособи мне ее уломать.
Катря, взявши червонец, проговорила:
— Какой хорошенький дукачик! Что ж это у него дирочки нету? Как же его носить? Вот теперь если б доброе намисто.
— И монисто куплю, только ты уломай ее.
— Добре, уломаю.
И он вышел из хаты.
— За что это он ломать просил? — спросила Катря у входящей Лукии.
— Не знаю, — ответила она.
— Посмотри, какой хорошенький он мне дукачик подарил.
Лукия взглянула на червонец и не сказала ни слова. Катря
вышла, а Лукия осталася в светлице и всю ночь проплакала.
В субботу после вечерни старики возвратилися домой и не могли нахвалиться гостеприимством своего знакомого охотника. Он их после обеда от отца Нила зазвал к себе на квартиру, и чем он их не угощал? И чаем, и сахаром, и всякою всячиною, так что всего и не упомнишь. Одно только Марте не понравилось, что у него везде табак: и на столе табак, и на окнах табак, и на лаве табак — везде табак. Она думала, что у него и чай из табаку, а потому-то съела кусочек сахару, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. Еще две вещи ей сильно не понравились: это собака на постели и денщик, такой старый, оборванный, грязный, на ру- как грязи, что и вихтем не отмоешь. И еще чудно: он уже сывый, а он ругает и все кричит: «Эй, малый!» А может, это по их московскому звычаю так и следует, бог там их знает?
Посещения его продолжались по-прежнему, и по-прежнему без успеха. Он часто дарил разные безделушки дебелой и простоватой Катре. А та по простоте своей говорила ему, что Лукия каждый день и ночь за ним плачет и что даст бог ве- лыкодня дождаться, тогда можно будет просто в церковь да и «Исайя, ликуй».
Пост был в исходе. Нужно было и Лукии отговеться. Как же ей быть? Он теперь квартирует в Буртах, он не даст ей и богу помолиться, а не то что отговеться. Подумавши, она попросилась у своих хозяев навестить своего отца и заодно отговеться в своем селе.
Старики охотно согласились и предложили ей сани и лошадь. Она отказывалася, но не могла отказаться. А на говенье, кроме платы за службу, Яким дал ей карбованец.
После обеда, в воскресенье, на шестой неделе, она выехала из хутора на маленьких саночках прямо на Ромодановский шлях.
Не хотелось ей, бедной, ехать в свое село, но любовь дочери поборола в ней стыд покрытки. Она уже третий год не имела никаких сведений о свойх родных.
С трепетом въехала она в свое родное село. Подъехала к воротам своим и вскрикнула в ужасе.
Ворота были разобраны, частокол повалился, соломенная крыша на хате ветром разорвана, и черные стропила виднелися, как ребра из полуистлевшего чудовища.
Привязала лошадь к оставшейся около ворот вербе, а сама вошла в хату. Пустка, и снаружи, и внутри пустка!
— Куда же они делися, неужели умерлы? — спросила она сама себя и вышла из хаты.
У кого же она теперь приютится?
У нее давно когда-то, года три тому назад, была знакомая край села, старая московка, у которой прежде собирались ве- черныци. Она к ней и направила свою лошадку.
У этой старой московки почти на выгоне было не то, что называют хатой, а вернее, то, что у нас называют куринем, т. е. ежели смотреть издали, то это скорее похоже на кучу навозу, нежели на жилище человека. Вблизи же она была, как говорится (и говорится справедливо), живописна. И живописна до такой степени, что я, хотя и не любитель подобных живописных вещей, беруся, однако же, нарисовать — того для, чтоб показать моим почти сонным слушателям, что я не лгу, как какой-то курьер.
Ахнули в селе люди добрые, когда увидели около куреня московки клячу и едва заметные санишки.
— Откуда она взяла такое добро? — все в селе вскрикнули. — Ведь у нее давно уже вечерныци не собираются!
Пошли по селу толки — такие точно толки, как бывают в уездном городе, когда проедет по его единственной улице жандарм на тройке в чем-то.
Лукия, распрягши лошадь, привязала ее к санному полозу и, бросивши ей сенца, вошла в москалыхин куринь (это было в сумерки). Войдя, помолилася и едва-едва нащупала свою старую знакомую. Нащупавши, она сказала:
— Добрывечир!
— Добрывечир! — едва отвечало ей что-то.
Лукия ощупала тряпки, а в тряпках завернуто что-то живое.
— Нездужаю; стара, погана, погана стала.
— Чи нема у вас лою, я б каганець засвитыла.
— Ничого нема! И печь не топлена. Я позавчора ходила в гости, воротилася додому тай занедужала.
— Что же у вас болыть?
— Все болыть, моя голубко.
Лукия оставила ее и через полчаса возвратилася с дровами, затопила полуразвалившуюся печь, нашла где-то под пры- п и ч к о м с обитыми краями горшок и, положа в него снегу, приставила к огню.
— Спасыби тоби, — проговорила больная.
Пока растаивал снег и потом грелася вода, Лукия вышла на двор, посмотрела на клячу, на сани и говорила сама с собой:
— Господы, у мене хоть чужие добри люды есть! А у нее никого нету, настоящая сирота.
Она подошла к саням, вынула из них торбу с паляныцями и молча вошла в хату. Вода в горшке уже кипела; она его отставила от огня и спросила хозяйку:
— Чи нема у вас какой-нибудь мисочки?
— Есть, голубко, на печке посмотри. Мне на днях Майчиха прислала рыбки, дай бог ей доброе здоровье, так мисочки я ей еще не относила.
Лукия, действительно, нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее, налила горячей воды и, подавая больной, сказала:
— Выпей ты горячои воды немного та сьешь хоть кусочок паляныци, тебе лучше станет. Если б можно было достать ш а в л и и, то оно бы еще лучше было. — И, говоря это, она отломила кусок белого хлеба и подала больной. Больная выпила воду, съела немного хлеба и благорадила свою лекарку:
— Тебя сама матерь божия послала ко мне.
— Лежи, не вставай, я тебя укрою. — И она укрыла ее своим тулупом.
Между тем печка истопилася. Она закрыла трубу. Больная начала дремать. Зазвонили к повечерне. Лукия надела белую свиту, осмотрела еще раз свою больную, вышла из хаты.
Она пошла к повечерне. Как она войдет в церковь? Ведь на нее все пальцами покажут. Все скажут ей в глаза, что она свою мать и отца в гроб свела.
— Пускай показывают на меня, — думала она себе, — пускай смеются, говорят, знущаются, я все вытерплю, все выстрадаю, я должна выстрадать, я великая грешница. Об одном только прошу тебя, милосердый боже мой, пошли ты здоровья и добрую долю моему единому сыну.
Опасения ее насчет насмешек были напрасны: народу было в церкви мало, и ее никто не заметил. Она же себе останови- лася у самых дверей, а в церкви никто назад не обращается (по крайней мере, так делается в наших селах).
Уже в сумерки она возвратилася в хатку и, увидя, что больная все еще спит, тихонько вышла из хаты, сводила свою лошадку к Суле, напоила ее, и, приведя обратно, подложила ей сена, и обошла кругом хаты, выбирая место, где бы приютить свою лошадку. Хотя на дворе уже был март, но все-таки на случай ветру не помешало б приютить, но приюта совершенно никакого не было.
— Господи, какая она бедная! — сказала она. — Хоть бы тебе тынок какой, хоть бы хлевушка какой, — таки совершенно ничего! Как же она живет, горемычная?
И, проговоря это, она вошла в хату. Больная уже проснулася и хотела подняться с постели, чтобы достать воды. Лукия подала ей простывшей воды, уложила ее в постель и в потемках села на полу около ее постели. Больная заговорила:
— С меня как рукою сняло. Если бы не ты, то я не знаю, что бы со мною и было. Благодарю тебя, пускай бог тебе заплатит.
Лукия молча вздохнула.
— Чего ты так тяжко вздыхаешь?
— Так, — отвечала Лукия.
— Может быть, ты тоже нездужаешь?
— Нет, слава богу, здорова!
— Ах ты, моя бесталаннице! — сказала больная с чувством. — Я и забыла, при моей немощи, про твое тяжкое беста- ланье! Ну, скажи ж мени, моя горлыце, живо ли оно, здорово ли оно, моя рыбочко?
— Слава богу, здорово.
— Как же его зовут, моя галочка?
— Марком, — неохотно ответила Лукия.
— О горе мое, тяжкое горе! — помолчав, заговорила больная снова. — Что же мы с тобою будем вечерять? Ведь у меня ничего нету.
— У меня паляныця есть.
— У тебя… у тебя… да у меня ничего нету.
— Даст бог, и у тебя будет.
— А где же мы свитла возьмемо? — через минуту проговорила больная.
— Сегодня и так повечеряем. — И она ощупью нашла мешок с хлебом, подала кусок больной и себе другой отломила. Поужинавши чем бог послал, Лукия наведалась к лошади, и, возвратясь в хату, помолилась богу и легла на полу спать. Словоохотливая старуха пробовала с нею заговаривать, но Лукия, пожелавши ей доброй ночи, вскоре заснула или притворилась заснувшею.
На другой день поутру Лукия, возвратясь от заутрени, нашла свою пациентку на ногах. Она уже затопила печку и что- то приставила в горшке к огню. Увидя входящую Лукию, она быстро обратилась к ней и сказала:
— Добрыдень! Добрыдень, моя голубка! А я уже и печь затопила.
— Добрыдень вам! — сказала Лукия.
— А ты еще краше стала, как прежде была. Ей-богу, правда. Да у тебя и лошадь есть.
— Лошадь не моя, добрые люди позычылы.
— Добрые люди — спасыби им! Побудь ты, голубочко, не- долго дома, а я сбегаю тоже к добрым людям, не добуду ли чего к обеду. Ведь ты знаешь, как я живу: где день, где ночь.
— Возьми у меня деньги, за деньги скорее достанешь, нежели выпросишь.
— Правда! Правда твоя, голубко сыза. — И она взяла у нее копу грошами. — От тепер можна и на свежую рыбку рассчитывать, и на олию, и на все доброе. Хазяйнуй же, моя рыбко, я духом вернуся. — И она выбежала из хатки.
Зазвонили к часам — хозяйка не возвращается в свою господу. Уже на шестый и на девятый звонят — ее все нету. Лукия хотела замкнуть хатку и идти в церковь. Но, горе, и засунуть нечем, не то чтобы замкнуть. Делать нечего, нужно дождаться: хату нельзя так оставить. Хоть, правду сказать, вору там совершенно нечего было делать. Наконец, далеко уже за полдень, пришла и хозяйка. Правда, она принесла, кроме съестных припасов, четыре свечи и даже кой-что из посуды, как-то: две ложки и что-то вроде черепка. И несмотря на все эти покупки, и сама еще была навеселе. Бедняжка таки не утерпела, забежала к своей щирой приятельке шинкарке.
— Вот тебе, моя голубка сыза, — сказала она скороговоркою, — вот тебе и все наше господарство. Тепер заходымося варить обедать.
— Вари вже ты без мене, — сказала Лукия, улыбнувшись. — Вари, а я пойду до церквы.
— Разве уже дзвонылы?
— Скоро задзвонять.
И действительно, вскоре стали благовестить к повечерне. Лукия оделась и ушла в церковь. Хозяйка осталася одна и при- нялася за стряпню, тихо припевая:
Упылася я, Не за ваши я — В мене курка неслася, Я за яйця впылася.
Не знаю, как назвать подобные явления в семье человечества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее счастливыми, потому что они на всякое житейское горе почти смеются, и это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называем чувством. Совсем нет. Они чувствуют по-своему. Вот хоть, например, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее знает, быть может, песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а может быть, и самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным смехом, а на чужое nojivrnne штпря зарыдать и сию же минуту утереть слезы, как ни в чем не бывало.
По-моему, счастливы подобные натуры.
Когда Лукия пришла из церкви, у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола накрыла свою пустую б о д н ю, поставила на нее зажженную свечу, поставила свежую рыбу и поставила чверточку водки. От водки и рыбы Лукия отказалась по той причине, что она говеет.
— Не хочеш, то як хочеш, моя голубко сыза, а я на старости выпью.
— Выпый на здоровья.
После вечери они долго еще просидели — Лукия за работою, а хозяйка за рассказами да расспросами. Лукия шила своему сыну к празднику обнову — жупанок из красной китайки и белую рубашечку с мережаным комиром.
— Так ты его с тех пор и не видала, голубко сыза?
— Ни.
— Его недавно вывели из нашего села у какое-то другое село на квартиру. И что же ты думаешь? Найшлася така дура, что и туда за ным пошла. Может быть, знала Одарку Норив- н у, так вот она сама. Та й лыхо ж он с нею здесь и выделывал! Да и то правда, с одной ли ею!
При этом рассказе Лукия то бледнела, то краснела. Бедная женщина, неужели злость или ревность прокрадывается в твою смиренную душу? Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья.
Так или почти так провожали они вечера в продолжении недели. Отговевшися, Лукия заложила лошадку, простилася с хозяйкою и выехала за село. В поле снегу уже почти не было, оставался кой-где по дороге, и то почерневший. Кое-как дотащилася она до Ромоданового шляху, а там оставила свои санишки, а лошадь повела за повод на хутор.
Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира, то, глядя на нее, идущую из церкви, только улыбалися и усы крутили.
Сердобольные кумушки-соседушки, когда узнали, что она еще у московки квартировала, тогда и рукой махнули.
Лукия, возвратясь на хутор, не могла налюбоваться на своего Марочка. Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. В радости хотела было и сшитые ею обновы на него одеть, но поудержалась. Старики за радость ей объявили, что, когда она уехала говеть, в тот самый день приезжал к ним улан-охотник, брал Марка на руки, целовал его, любовался им и обещал к празднику такое ему подарить, что мы все зды- вуемся.
Лукия даже не улыбнулась, чем старики были недовольны. И когда она вышла из хаты, то Марта, лаская Марка, проговорила:
— Да ей-то что до тебя, моя дытыно! Ты для нее чужой, то ей и байдуже.
— Ну, ты вже пойдешь прибирать, — проворчал Яким, надел шапку и пошел на двор.
До праздника не посещал их улан-охотник по случаю распутицы, зато на праздники не проходило дня, чтобы он не посетил хутора и каждый раз не говорил, что почта не пришла еще из Петербурга, должно быть, по случаю распутицы. Случалось иногда, он заставал Лукию наедине, и тут меры не было его клятвам, что он ее полюбил пуще прежнего. Она уже на него почти не сердилась.
Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Ужели для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее едва успокоенное сердце?
Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слушать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное прошедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!
Она и забыла бы (дьявол же искусил святого), она опять упала бы в бездну, и, может быть, упала б невозвратно, но, к счастью ее, уланам на фоминой неделе назначен поход в другую губернию. И это только обстоятельство спасло ее.
Каких усилий, какого тяжкого труда ей стоило переломить себя! И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без высокой любви своей к детищу пошла бы ты за эскадроном, как ходят тысячи тебе подобных. Сначала твой мылый-чорнобрывый остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану), чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой — играла бы тобою пьяная молодежь на бивуаках. На третий — ты бы для них устарела и опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе приютиться негде, кроме уланского обоза. И вот ты родила ночью под телегою. И только одна безмолвная свидетельница луна святая твоих физических страданий, а милосердный бог один утешитель и успокоитель твоей сердечной горести. Ты успокоилась немного, отерла слезы, прислушиваешься, — кругом все тихо, только едва слышно издали фырканье коней да вблизи чириканье кузнечика. Младенец твой молчит. Ты едва подняла- ся на ноги, берешь его и крадешься тихонько в степь из обоза, и, вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила, потому что ты дороги боишься. Ты опять в степи и, уже далеко от дороги и обоза, кладешь свое дитя на душистую траву, и как волчица роет нору для своих будущих волченят, так ты, исступленная, роешь могилу для своего детища, встановися! Оно плачет, но ты не слышишь, тебе чудится вой волков в степи. Ямка готова, ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму, и у тебя недостало духу покрыть его землею, ты, как сумашедшая, бежишь в степь. О, какое благодеяние было б теперь для тебя помешательство! Но ты в изнеможении падаешь в траву и вскоре, как после страшного сна, пробуждаешься, и пробуждаешься на горе. Ты смутно, но все вспомнила и от изнеможения не можешь встать на ноги, — силишься, силишься и все напрасно. Так тебя и рассвет, и утро застает. Так тебя и полдневное солнце печет. Смерть близится к тебе. Но смерть грешников люта. Вечер освежает тебя, и ты, собравши остаток силы, ползешь в траве и, на свое горькое горе, выползаешь на дорогу. Тебя полуживую подняли чумаки и привезли в село, сдали добрым людям на руки, и ты медленно оживаешь. Выздоравливаешь. И полунагая отправляешься в корчму. Ты припомнила: когда тебя уланы вином поили, тебе было весело и ты забывалася. Но кто теперь тебе, нищей, подурневшей вина даст? Ты у жида в корчме нанялася носить воду за чвертку вина. Но увы! Вино не помогло, а злее еще напомнило тебе, что ты детоубийца! И разгоряченное воображение твое представляет бесконечный ряд страданий. «Что мне делать?» — ты в исступлении кричишь, а дьявол шепчет тебе на ухо: «Утопись!» И ты, послушная сатане, бежишь, быть может, к твоей родной Суле и топишься. Косари тебе помешали. Ты рассказала им свое преступление. Тебя в сельскую расправу, потом в тюрьму, потом в село твое родное да, не снимая кандалов, и на кобылу. А с кобылы прямехонько в Сибирь.
Могло случиться и иначе. Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами — и попутешествовала б себе за их эскадронами во всякую погоду, как единородная мать Энея (у Котляревського):
И часто, часто бедная богиня Пафоса —
Так, может быть, и тебе бы пришлося коротать свою поруганную, грешную, безраскаянную жизнь. Но ты спасена; ты ангелом прекрасным, ты своим сыном спасена. И будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступная и безотрадная.
В понедельник на фоминой неделе старик со старухою поехали в село родителей поминать, Лукия и за своих дала им на часточку.
— От что, Якиме, — сказала Марта, — запишемо и ее отца и матерь в свою граматку, та пускай так укупи и поминают: ведь она у нас как наша дочь родная.
— А что ж, и хорошо. Запишемо.
И Лукия, простясь со стариками, засунула изнутри двери, вошла в хату, остановилася над колыбелью, долго смотрела на спящего Марка и наконец проговорила:
— Господы милосердный, и укрипы, и спасы мене! Где я на всем свете найду таких людей, которые б меня дочерью звали и отца моего и мать мою в свою граматку записали?
И она тихо заплакала и стала молиться. В это время проснулся Марко и, протягивая к ней ручонки из колыбели, пролепетал к ней:
— Мамо!
Она, как бы испуганная, обратилася к нему. Взяла его на руки и, целуя его, залилася слезами, едва выговаривая:
— Сыну мий! Сыну, моя ты дытыно!
А Марко, как бы понимая ее слова, охватил пухлыми ручонками ее прекрасную шею и лепетал:
— Мамо! Мамо!
Придя в себя, она стала на колена перед образами, пере- крестилася, потом взяла Марка за ручонку, сложила его розовые пальчики и начала учить его креститься, говоря и плача:
— Молыся, сыну, молысь, моя дытыно, молыся, ангеле божий, за меня, за мене, грешницу, молыся!
До обеда Лукия утешалася своим сыном в хате, а после обеда окутала его и пошла в сад рясту рвать. Погулявши в саду и нарвавши рясту, она возвращалася в хату и уже было взялася за ручку у дверей; вдруг слышит — ее зовут. Она огля- нулася и вздрогнула: за воротами стоял ее возлюбленный. Она хотела скрыться в хату, но он снова позвал ее.
— Да отвори ворота, мне не хочется с коня слазить.
Лукия как бы невольно подошла к воротам, но не отворила их.
— Что же ты стоишь? Или не отворяй, выйди сюда, я тебя поцелую.
Лукия не вышла.
— Что же, на тебя столбняк, что ли, напал? Готова ли ты или опять раздумала?
— Раздумала.
— Фу ты, несносная! Полно дурачиться, одевайся скорее, за хутором тебя телега дожидает.
— Пускай себе дожидает.
— Да не беси же ты меня! Скажи, пойдешь ли ты или нет?
— Ни.
— Проклятая! Да вить я без тебя жить не могу!
— То не живи!
— То не живи? Тварь ты бездушная! Что же мне — давиться, что ли, из-за тебя?
— Давись.
— Шутишь ты, что ли, со мною? Скажи, последний раз я тебя спрашиваю, пойдешь ты или нет?
— Нет, не пойду.
— Дура же ты, дура. Я тебе добра желал, хотел тебя счастливою сделать.
Лукия грустно посмотрела на него. Он продолжал:
— Хотел в Ромне перевенчаться с тобою.
Лукия еще раз взглянула, отворотилася и хотела было идти в хату.
— Остановися, одно слово!
Она остановилась.
— Подойди ближе!
— Ну, говори, что ты там такое скажешь? — И она подошла к воротам.
— Ну, скажи, глупая, разве тебе лучше мужичкой быть?
— Лучше!
— Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!
— Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно! — И она снова отворотилася.
— Вот же тебе, упрямая хохлачка! — И он ее ударил по голове нагайкой, проговоря: — Проклятая! — Поворотя коня, он ускакал в поле. Лукия посмотрела ему вслед, спустила дитя на землю и тихо пошла с ним в хату. Но в хату не могла войти. Села на призбе, бледная и изнеможенная, выпустила из рук
Марочка и лицо закрыла руками. Долго она сидела в таком положении, а Марочко между тем уселся у ног ее и уже увядший ряст рассыпал вокруг себя.
Лукия наконец проговорила шепотом:
— Офицерша… Бреше… За что же он меня ударил? Что я ему сделала? Сына привела.
И она горько, горько заплакала. Марочко, глядя на нее, и себе заплакал. Она взяла его на руки, поцеловала, встала и молча пошла в хату.
Старики, возвратяся ввечеру из села, рассказывали ей, смея- ся, как уланы выходили из села и как одна, уже тяжкая, дивчина пошла за повозкою их знакомого охотника.
— Як-бо ии зовуть? — заговорила Марта. — Постой… постой… вот уже и забыла… те, те, вспомнила — Одаркою!
Лукия вздрогнула.
— Только из какого-то другого села, а не буртянская.
— Что же это нашего знакомого не видно было меж уланами?
— Да, не видно было. А я нарочно его выглядала, да нет, не видно было.
— Должно быть, вперед уехал.
— Должно быть.
…Мирно и безмятежно текли часы, дни, месяцы и годы на благодатном хуторе Якима. Коморы его начинялися всяким добром, волы и коровы его и всякая другая худоба множилася и тучнела, чумаки его каждое божие лето возвращалися с дороги с великою лихвою, пчелы его по трижды в одно лето роилися, так что одного меду продавал он ежегодно рублей сот на пять, если не больше, не говоря уже про воск. Садовой овощи, правда, он не продавал, а то и тут бы не одну лупнул сотнягу. «Пускай, — говорит, — добрые люди поживу т, спасыби скажут». Словом, к Якиму на хутор со всех сторон добро лилося, как будто сама фортуна коловратная на его хуторе поселилася — в лице Лукии и Марка. И то правду сказать, что Лукия была хозяйка невсыпущая и распорядительная. «И бог его знает, где это она всему так научилася, — бывало, глядя на ее дела, говорит старая Марта. — Вот тебе и московка. Поди ты с нею! Благодать божия, да и только. Верно, разумного отца дытына». Старикам оставалося только смотреть на нее и молиться богу. Они таки и не забывали бога. Марта ежегодно ходила в Киев на поклонение святым угодникам печерским. А Яким хотя и не ходил, зато дома в продолжение года молебствовал: то крыныцю в саду посвятит, то пасику посвятит, то так пригласит отца Нила помолебствовать о здравии и долгоденствии. А сам все себе сидит в пасике, рои снимает да псалтырь читает.
Так-то счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. А Марку между тем кончался седьмой годочек. И что же это за дитя вырастало! Прекрасное, тихое, послушное, несмотря на то, что все его чуть на руках не носили. Особенно Лукия. Бывало, в воскресенье, когда старики уедут в село до церкви, оденет его в жупанок, в красные сапожки и сывую крымских смушек шапочку, поставит его перед собою и любуется на него, как на малеваного. А между тем она ему и виду никогда не показала, что она ему мать. Для чего это она делала, бог ее знает. Может быть, она боялася старых, а может быть, и так.
Старики часто поговаривали, что пора Марка в школу отдать, но все дожидали, пока ему исполнится семь лет.
И вот ему исполнилось семь лет. Это случилося как раз на зеленых святках, в воскресенье. Из церкви прямо на хутор привезли отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. После молебствия и водоосвящения в саду вернулися во облачении в хату. А окропивши святою водою оселю, сины и коморы, вернулися снова в хату. Тогда отец Нил взял Марка за руку и, поставив его на "колени перед святыми образами, а сам, раскрыв псалтырь и перекрестяся трижды, прочитал псалом «Боже, в помощь мою вонми». По прочтению псалма, сложив с себя ризы, сел за стол и спросил у Якима букварь. Марта достала из скрыни букварь (он у нее хранился, потому что она его принесла из Киева) и подала Якиму, а Яким уже отцу Нилу.
— Приступи ко мне, чадо мое, — сказал он Марку.
Марко подошел.
— Говори за мною!
И Марко робко повторял: «Аз, буки, веди» и т. д.
По прочтении азбуки отец Нил закрыл букварь и сказал:
— Корень учения горек, плоды же его сладки суть. Сегодня пока довольно, а на будущее время и вящше потрудимся. А теперь пока, отдавши богово богови, отдаймо и кесарево кесареви.
Яким, как сам тоже человек грамотный, тотчас смекнул, к чему говорит отец Нил из писания. Моргнул Марте и Лукии, а сам побежал в комору, сказавши:
— 3-за позволения вашего, прошу, батюшка, садовитесь за стол.
Через минуту стол был уставлен яствами и напоями, разными квасами фруктовыми и наливками, а кроме всего этого, Яким посередине стола поставил хитро сделанный стеклянный бочонок с выстоялкою. Отец Нил, прочитавши «Отче наш» и «Ядят убозии и насытятся», поблагословил ястие и питие сие и сел за стол. Его примеру, перекрестясь, последовали и другие (окроме Марты и Лукии).
И молча начали воздавать кесарево кесареви.
После обеда отец Нил и весь причет церковный вышли в сад и сели на траве под старою грушею около крыныци, и отец Нил отверз уста свои, в притчах глаголя. И чего он тут не глаголал? И о Симеоне Столпнике, и о Марии Египетской, и о страшном суде. И только было начал «О толсте сердце их», а тут явилася Лукия с ковром, а Марта с стеклянным бочонком, только уже налитым не выстоялкою, а сливянкою. Отец Нил, увидя их, воскликнул:
— Хвалите, отроци, господа! И господыню, — прибавил он, ласкаво улыбаяся Марте.
Лукия между тем разостлала ковер, а Марта поставила на него барыльце с сливянкою и, поклонившись, просила:
— Батюшка, благословить.
Батюшка, возвыся глас свой и осеняя барыло крестным знамением, возгласил:
— Изыди из тебе душе нечистый и вселися в тебе сила Христова и яви чудеса мирови.
В это время старый Яким подошел к ним, держа в руках на малеваной тарелке свежие большие яблоки.
Отец Нил, увидя яблоки, сказал:
— Благ муж, щедряя и дая. Только скажите вы мне, бога ради, Якиме, каким образом вы их сохранили?
— А вот как покушаете, то тогда и скажу, — говорил Яким, ставя яблоки на ковер.
— Хорошо, и покушаемо. Да где наш новый школяр? Пускай бы он нас хоть слывянкою попотчевал, — говорил отец Нил, протягивая руку к яблоку.
В минуту Лукия привела в сад и Марка.
— А ну-ка, новый школяру, — говорил Яким, смеяся, — попотчуй батюшку слывянкою, а воны тебе когда-нибудь березовою кашею попотчуют.
— Корень учения горек, — весьма кстати проговорил отец Нил.
Лукия взяла бочонок, а Марко рюмку, и стали потчевать гостей. Когда поднес Марко рюмку отцу диякону, то тот, принимая рюмку, проговорил:
— Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд.
— Та блуд-таки, блуд, — скороговоркою сказала Марта, — а вы, отче Елисею, выпыйте еще одну рюмочку нашои слывя- ночки.
Что отец Елисей и сполнил.
Сидели они под грушею до самого вечера и слушали отца Нила. А отец Нил договорился до того, что начал выговаривать вместо «пророк Давид» «пророк Демид». А потом все духовенство запело хором «О всепетую мати», потом «Богом избранную мати, деву отроковицу», а потом «О горе мне, грешнику сущу». Тут уже и Яким не утерпел, подтянул-таки тихонько басом.
— Эх, если бы тимпан и органы или хоч гусли доброглас- ны! — воскликнул отец Нил. — О, тут бы мы воскликнули господеви. А что, не послать ли нам за гуслами?
— Послать! Послать! — закричали все в один голос.
— А послать так и послать, — говорил Яким. — Лукие, скажи Сидорови, нехай коней запрягає, я сам поеду. А тым часом, отче Ниле, прошу до господы. И вы, отець Елисей, и вы, — сказал он, обращаясь к причетникам. — На дворе и темно, и холодно.
И компания отправилась в хату, а что там было в хате, бог его знает. Знаю только, что Яким за гуслами не поехал.
Клечальное воскресенье продлилося до вторника. Во вторник, уже поснидавши, гости поехали домой, а Яким и Марта, провожая их, весь час жалкувалы, что они не осталися еще на г о д ы н о ч к у, т. е. на два дни.
В следующее воскресенье рано поутру одели Марка в самый лучший его жупан, засунули ему граматку за пазуху, посадили его на повозку и повезли в село, якобы до церкви. Обманули бедного Марка: они повезли его в школу.
Лукия хотя и не плакала при расставаньи с сыном, но ей все-таки жаль было расставаться с ним.
Грустно, неохотно расставалася Лукия с своим сыном, с своею единою утехой, но она не останавливала, не отговаривала, как это делала старая Марта. Марта сквозь слезы выговаривала Якиму:
— Ну скажи, ну скажи ты мне, где ты видел, чтоб из школы добро вышло? Так, выйдет какой-нибудь пьянычка, а может, еще и вор, боже оборонві; от только дытыну испортят.
— Замолчи ты, пока я не рассердился, — говорил Яким, надевая на Марка сверх жупанка новую свитку.
— Ну куда ты его кутаешь?
— Куда? В дорогу! Ведь он там останется, так не возыть же за ным свыту.
Так снаряжали Марка в далекую дорогу. Лукия молча смотрела на все это и, слушая доводы Марты, почти согла- шалась с нею. Но когда Яким, помолясь богу и выходя из хаты, сказал:
— Учение — свет, а неучение — тьма, — то Лукия вполне с ним согласилась, говоря:
— По крайней мере, выучится хоть богу помолиться.
И, проводя их за ворота, долго стояла она и смотрела вслед удалявшейся повозке. А когда повозка скрылася, она перекрестила воздух в ту сторону и, возвращаяся в хату, говорила:
— Пошли тебе господи благодать свою святую.
Ввечеру Марта рассказывала Лукии про Марка, что он, бедный, плакал, когда прощался с ними, и что он будет жить у отца Нила, а в школу только учиться будет ходить, и что она нарочно заходила в школу, чтобы посмотреть, где он будет учиться.
— Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — Так что страшно одной зайти. А школяры такие желтые, бледные, как будто с креста сняты, сердечные. А под лавою все розги, все розги, да такие колючие! Бог их знает, где они их и берут. Настоящая шипшина. А на стене, около самого образа, тройчатка, настоящая дротянка, да, я думаю, она таки из дроту и сплетена. А дьяк такой сердитый! Аж страшно смотреть. Я, правда, дала ему копу, знаешь, чтобы он не очень силовал Марка, хоть на первые дни. Надо будет еще чего-нибудь послать ему; я думаю, хоть полотна на штаны та на сорочку, а то замучит бедную дытыну. Чи не понесла б ты ему, Лукие, хоть даже завтра, а то я боюся: убье, занивечить сердечного Марочка.
— Добре. Я понесу, — сказала Лукия. — Та и сама посмотрю на ту школу.
— Посмотришь, посмотришь. Та вот еще что: у ч ы н ы к завтрему паляныци. Я думаю и паляныць зо дви послать Мар- кови, а то воно, бедное, хоть и обедает у попа, да какой там у них обед. Я думаю, всегда голодное.
Назавтра Лукия отправилась в село с паляныцями и со свертком полотна. Она не зашла к отцу Нилу, а прямо прошла в школу. Дьяк встретил ее совсем не сердитый, и школа не была похожа на пустку. Хата как хата, только что школяры сидят да читают, кто во что гаразд. И Марко ее туг же меж школярами сидит и тоже читает. Она когда увидела его читающего, то чуть было не заплакала. «Как оно, бедное, скоро научилося», — подумала она и посмотрела под лаву. Под лавою ни одной розги не видно было. Посмотрела на образа — около образов тройчатки тоже не видать. Она, отдавши дьякови по- сильное приношение, спросила его, можно ли ей повидаться с таким-то Марком.
— Можна, можна. Чому не можна? — говорил дьяк с важ- ностию и, подойдя к новобранцу (как он называл Марка), сказал ему: — Ты, Марку, сегодня учился хорошо, а посему и гулять остаток дня можешь. Иди с миром домой.
Марко сложил азбучку, положил ее за пазуху и встал со скамейки, обернулся, уведел свою наймичку и заплакал. Лукия тоже чуть не заплакала. Она взяла его за руку и, простясь с дьяком, вышла из школы. Вышедши из школы, она утерла слезы у Марка рукавом своим, потом сама заплакала, и пошли они тихонько к хате отца Нила.
Такие приношения делала она дьякону и Марку каждую неделю. А в воскресенье Марта само собою привозила дьячку и копу грошей, или меду, или кусок сала, или что-нибудь тому подобное.
Месяца через два с божиею помощию Марко одолел букварь до самого «Иже хошет спастися». По обычаю древнему нужно бы кашу варить, о чем дано было знать заблаговременно на хутор. Варивши кашу, Марта положила в нее 6 пятаков, а Лукия, когда Марта отвернулася, бросила в кашу гривенник.
Когда каша была готова, Лукия понесла ее в село к отцу Нилу. А от отца Нила Марко понес ее в школу в ручнике, вышитом Лукиею. Принесши кашу в школу, он поставил ее доли. Ручник преподнес учителю. А до каши просил товарищей. Товарищи, разумеется, не заставили повторять просьбы, уселися вокруг горшка. А Марко взял тройчатку, стал над ними, и пошла потеха. Марко немилосердно бил всякого, кто хоть крошку ронял дорогой каши на пол.
Кончивши кашу, Марко тройчаткою погнал товарищей до воды, а пригнавши от воды, принялися громадою горшок бить. Разбили горшок, и учитель распустил их всех по домам в знак торжественного сего события.
После описанной церемонии Марко был отпущен на родину, т. е. на хутор, отдохнуть недели две после граматки. Но вместо отдыха он встретил новые, не предвиденные им труда. Яким, в присутствии Марты и Лукии, заставлял его прочитывать каждый день всю граматку, од доски до доски, и даже «Иже хощет спастися».
— Да для чего это уже «Иже хощет спастися» ты заставляешь его читать? — говорила Марта. — Он его не учился, то и читать не нужно.
— Ты, Марто, человек неграмотный, то и не мешалась бы не в свое дело, — говорил обыкновенно Яким. — Мы-то знаем, что делаем.
Марко под конец второй недели готов был бежать из родительского дому в школу. В школе ожидали его ровесники, товарищи, а дома кто ему товарищ? Правда, оно и в школе не тепло, но все-таки лучше, нежели дома.
По прошествии двух недель снабдили Марка всяким добром удобосъедаемым и вдобавок часословом, принесенным Мартою в то лето из Киева, и отправили в школу.
В великом посту, когда говели Яким и Марта, то Марко уже посередине церкви читал большое повечерие, к неописанному восторгу стариков. Выходя из церкви, Яким погладил по голове Марка и дал ему гривну меди на бублики, сказавши:
— Учись, учися, Марку. Науку не носят за плечима.
А Марта дома Лукии чудеса про Марка рассказывала. Она говорила, что дьяк просто дурень в сравнении с Марком, что Марко вскоре и самого отца Нила за пояс заткне. Разве только что на гуслах не будет играть, да это ему и не нужно.
— Да что же это он, да как же это он там читает? — обыкновенно спрашивала Лукия.
— А так читает, что хоть бы и самому дьяку, так не стыдно. Да, я думаю, дьяк и заставляет читать все такое, чего сам прочитать не в силах. Я думаю, что так.
Лукия с нетерпением ожидала шестой недели поста, в которую собиралася говеть. Наконец дождалася и наконец услышала читающего Марка, и уже не одну «Нескверную, неблаз- ную», а и «Полуношницу», и даже «Часы». Велика была ее сердечная радость, когда она, выходя из церкви, слышала такие слова:
— Какой хороший школяр! Дак он прекрасно читает, точно пташка какая щебечет. Наделил же господь добрых людей такою дытыною.
Такие и им подобные слова слушала Лукия всякий раз при выходе из церкви. Зато Марко и возмездие получал не малое. Он в продолжение недели всю школу кормил бубликами.
Марко быстро двигался на поприще образования, так что к концу другого года, к удивлению всех, в особенности учителя, он прошел всю псалтырь, даже с молитвами. А чтением кафизм в церкви приобрел общую известность и похвалу всего села; так что уже на что Денис Посяда, который никого не хвалил, и тот, бывало, выходя из церкви, скажет:
— Ничого сказать, славный школяр. Прекрасно читає.
Долго толковали между собою отец Нил с Якимом, учить ли Марка писать или так и кончить на псалтыре. С домашними Яким не входил в рассуждение по поводу этого предмета. Он знал наверное, что в Марте первой он встретил бы оппозицию, а потому и молчал благоразумно. А по зрелом рассуждении с отцом Нилом решил, чтобы Марка учить писать.
Хитрость книжная, можно сказать, далася нашему Марку. Да и хитрость скорописца не отвернулася от него. В полгода с небольшим он постиг все тайны каллиграфии и так, бывало, выведет букву ферт, что сам учитель только плечами двинет, и больше ничего. Но кого он больше всех восхищал своею тростию скорописца, так это старого Якима. Он ему при всяком удобном случае писал послание, подписывая на конверте, что такой-то и такой губернии, такого-то и такого повета, на благополучный хутор такой-то, жителю Якиму Миронову сыну та- кому-то. Старик был в восторге, получа такое письмо от своего сына из школы.
— Вот оно что значит просвещенный человек, — говорил он, бывало, Марте и Лукии, держа письмо в руках, которого он, конечно, не понимал, потому что читал только печатное. — Я вот и не был в селе, а знаю, что там творится. А вы, бабы, ну, скажить, что вы знаете? Вот то-то и есть! А я так знаю. Вчера отец Нил на гуслах играл «Исусе мой прелюбез- ный», а матушка Якилына с прочими мироносыцями ему подтягивали. Вот что.
— Ну, та ты из своего письма наговоришь, что и груши на вербе растут, — говорила обыкновенно Марта.
— Что ж, когда не веришь, то на, возьми прочитай. — И он ей подавал письмо.
— Читай уже ты один, а мы и так себе останемся.
И Яким, бывало, через пятое-десятое по складам прочитает им:
— «Любезнейшие и драгоценнейшие родители! Я, слава всевышнему, жив и здоров, чего и вам желаю. Единородный сын ваш М. Г.».
— Только то и было? — спрашивала Марта.
— А тебе чего еще хочется? — отвечал смеяся Яким.
— А как же там батюшка с матушкою? Говорил ты, что в письме написано.
— А дзус вам знать, цокотухи. — И при этом он клал письмо за образ.
Смеючися, пролетали годы над хутором. Марко вырастал, делался юношею, и каким юношею? Просто чудо! Бывало, сельские красавицы не налюбуются на Марка Гирла. Школу он оставил вот по какому случаю. Однажды Марта, возвратясь из Киева, занемогла да, прохворавши семь недель, и богу душу отдала. Долго плакал старый Яким и, плачучи, поселился наконец в своей п а с и ц и. Надо было для утехи старика взять из школы Марка. Лукия так и сделала. «Пускай себе, — думала она, — чего не доучился в школе, доучится дома. А старику, бедному, все-таки будет розвага. А то и он умрет, бедный, с тоски та с горя».
И в воскресенье, рассчитавшися с дьячком и отцом Нилом, привезла Марка на хутор. Обрадовался, ожил Яким, увидя перед собою существо, которое одно только и привязывало его к жизни.
До прибытия Марка из школы старый Яким был похож на Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, с тою разницею, что в доме и вообще в хозяйстве не было заметно того печального запустенения, какое было видно в доме Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны. Потому что у него осталася Лукия.
Бывало, сидит бедный старик в пасике несколько часов сряду, головы не подымая, только вздохнет и утрет машинально слезу, скатившуюся на седые усы. Вздохнет опять и опять заплачет. И так просиживал он до тех пор, пока Лукия приходила звать его обедать. Тогда молча вставал он и шел за Лукиею в хату. Она заводила с ним речь о хозяйстве, о чумаках, о пчелах, о яблуках, но он отвечал только «да» или «нет». Однажды она ему сказала:
— Вы бы взяли хоть псалтырь, прочитали за ее грешную душу, и вам бы легче стало.
Яким молча с полки достал псалтырь и пошел в сад (Марта была похоронена в саду между старыми липами), остановился над могилою Марты, раскрыл книгу, перекрестился и начал читать «Блажен муж». Когда же дочитался до «Славы» и начал читать «Со святыми упокой», то не мог проговорить «рабу твою Марту». Залился старик слезами, и книга из рук упала на могилу.
Так-то время и уединение связывают простосердечных людей друг с другом. Благословенно и время, и уединение, простосердечные люди.
Яким с каждым днем оживал более и более. Лукия угождала и ухаживала за ним, как за малым ребенком. А Марко, несмотря на его юность (и, как Гоголь говорит, юркость), не отставал от него ни на минуту. Он уже знал, что он не родной его сын, и в глубине молодой души своей чувствовал все благо, сделанное ему чужими добрыми людьми. Он иногда за- думывался и спрашивал себя: «Кто же мой отец? И кто моя мать?» — и, разумеется, оставался без ответа.
Каждую субботу с утра до обеда читал он псалтырь над могилою Марты. А Яким, стоя около него, молился и плакал и, плачучи, шептал иногда:
— Кто же бы за твою душу теперь псалтырь прочитал, если б мы его не отдавали в школу? Читай, сыну! Читай, моя дытыно! Она с того света услышит и спасибо тебе скажет. Душа ее праведная по мытарствах теперь ходит. — И старик снова заливался слезами.
…А между тем Марку пошел уже двадцатый год. Пора ему уже была и вечерныци посетить, посмотреть, что и там делается. Дождавшись осени, он это и сделал, и так удачно, что после первого посещения вечерныць, возвратись домой, стал у Якима просить благословения на женитьбу.
— Вот тебе и на! — сказал Яким, выслушавши его. — Я думал, что он все еще школяр, а он уже во куда лезет! Рано, рано, сыну. Ты сначала погуляй, попарубкуй немного, почумакуй, привезы мени гостынець з Крыму або з Дону. А то — ну сам ты скажи, какая за тебя, безусого, выйде. Разве какая бессережная! А вот спросим у Лукии, — я думаю, и она скажет, что еще рано.
Спросили у Лукии, и она сказала, что рано.
Марко наш и нос повесил. А между тем ночевать стал ходить у клуню. В хате ему, видите, стало душно.
— Знаю я, чего тебе душно! — говорил, улыбаясь, старый Яким.
А Лукия ничего не говорила, только по целым ночам молилась богу, чтобы бог сохранил его от всякого скверного дела, от всякого нечистого соблазна.
Однажды после обеда, когда Яким отдыхал, она вызвала Марка в другую хату и ласково спросила у него:
— Скажи мне, Марку, по истинной правде, кого ты полюбил? На ком ты думаешь жениться?
Марко расписал ей свою красавицу, как и все любовники расписывают. Что она и такая и такая, и красавица и раскрасавица, что лучше ее и во всем мире нет.
Лукия с умилением слушала своего сына и сказала наконец:
— Верю, что краше ее во всем мире нет. А скажи ты мне, какого она роду? Кто отец ее и кто такая мать? Что они за люди и как они с людьми живут?
— Честного она и богатого роду!
— Богатства тебе не нужно, ты и сам, слава богу, богатый. А скажи ты мне, любишь ли ты ее?
— Как свою душу! Как святого бога на небесах!
— Ну, Марку, я тебе верю. Ты ее любишь, а когда любишь, то ты ей зла не сделаешь. Смотри, Марку! Сохрани тебя матерь господняя, если ты ее погубишь! Не будет тебе прощения ни от бога, ни от добрых людей!
— Как же я погублю ее, скажи ты мне, когда я ее люблю?
— Как погубишь?.. Дай, господи, чтобы ты и не знал, как вы нас губите. Как мы сами себя губим!
— Лукие, ты давно у нас живешь. Скажи мне, не знаешь ли ты, кто такая моя маты?
Лукия при этом неожиданном вопросе затрепетала и не могла ответить ни слова.
— Скажи мне! Скажи, ты, верно, знаешь?
Лукия едва ответила:
— Не знаю!
— Знаешь! Ей-богу, знаешь! Скажи мне, моя голубко, моя матинко! — И он схватил ее за руки.
— Марта, — ответила Лукия тихо.
— Ни, не Марта, я знаю, что не Марта! Я знаю, что я байстрюк, подкидыш.
Лукия схватила его за руку, сказавши:
— Молчи! Кто-то идет! — и вышла быстро из хаты.
«Она, верно, знает», — подумал Марко и вышел вслед за нею.
Дождавшися весны, Яким поручил все хозяйство Лукии, а
сам, по обещанию, поехал в Киев, взяв и Марка с собою.
Лукия не пропускала ни одного воскресенья, чтобы не побывать в селе. И после обедни всегда заходила к матушке и после обеда долго с нею беседовала наедине. Она расспрашивала попадью о своей будущей невестке и узнала, что она честного и хорошего роду и что про нее дурной славы не слыхать. Наконец она через попадью и сама с нею познакомилась. И увидела, что сын и попадья говорят правду.
Через месяц Яким с Марком возвратилися на хутор и навезли разных дорогих гостинцев своей наймичке. А для себя привезли, кроме синего сукна и китайки, Ефрема Сирина и «Житие святых отец» за весь год.
Дни летние и длинные вечера осенние Марко читал святые книги, а Яким слушал и обновлялся духом. Он пришел в свое нормальное положение, подчас непрочь был послушать, как отец Нил играет на гуслях и как отец диякон поет «Всякому городу нрав и права». И прочее такое. Только всегда приговаривал:
— Ох, якбы теперь со мною была Марта! Далы б мы себе знать. — И после этого всегда старик задумывался, а часто и
плакал, говоря: — Сырота я сыротою! Так и в домовыну ляжу. Марко! Так что ж Марко! Звичайне, не чужий! Оженю его, непременно оженю после покровы. А летом пускай сходит в дорогу та привезе мени з Крыму сыву шапку, таку сыву, как моя голова.
А Марко, прочитавши житие какого-нибудь святого, отправлялся в клуню ночевать, т. е. в село, к своей возлюбленной.
А Лукия, уложивши спать старого Якима, молилася до полуночи богу, чтобы охранял он ее сына от всякого зла.
Весною, снарядивши новые возы, новые мережаные ярма, притыки, лушни и занозы, Яким отправил своего Марка чумакувать на Дон за рыбою.
— Иди ж, мой сыну, — говорил он, — та везы своий молодий подарки. После покровы, даст бог, мы вас некрутым о.
Марко с горем пополам отправился на Дон за рыбою.
А Лукия, взявши котомку на плечи, пошла в Киев помолиться святым угодникам о благополучном возвращении сына с дороги. Яким один остался на г о с п о д и. Он, распорядивши- ся весенними работами, вынул пчел из погреба, расставил их как следует по пасике, взял Ефрема Сирина и поселился на все лето в пасике.
А Лукия, между тем, пришла в Киев, стала у какой-то мещанки на квартире и, чтоб не платить ей денег за квартиру и за харч, взялася ей носить воду для домашнего обиходу. В полдень она носила воду из Днепра, а поутру и ввечеру ходила по церквам святым и пещерам. Отговевшись и причастившись святых тайн, она на сбереженные деньги купила небольшой образок святого гробокопателя Марка, колечко у Варвары- великомученицы и шапочку Ивана Многострадального. Уложивши все это в котомочку и простившися с своей хозяйкою, она возвращалася домой. Только не доходя уже Прилуки, именно вДубовому Гаи, занемогла пропасныцею. Кое-как доплелася она до Ромна, а из Ромен должна была нанять подводу до хутора, потому что уже не в силах была идти. А она хотела зайти в Г у с т ы н ю, в то время только возобновляющуюся. И не удалося ей, беднош
Испугался старый Яким, когда ее увидел.
— Исхудала, постарела, как будто с креста снятая, — говорил он. — Чи не послать нам за знахуркою? — спрашивал ее Яким.
— Пошлить. Бо я страх нездужаю.
И Яким не послал, а сам поехал в село и привез знахурку. Знахурка лечила ее месяц, другой и не помогала.
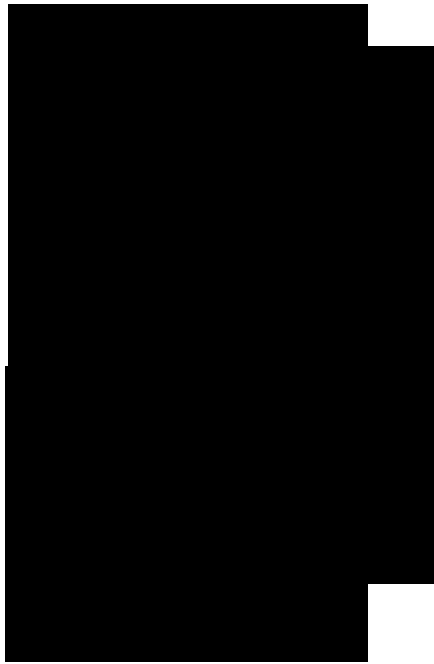 |
Во времена самой нежной моей юности (мне было тогда 13 лет) я чумакував тогда с покойником отцом. Выезжали мы из Гуляйполя. Я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над Тикичем, а на степь, лежащую за Тикичем. Смотрел и думал (а что я тогда думал, то разгадает только один бог). Вот мы взяли соб, перешли вброд Т и к и ч, поднялися на гору. Смотрю — опять степь, степь широкая, беспредельная. Только чуть мреет влево что-то похожее на лесок. Я спрашиваю у отца, что это видно.
— Девятая рота, — отвечает он мне.
Но для меня этого не довольно. Я думаю: «Что это — 9-я рота?»
Степь. И все степь.
Наконец мы остановились ночевать вДидовой балке.
На другой день та же степь и те же детские думы.
— А вот и Елисавет! — сказал отец.
— Где? — спросил я.
— Вон на горе цыганские шатры белеют.
К половине дня мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет.
Грустно мне! Печально мне вспоминать теперь мою молодость, мою юность, мое детство беззаботное! Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда.
Побывавши в Таганроге и Ростове, Марко с своими чумаками вышел в степь. И непочтовым шляхом прямувалы чумаки через Орель на Старые Санжары. ВСанжарах, переправившись через Ворсклу, задали чумаки пир добрым людям.
Купили три цебры вина. Найнялы троисту музыку. Та и понесли вино перед музыкантами. Кого встретят, пан ли это, мужик ли, все равно: «С т о й, п ы й горилку». Музыка играет, а чумаки все до одного танцуют.
С таким-то торжеством прошел Марко через Санжары.
В Белоцерковске повторилось то же. А в Миргороде, хоть и не было переправы, чумаки таки сделали свое.
«X о р о л хоть и не велыка ричка, а все-таки, — говорили они, — треба свято одбуты». И одбулы свято. В Миргороде они взяли уже не четыре цебра вина, а бочку. И весь город покотом положили. А о музыкантах и танцах и говорить нечего.
Из Миргорода с божию помощью вышли на Р о- м о д а н.
Вышедши на Ромодан и попасши волы, чумаки потянулись по Ромодану на Ромен.
Что же ты, Марку, что же ты не поешь с товарищами- чумаками?
А вот почему я не пою с товарищами-чумаками. Покинул я дома молодую девушку. Что теперь сталося с нею? Везу я ей с Дону парчи, аксамиту, всего дорогого. А она, быть может, моя молодая, вышла за другого.
И чем ближе они подходили к корчме, от которой ему поворотить надо вправо, тем он грустнее становился.
«Что это мне эта наймичка не йдет с ума?.. А може, вона скаже», — прибавлял он в раздумье.
Минули Л о х в ы ц ю, прыйшли и до корчмы. Попрощался Марко со своими товарищами-чумаками, как следует подякував их за науку и поворотил себе на хутор с своми возами.
Путь невелик, всего, может быть, пять верст, но он остановился с своей валкою ночевать в поле. Наймиты себе ночуют в поле около волов и возов, а он побежал к своей возлюбленной.
сказал он ей, когда она вышла в в ы ш н ы к- Он много говорил ей подобных речей, говорил потому, что не знал, что делается дома.
А дома делалося вот что.
Знахурка довела своими лекарствами бедную Лукию до того, что Яким просил отца Нила с причетом отправить над нею маслосвятие.
После этого духовного лекарства Лукии сделалося лучше. Она начала, по крайней мере, говорить. И первое слово, что она сказала, это был вопрос:
— Что, не пришел еще?
— Кто такой? — спросил Яким.
— Марко, — едва прошептала она.
К вечеру ей стало лучше, и она просила Якима постлать постель на полу. Когда перенесли ее на пол, то она показала знаком Якиму, чтобы он сел около нее. Яким сел. И она ему шепотом сказала:
— Я не дождуся его, умру. У меня есть гроши, отдаете ему. Вся плата, что я от вас брала, у мене спрятана в коморе, на г о р ы щ и, под соломяным жолобом. Отдайте ему, я для него их прятала. Та отдайте ему еще образок Марка святого, гробокопателя, что я принесла из Киева. А молодий его, когда пойдут венчаться, отдайте перстень святой Варвары. А себе, мой тату, возьмить шапочку святого Ивана. — И, помолчавши, она сказала: — Ох, мне становится трудно. Я не дождусь его, умру. А он должен быть близко. Я его вижу. — И, помолчав, спросила: — Еще далеко до света?
— Третьи петухи только что пропели, — ответил Яким.
— Дай-но мне, господи, до утра дожить, хоть взглянуть на него. Он поутру приедет.
И в ту ночь, когда она исповедывалась Якиму, Марко целовал свою нареченную, стоя с нею под калиною, и говорил ей сладкие, задушевные, упоительные юношеские речи. Замолкал, и долго молча смотрел на нее, и только целовал ее прекрасные карые очи.
Пропели третьи петухи. Вскоре начала заниматься заря.
— До завтра, мое серце единое! — сказал Марко, целуя свою невесту.
— До завтра, мий голубе сызый!
И они расстались.
— Иде, иде, — шептала больная, когда взошло солнце. — О! чуете, ворота скрыпнулы.
Яким вышел из хаты и встретил Марка с чумаками, входящего во двор.
— Иды швыдше в хату, — сказал обрадованный Яким Марку. — Я тут и без тебе лад дам.
Марко вошел в хату. Больная, увидя его, вздрогнула.
Приподнялася и протянула к нему руки, говоря:
— Сыну мой! Моя дытыно. Иды, иды до мене!
Марко подошел к ней.
— Сядь, сядь коло мене. Нагни мени свою голову.
Марко молча повиновался. Она охватила его кудрявую голову исхудалыми руками и шептала ему на ухо:
— Просты! Просты мене. Я.„я…я твоя маты.
Когда Яким возвратился в хату, то увидел, что Марко, плача, целовал ноги уже умершей наймички.
25 февраля 1844 Переяслав
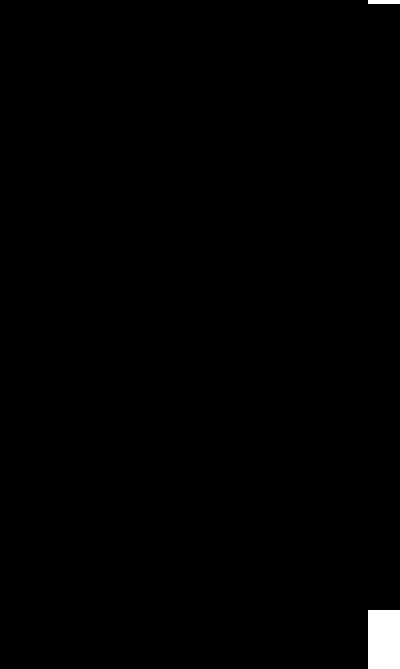 |
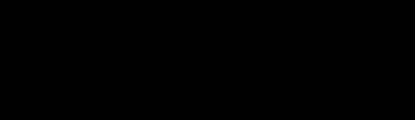 |
28 ноября (1854]
Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки Полтавской губернии, советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. И, во-первых, познакомьтеся с отцом протоиереем Илиею Бодянским, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню, по ту сторону реки Удая, верстах в трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сен- Клерское аббатство. Тут все есть. И канал, глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая. И вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами. И бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насажденными. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера или ему подобного списателя природы. А я… по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря), не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к тому идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичевого памятника.
Я, изволите видеть, по поручению Киевской археографической комиссии, посетил эти полуразвалины и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштом и працею несчастного гетьмана Са- мойловича в 1664 году, о чем свидетельствует портрет его яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.
Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечныя памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин, да еще уцелевший циклопический братский очаг, — сделавши, говорю, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Еремии Вишневецкого-Корибута. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию. Только входит мой хозяин в комнату и говорит:
— И не думайте, и не гадайте. Вы только посмотрите, что на улице творится.
Я посмотрел в окно — и действительно, вдоль грязной улицы тянулося две четыреместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов разной величины и, наконец, простые телеги.
— Что все это значит? — спросил я своего хозяина.
— А это значит то, что один из потомков славного прилуц- кого полковника, современника Мазепы, завтра именинник.
Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом, ученым.
— Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?
— Э! Это только начало. А посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.
— Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?
— А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней да и покатим чуть свет у Дигтяри.
— У какие Дигтяри?
— Да просто к имениннику.
— Я ведь с ним не знаком!
— Так познакомитесь.
Я призадумался. А что, в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древности полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено. И мы на другой день поехали в гости.
Начать с того, что мы сбилися с дороги. Не потому, что было еще темно, когда мы выехали с города, а потому, что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли Роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваныцю; спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?
— В Дигтяри? — говорит мужик. — А просто берить, на Прилуку.
— Как на Прилуки? Ведь мы едем из Прилук.
— Так не треба було вам и издыть з Прилуки, — ответил мужик совершенно равнодушно.
— Ну, как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? — спросил я.
— Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынци, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?
— А Сокирынци, земляче, знаешь? — спросил я у мужика.
— Знаю! — отвечал он.
— А Дигтяри от Сокирынец далеко?
— Ба ни!
— Так ты покажы нам дорогу на Сокирынци, а там уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.
— Ходим за мною, — проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.
Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую, я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга «Освящение пасок», и мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое воспоминаю.
— Оце вам буде шлях просто на Сокирынци! — говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестевшую между густой зеленой пшеницей.
Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилуки до Иваныци и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил только, когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:
— Вот вам и Сокирынци! — и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впопад сделает, так не разговорится о своей удали, а если, боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенной рыбой.
В Сокирынцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с богом между зеленою пшеницею и житом.
Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более, что он имел претензии на щеголя. (А надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному.) Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже: «А вот и Сокирынци!» — так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалася грусть. Но грусть иного рода. Я думал и у бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу — но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаяся, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.
Так ли, сяк ли, мы наконец добралися до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насажденных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома; ни той широкой и величественной просеки, или аллеи, ведущей к дому; ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами, — не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел; он ловко выскочил из телеги и хвацки раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов, или жокеев, я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» — «В зелений диброви, земляче!» — после чего он посвистал и поехал в село. А мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию хоть сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания.
Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и черт знает что выделывали, и все, разумеется, в шотландских костюмах.
Цинизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего.
Виргилий мой добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством встряхивания, отправились в сад, в надежде встретиться с хозяевами.
Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутилися на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившися с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патрио- тизма называемою левадою), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в французский сад, а в простой, естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестели между старыми темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дуброве. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце». Я посмотрел и, разумеется ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее». Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы божией матери. И действительно, это была икона Иржавецкой божией матери, как мне пояснил мой Виргилий, врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы.
Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на леваду, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.
Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.
Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно, а как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает. И отойдет со вздохом к портретам Зарянка восхищаться гербами, с убийственною подробностию изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.
Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров. Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою, было самое приятное впечатление, а хозяином напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиною такого неприятного впечатления.
Веселая толпа гостей тихонько двигалася к дому, уже освещенному ярко внутри. А на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.
Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостной оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля», после марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.
Некий ученый муж, кажется, барон Боде, поехал из Тегерана к развалинам Персеполиса и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мордашт. Увидевши же величественные руины Персеполиса, сказал: «Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать».
Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествия из Тегерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное; да что делать, — что под руку попало, то и валяй.
Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манеров и даже самих физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) списатели провинциальных балов не заметили.
Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на фрегате «Надежда» до русской пирушки на немецкий лад, где устьсысольские ребята немножко пошалили.
И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц.
Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в При- луцком уезде квартировал стрелковый баталион. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.
А Вирлигий мой в эту самую секунду выделывал в кадрили па самым классическим образом.
Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями. — Может быть, — думал я, — они тово? Но нет, эта профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом. Нет, тут что-нибудь да не так. — В эту минуту кадриль кончилась, и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.
— А! каково пляшем! — проговорил он, утираясь.
— Ничего, изрядно, — отвечал я рассеянно. — А вот что, — сказал я ему почти шепотом, — отчего это военных нет на бале?
— Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона.
«Странно!» — подумал я. И, подумавши, спросил:
— А барышни ничего?
— Ничего.
— Таки совершенно ничего?
— Совершенно ничего!
В это время заиграли вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитной брюнеткой. А я, протолкавшися кое-как между зрителей и зрительниц, т. е. между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, что
Мы подвигаемся заметно.
Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.
После ужина амфитрион предложил гросс-фатер, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.
Гросс-фатер начался и продолжался со всей деревенской простотою до самого восхода солнца.
Красавицы! особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака, т. е. красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного. Власть, утвердженная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день, и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, ра- зославшийся над болотом.
Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гросс-фатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях; разбивалося несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестевшим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое- как прокрался в свою палатку, наскоро переменил фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.
Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалося странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилося озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется — совершенное зеркало, и вербы красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивной картиной. Мне казалося святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.
Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере. Что я тотчас же и исполнил.
После купанья мне так стало легко и отрадно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.
Созерцание, однако ж, не долго длилося; я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилася та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно — вместо обыкновенного вальса, я видел во сне известную картину Гольбейна «Танец смерти».
Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлося разыграть роль нескромного Актеона-пастуха. Я, однако же, вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.
В одиннадцать часом утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаж- далися им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулися из своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками.
Не успел я кончить вторую чашку светло-коричневого суропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда же они навертятся?» — подумал я. И, сходя с террасы, встретил своего
Просперо, который сообщил мне по секрету, что сегоднишний вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однако же, ошибся.
Вскоре после вечерней прогулки гости собралися кто в чем попало, т. е. кто в сюртучке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англомана, — такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу, хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не прогневаться, мои милые читательницы, — это не сочинение, а неопровержимый факт.
Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулося вперед, а мелочь (в том числе и нас, господи, устрой) поместилася кое- как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках вроде сцены вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии: «Ученик знаменитого Шпора!» — кто-то шепнул возле меня. Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона. И, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задел не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что действительно, и было так). Это был молодой человек, бледный и худощавый, — все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору. Меня удивляло одно: отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и бог знает откуда. Что скажут гости первого разбора!
Между тем «Буря» кончилася, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода:
— Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!
Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началася увертюра из «Прециозы» Вебера. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть.
Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими, едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы. И, вдобавок, самой симпатической породы.
 |
Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал «браво»! и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!», пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.
Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что- нибудь лучшее лучшего, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончеля или скрипки. И образ грустного артиста с своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною.
«Где я его видел? Где я с ним встречался?» — спрашивал я сам себя. И после долгого напряжения памяти я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.
Мне сделалося почти дурно после такого открытия.
Музыка затихла, и я пошел через леваду по дорожке к старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.
— Что вы? Что вы? Что с вами сделалось? — спрашивал я его, стараясь освободить руки.
— Благодарю вас! благодарю! — говорил он шепотом. — Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня! — Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.
Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:
— Вы со мной очень милостивы.
В это время раздался голос, называющий его по имени.
— Идите в виноградную беседку, — сказал он, вставая. — Я сию минуту приду к вам.
И он поспешно удалился. Глядя вслед ему, я думал: «Вот вдохновенный миннезингер XII века. Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников того плачевного века. А просвещение идет себе вперед крупными шагами».
Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава богу, не совсем ошибся. Правда, он передо мною высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, — то были чудные божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.
Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент. И вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы». У меня дух захватило при этих звуках.
Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного Шопена. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил:
— Вот у нас свой бал.
Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.
К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей. То были горничные, лакеи и форейторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.
Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнах, — и полилася полная сердечной сладкой грусти моя родная мелодия на слова:
Проигравши тему, он вариировал ее на тысячу ладов, и так вариировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слыхал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились, и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились наконец общим вздохом и снова замолчали.
Я молча взял его за руку и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как бы бояся заговорить. Наконец я, овладевши собой, спросил его:
— Где вы учились?
— Сначала дома.
— А потом?
— А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору. И больше нигде не учился.
— Да ведь Шпор играл на скрипке.
— Я на скрипке у него и учился. Скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель — это уже так.
— Что же вы намерены теперь с собой делать? Ведь вы настоящий великий артист!
— А что мне с собою делать? Повеситься, ничего больше.
Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.
— Прошедшего лета, — заговорил он, — приезжал к нам из Качановки Глинка, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.
— Не унывайте, молитесь богу. Даст бог, все устроится.
— Я не отчаиваюсь, Михайло Иванович, кажется, добрый такой, на него можна надеяться.
— Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.
— Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.
— Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.
В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:
— Не сыграть ли вам еще что-нибудь?
— Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтрему письмо.
И мы расстались.
После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегою для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегою. Удивительный народ наши мужики: не припугни его, так ничего и не будет. «А вас, однако ж, как видно, чересчур припугнули», — подумал я, глядя на обнаженное село.
Делать нечего, отправился я к жиду в корчму и нанял у него (разумеется, за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. А там, уверял меня жид, хоть четверку можно нанять до самой Прилуки.
С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуку.
— Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? — спросил я у своего полусонного ментора.
— Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, т. е. он и Марьяна Акимовна. Прекраснейшие люди. Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видел.
 |
— Пожалуй, заедем. Мне теперь за одно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.
— Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, оставил службу. Получает себе полный пансион. Да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему, вдобавок, еще и хутор подарил со всеми угодьями. Чего же еще? Живи да бога хвали.
— И давно он уже живет здесь?
— Да будет лет около десяти с небольшим.
— Что они, семейные люди?
— Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика, премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.
— Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют. А это, вы знаете, какое украшение бала.
— Нет, я думаю, что они еще качучу не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится. Нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея. Как вы думаете?
— Действительно поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однако ж, чтобы у Софьи Самойловны были дети. Она еще так свежа.
— И прекрасна, прибавьте!
— Действительно, прекрасна.
В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный брыль, поклонился. И когда мы проехали мимо его, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж. И, вероятно, думал: «Чорт его знає, що воно таке — чи воно паны? Чи воно жиды?» Паны, да еще из балу возвращающиеся.
Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как жиды на шабаш поспешают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем, — пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигалися шагом и только наши особы торчали из глубокой жидовской брички, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.
Несколько раз до меня долетели какие-то жидовские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил. И просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что то были нехорошие слова.
— Такие скверные, — прибавил он, — что об них и думать нехорошо, а не то чтобы еще их говорить.
Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:
— Уни хашавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег — все равно, что мертвый.
Настоящая жидовская поговорка.
Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот. Такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялося! Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать перед самым носом, выглянули верхушки тополей, потом показалися зеленые маковки верб. Потом целый лес расстлался под горою, а за ним во всю долину раскинулося, как белая скатерть, тихое светлое озеро.
Прекрасная, душу радующая картина!
Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.
— Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком, а он пускай остановится около млына под горою.
Сделавши наставление жиду, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва была защищена живою изгородью, т. е. усажена крыжовником.
Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), и пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кой-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк. То вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.
Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и поворотили влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылося во всей красе своей тихое светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелося окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично. Тем более, что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в лице.
— Антону Адамовичу имеем честь кланяться! — закричал вожатый.
Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару из лица, сказала:
— Добро пожаловать!
Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка, или фермы. Свежий коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:
— Очень рад.
Я с своей стороны проговорил также какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:
— А что, испугали! Испугали!
Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спряталися за куст черемухи.
Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.
Дивное впечатление произвела на меня эта тихая грациозная картина.
Влед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко вышла молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.
Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.
Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.
Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.
— Ничего, ничего, не бойтесь. У нас, слава богу, есть на что полюбоваться. — И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно: — Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повеселилися на бале.
И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.
Это была лет тридцати пяти, по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки; даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-ни- будь чиновницу средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то, что она была одета, как настоящая барыня.
— А нуте вас с вашим балом, — проговорила она скороговоркой. Остановилася в дверях да и затараторила: — Прошу покорно в покои. Вы хоть и с балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что под- нялися.
Я пошел вслед за хозяйкою. А товарищ мой, как человек, знакомый с местностью, пошел отыскивать жида и распорядиться насчет помещения.
В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.
— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францовну с детьми.
На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме. И, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.
Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселися вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром.
Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, — так мило, так матерински мило она ухажиняля чя ними ы — моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки!» — подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастие видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.
Такова сила предубеждения против своего родного наречия.
За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.
Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях.
— Ведь уж, верно, там не обошлося без концерта? — прибавила она.
Я отвечал утвердительно.
— А каков виолончелист? Не правда ли прекрасный?
— Превосходный! — отвечал я.
— Это наш большой приятель, и кроме того, что он артист превосходный, но нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? — прибавила она со вздохом.
— Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду. А про Адольфину Францовну и говорить нечего, — сказала она шутя и поцеловала гувернантку в загоревшуюся щеку. Из чего я заметил, что она понимает по-русски.
Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил как что-то близкое моему сердцу.
После чаю Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.
— Як ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду. — И он взялся за свою шляпу. И мы последовали его примеру.
Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульной. Чисто немецкая штука!
Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялася сенями на две половины: собственно на хату с комнатою, и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека. В сенях — лаборатория; это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика, реторты, стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствии Антона Адамовича.
Около стен стояло две кушетки, а между ими, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.
— Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведаюсь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания.
И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.
— Не думал я, отправлялся на бал, попасть в кабинет ученого-путешественника и, вдобавок, путешественника скромного, — подумал я вслух, когда мы осталися одни.
— Да это что еще! — сказал мне товарищ. — Вы загляните в комнату, вот где редкости.
И действительно, редкости. На всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей. А посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины, со стеклянной крышкой, заключавшей в себе нумизматические редкости Антона Адамовича.
Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер 17 века с глубоко удавленным клеймом, изображавшим московский герб.
— Не правда ли, любопытная монета? — сказал мне товарищ, указывая на талер. — Или, лучше сказать, любопытное клеймо.
— Ну что оно значит, это клеймо? — спросил я его.
— А вот, изволите видеть, когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетьманом Иван Золотаренко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю, то, не знаю, почему-то наши козаки не захотели брать жалованья московскою монетою; вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.
Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маненько приуснуть.
Я обошел весь сад, или лучше сказать парк, и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни — и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.
Из саду вышел я на греблю, усаженную вербами, полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе и, пройдя плотину, я очутился в селе. Село всего-навсего, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина.
«Вот, — подумал я, — и невеликое село, а веселое». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лощадей до Прилуки.
— Можно, чому не можно, — хоть пару, хоть дви пары, так можно!
— Хорошо, так я зайду после поторгуюсь.
— Добре, поторгуйтесь.
За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал подведомственный ему ток или гумно.
Я как не агроном, то и смотрел на все поверхностно, и расспрашивал тоже поверхностно. И из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового.
Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дескать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе вино- куренку, хоть небольшую, токовой ответил:
— Бог их святый знає,— я и сам им говорил, что построить хоть небольшую. «Зачем, — говорить, — чтобы пьяныць голых пускать по свиту? Не нужно!» Они у нас такие чудные, я боже сохрани, как они того вина не любят.
— Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?
— Ни одного.
— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?
— А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там бенкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того: в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано — мужик дурак.
«Зато паны умудрилися! О филантропия!» — подумал я и простился с токовым.
Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и как красавица любуется своею прелестью перед зеркалом, так он любуется собою в прозрачном тихом озере.
«Благодать!» — подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.
К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза, и с виолончелью. Мы встретилися с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.
К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку и сказала:
— Вы, должно быть, благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.
Я молча поцеловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.
— Посмотри, посмотри, что наш гость делает! — сказала она, обращаясь к мужу.
— Ничего, ничего, — говорил Антон Адамович, улыбаясь. — А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщем покур- тизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?
— Ив самом деле лучше. Прошу покорно, господа, — сказала она, обращался к нам, и мы пошли обедать.
Много ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире?
Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.
Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное! благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем — с гувернанткою. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.
После обеда мы, т. е. мужчины, отправилися к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как я человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сюптюк прилег, опустился на ароматное сено. И за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.
— Какие милые, прекрасные дети! — сказал я.
— И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, — продолжал он, — если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!
— Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери?
— Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама. А главное — красавица. Красавица, которая конфузится, когда ее кто спросит о здоровьи ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало, — а 17 сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст визиты, смотрит — другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, надо и в Петербург съездить. «А то, — говорит, — между этими хохлами совсем очерствеешь». Так, сами посудите, до детей ли ей при такой жизни. И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.
— Я с вами согласен, что она умно сделала; но хорошо ли, это другой вопрос.
— Конечно, здесь сердце матери спрятано под себялюбием светской красавицы. Я слышал, однако ж, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт. «В Полтавском, — говорит, — они хохлач- ками сделаются».
— И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала оградить их француженкою-гувернанткою да немкою-горничною?
— Какое! Немецкая горничная сама скоро сделается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францовне вздумалося учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, — да вместо того чтобы по-русски, выучила ее по-малороссийски. Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.
— Непременно.
— Вон они! Вон они! — услышали мы невдалеке детские голоса. И едва успели мы надеть сюртуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухвативши за полы сюртука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая: — Пойдемте! пойдемте! Вас мама просят играть.
Пройдя несколько шагов вслед за «арестантом», я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францовну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво ответила мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке она прочитала мне два стиха:
И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что не знай я, что она француженка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.
Любезничая с mademoiselle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста. И когда подошли к дому, то наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню. А Лиза и Наташа перед крылечком, с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:
Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки и целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.
Одни простодушные счастливцы могут группировать из себя подобную картину.
В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою — старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревинною, а дерновою. Хатка — это была мастерская или рабочая Марьяиы Акимовны. Здесь сушилися фрукты, варилися варенья и созидалися разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.
В эту хатку на все лето выносилося фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталася в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.
Часто и долго сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал — и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодел.
В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.
После чаю в хатке зажгли свечи. М-11е Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И после нескольких аккордов тихо, стройно, как будто с неба, раздалася одна из божественных сонат божественного Бетговена.
Мы все осталися под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.
За сонатой Бетговена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема». И в заключение совершенно неожиданно:
Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.
Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.
Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно просто и так возвышенно изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.
Кончивши вариации, артисты наши вышли из хаты и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединилися к ним — решительно ничего не помогло. «Завтра, — говорит, — я вам сыграю, а то сегодня это значит — после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. Вон, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает». И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из- за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.
Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.
Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, — он меня просто приворожил к себе.
Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием, или, лучше сказать, с участием, слушал.
— Отца, — говорил он, — я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, — а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан, или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатилися из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.
Сотский похоронил ее за тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или банду- рист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.
И, знаете, мне понравилось мое новое положение, Потому «іто я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне нравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:
На мори сыньому, на камени билому Ясный сокол квылыть-проквыляе…
Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.
Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам йдут господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилася перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! — И, обратяся к господам, сказала: — Я его непременно возьму к себе в пажи».
Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть, сначала на скрипке, а потом на виолончели. Вот вам моя простая история, — прибавил он и замолчал.
— Грустная, правду сказать, история.
— Что делать — прошедшее мое действительно грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то и не знал бы, что с собою делать.
— Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.
— Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.
— О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.
— Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?
— Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте мне хоть изредка. А о результате вашего письма Михайлу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.
И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем.
— Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях.
В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Вирги- лий мой так усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.
На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети и те даже заплакали, услыхавши о таком вашем неделикатном поступке.
От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею.
— И не думайте, — говорила она, — и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видела, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?
— Такой я немец, как ты немкиня, — проговорил Антон Адамович и засмеялся.
— Вот и Тарас Федорович останется у нас, — продолжала Марьяна Акимовна. — Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцевать хоть целый день гречаныки.
— И метелыцю, мамаша, — проговорили разом обе девочки.
Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий
мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.
— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговооишься.
Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.
Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалося мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, — а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаныки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной, а глядя на этот эскиз, я как будто снова любуюся этой живой картиной и даже слышу скрипку и прищелкиванье пальцами немецкой горничной.
Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.
На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас как самых близких своих друзей гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселися в спокойную нетычанку Антона Адамовича, запряженную парою добрых коней, и покатилися по гладкой извилистой дорожке.
Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамычу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатилася быстрее и быстрее, и группа наших друзей стала едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина — и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.
Мне стало грустно, так грустно, как будто расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и сталось.
Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалася нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря.
Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще не оштукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча.
— Что это такое за урод торчит, — спросил я у своего приятеля.
— Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.
— И верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил этакую штуку?
— Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник!
— Как же он мастерски подделался под византийский стиль!
— Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилуки в Нежин, так увидите в селе помещицы N настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать меценат наших дней, N, и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего!
— Честь и слава вашему художнику!
Тем временем мы въехали в город. А через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как-то: пословицы, присказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.
И мы расстались, и рассталися надолго.
…Расставаяся с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним надолго-долго расстаюся. Я тогда думал, что авось либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуку и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы N и трудами патентованного художника, архитектора N; а в Прилуке погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим по-прежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.
Так я тогда думал. А вышло, что человек распределяет, а бог определяет. Вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилуки) не только что не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилуки, и моего автомедона, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, — я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины ни даже звука родного не слыхал.
Вот что иногда судьба с нами делает!
После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюся я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспоминал я серенький домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я из телеги, вхожу на двйрик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С.
— Здесь! — отвечают разом оба мальчуганы.
— Дома он?
— Нет! Они в училище.
— А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?
— Есть маты дома, только они опочивают. Мы ее разбудим?
— Не нужно, не будите. Я после зайду.
И я поехал на почтовую станцию.
День был прекрасный и уже клонился к вечеру. И я, сложивши вещи свои, т. е. чемодан и кошомку, на крылечке станционного дома, а подорожнюю отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадями.
Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжую, но оригинальной архитектуры, построенную полковником при- луцким Игнатом Галаганом, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маетностями в том же полку.
Пока я срисовывал сей памятник знаменитого полковника, солнцу повисло над горизонтом, и толпа школьников показалась на улице. А за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигура с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.
Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал:
— Антикварий! Антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменились! Совсем было не узнал!
— Спасибо еще, что хоть вспомнили!
— Да я вас всегда вспоминал, да только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келии.
И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.
У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.
— Да, так вот вы и попутешествовали, — проговорил он грустно, — и свет божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали. А я как залез в этот темный угол, так и на свет божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.
И долго мы беседовали, воспоминая каждый из нас свое прошедшее. И между прочим он мне рассказал: он вскоре после нашего расставанья женился на благородной и прекрасно воспитанной, хотя и бедной, девушке.
— И думал я с нею век свой прожить в счастии и любви. Но бог судил мне в одиночестве век свой коротать. — И старик заплакал.
— Братец! — раздался женский голос из-за ворот. — Идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.
— Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрице! — прибавил он. — С нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили. Да послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрице.
— Пошлю, братец.
— Да… На третьем году, — продолжал он с расстановкой, — нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я.
В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлися в один куток, да и делим свое горе, как нам бог помогает. Детей, я думаю, с божиею помощию, в гимназию… а там…
— Братец, — раздался снова женский голос из-за ворот, — идите в комнаты. На дворе роса и холодно, а вы только во фраке.
— Сейчас! сейчас, сестрице! Пойдемте в нашу хату, а то и в самом деле как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.
И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.
Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и
ппинапяженя жрнгкпю nvitmn
На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!
В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайди вы в комнату холостого офицера: изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-ни- будь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.
Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.
— Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.
Я поклонился.
— А они, сестрице, мой старый добрый знакомый NN.
Я снова поклонился. А она проговорила:
— Прошу садиться.
Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:
— Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрице?
— Уже легли, братец, — отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.
— Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрице? Они у нас, знаете, однолетки, — прибавил он, обращаясь ко мне.
— Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.
— Уже по двенадцатому! Боже мой, с какой быстротою летят наши старые лета! — проговорил он как бы с самим собою. — Двенадцать! Двенадцать! Да!.. — почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. — Чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?
— Не знаю! — отвечал я.
— От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?
— Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.
— Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.
Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их братцу, спросила:
— Эти, братец, бумаги?
— Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, — сказал он, — обращаясь ко мне, — вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.
И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остано- вясь на лоскутике синей бумаги, он сказал:
— А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?
— Помню, — я говорю.
— Вот я и исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете… Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.
И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:
— А знаете что? Сегодня у нас середа. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие — помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.
Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.
Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случалось читать подобное письмо.
Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.
Вот что писал мне мой бесталанный друг.
«Я был близок к смерти, или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталося без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!
Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю, какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.
После бала, или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого, концерта, я вас так полюбил, как родного моего брата, так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалася рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Воображаете себе ее положение. Красавица — и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонарроти, когда ослеп, как она, бедная, страдала.
В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук, на станции Сыруты умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.
По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была невелика.
Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.
О, лучше бы я никогда не видал свету божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.
После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел — сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне.
Меня стали посещать по средам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.
И во єдину из суббот сказали мне, что наша Софья Са- мойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы остались сиротами.
Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох, проходя мимо моей койки, и не останавливался.
Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.
Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень прогулять в саду.
Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике, или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.
На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как- то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:
— О чем вы так грустите?
— О том, я думаю, о чем и вы: о здоровьи.
Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей:
— Здоровье ваше возобновляется, да о здоровьи так и не грустят, как вы грустите.
— Да, это правда, — сказала она и закрыла глаза рукою.
Служитель опять загнал нас в палаты.
Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка.
Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такою грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.
— Вы, должно быть, страшно несчастны? — сказал я ей, садяся на скамейку.
— А вы счастливы? — спросила она, взглянувши на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением. — Всмотритеся в меня, — сказала она.
Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.
— Неужели вы меня не узнаете? — спросила она едва внятным шепотом.
— Не узнаю, — ответил я.
— Так я, должно быть, страшно переменилась? — И, немного помолчав, сказала: — Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18… года. Что, вспомнили?
— Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич?
— Я, — едва она проговорила и залилась горькими слезами.
На другой день мы снова с нею встретились у заветной
скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.
Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m-lle Тарасевич, должна заставить и немого говорить, и глухого слушать.
О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке.
Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, что если мы видим подлеца и не показываем на его пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!
С этого я и рассказываю вам историю m-lle Тарасевич и кача- новского пана. А вы с нею что хотите, то и делайте. А если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.
Была у нас помещица П. уезда, богатая помещица, душ около 4000, бездетная вдова, старушка, добрая такая, благочестивая, да бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала она в Киев на поклонение да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского. (Она, может быть, бедная, в летах заматерелая, о наследнике чаяла, — не знаю.) И сказано: человек из ума выжил — передала все свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца мужа. А он, не будучи дураком, повернул все по-своему. И то правда, ведь не на старухе же он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной. Выстроил великолепный театр. Выписал артистов. И завел театральную школу, разумеется, крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из них гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение втайне не могло процветать, только странно, что последняя об нем узнала старуха жена. А узнавши все это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре богу душу отослала. На смертном одре она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю: т. е. положить капитал в банк и на проценты его воспитывать трех сирот- девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.
Он ее и исполнил, да только по-своему.
После смерти жены его выбрали предводителем дворянства, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.
Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игра на гитаре), танцы и сценическое искусство. И все это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.
В число этих-то несчастных воспитанниц попала и m-lle Та- расевич. Когда они уже порядочно подросли, то которые покрасивее были, сделалися, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема — не как рабыни, а как благородные султанши. М-11е Тарасевич хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное, была тощенькая, и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала своим счастливым подругам (потому что они и на балах являлися, и танцевали, и на театре являлися перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами; да и в самом деле, не образовывать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала. А возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке, и вышло то, что она не знала, что с собою делать; пуще прежнего похудела, — так и думали все, что умрет. Уже и. в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест намогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялися, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубовый; выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал распятие, а на другой скорбящую божию матерь. А внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18… года…месяца…числа». Только случилося так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смер- тию. Она гладила утюгом своей барыни платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхватила у нее из рук утюг да и хвать ее «нечаянно» по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное не знаю. А крест и сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест — это своего роду картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг фигура. Да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам рассчитывал на этот эффект: смотрите, дескать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.
— Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом, — так продолжала свой рассказ больная. — И когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыгрываются. Моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно когда весь оркестр, как лес или море вдали, шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства. Звуки эти мне казалися чистейшею, отраднейшею молитвою, выходящей из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталася в том болезненно-блаженном состоянии!
В доме было прекрасное фортепьяно, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он. меня научил читать ноты и показал первые приемы на фортепьяно. Он… О, я давно прокляла его за его науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл мне эту божественную, погубившую меня гармонию!
Я быстро поглощала его первые уроки. Так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа.
Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравила- ся сцена. Я прочитала все, что было в нашей библиотеке драматическое (репертуар нашего домашнего театра мне не нравился), начиная с «Синеуса и Трувора» Сумарокова до «Гамлета» Висковатова. Я дни и ночи бредила Офелией. А делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина. Успех был полный. И я окончательно погибла!
Когда видели вы меня в Качановке, я уже тогда бредила петербургской сценой; домашняя для меня была слишком тесна. На несчастие мое, того же лета заехал к нам Михайло Иванович Глинка. Он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.
Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепьяно, он решил, что я великая артистка. А я — о горе! мое горе! — я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на моем месте?
Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого, весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ротом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас все лето провел.
Кроткое, благороднейшее создание!
Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы «Руслан и Людмила» арию, помните, в чертогах Черномора поет Людмила? Только что я кончила петь, посыпались аплодисменты, разумеется, не мне, а автору. А когда все замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из залы. С тех пор мы с ним сделались друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «Прециозы». И он каждый раз, слушая меня, плакал.
Спустя два года после моих успехов в Качановке г. Арнов- ский с своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец он согласился с условием. Но с каким условием! Вы понимаете меня?? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я все забыла цля искусства и для столицы, все! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы! — Нищая! в больнице и, вдобавок, под именем его крепостной девки!
Она за слезами не могла говорить.
На другой день я услышал от нее подробности такого рода. Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.
Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременной и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Качановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки.
Вот вам и вся недолга.
Я пробыл еще две недели в больнице, и каждый день, в урочные часы, выходил в сад, и садился на заветную скамейку, и дожидался несчастной больной.
Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.
Страдальцы! Воображайте так, и вы будете хоть на полграна менее страдать.
Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения: «Что № такой-то?» И он отвечал мне совершенно равнодушно: «Лежит». За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: «Что № такой-то?» «В покойницкой!» — ответил он мне и пошел за своим делом, быть может, за длинною плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого уже нестрадальца вынести в покойницкую.
На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то №, такого-то. И мне было позволено.
Я пригласил своих товарищей. (Вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, т. е. квартет.) И мы вынесли ее на Смоленское кладбище. А после панихиды пропели «Со святыми упокой» да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.
Вскоре после этого прислал нам управляющий имением плакатные билеты, и мы осталися еще на год в Петербурге. И знаете, что мы сделали? Прикинулись немцами, да и пошли по улицам спотешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было, мы почти что каждый день по рублю серебра домой приносили.
За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра. И каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, т. е. для Серве. Т. е. приобрести несколько его этюдов для виолончели. А главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к великому посту в Петербурге. Дай-то бог. Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать Серве. Неужели слава так могущественна?
Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хоте- лося удержать их от этого соблазна. Да как удержать?
С этой благой мыслию пошел я однажды на Крестовский остров в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и сяк, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился. И мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи. И спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую неделю с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло. А следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.
Тут же, в трактире, мы стали получать заказы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и т. подоб. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем. И мы зиму прожили припеваючи.
С Песков мы перебралися к Николе Мокрому. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.
В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга и Серве, что мог достать. Большой театр посещал я постоянно два и три раза в неделю, и хоть из райка, а я видел и слушал все, что было лучшего в ту зиму в столице.
Прошла, наконец, и бешеная масляница. Прошла и первая неделя великого поста.
О незабвенная афиша!
Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочитать афишу.
В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект. И издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеткой у подъезда дома г. Энгельгардта. Я прибавил шагу. Подхожу к подъезду, или, лучше, к проволочному ящику, и мне показа- лося, что я вижу самого С е р в е и Вьетана. А это были только буквы.
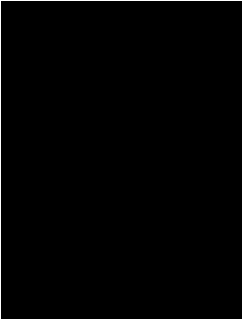 |
Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего смысла. А смысл был такой, что Серве дает концерт сегодняшний же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет. И целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александрийскому и Михайловскому театру прочитать афишу.
В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполовину освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы. Потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого 5-рублевая депозитка ничего не значит. Ну, да бог с ним, пускай думает, что хочет.
Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: «Уж семь часов», — я затрепетал, а сердце у меня обдалося каким-то холодом. Как будто в одно мгновение теплая кровь оставила его и вместо крови потекла холодная вода.
Увертюра кончилась, которую я не слушал. Оркестр отдохнул. Поправился. И через несколько мгновений выходит Серее и за ним Вьетан. Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее!
Лист перед Серве — фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего.
Я смутно помню, как я вышел из залы. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.
С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу.
В продолжение поста я читал только афиши. И только раз был в Большом театре, когда давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужно по крайней мере Михайловский манеж.
Еще давали концерт в Патриотическом институте, в котором участвовал, между многими знаменитостями, и граф Вельегорский.
Чего бы я не отдал, чтобы послушать его! Но увы! свет сей не для всех равно создан!
Как раз в великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей середе выступить в поход с севастопольской партией.
К середе мы были совершенно готовы. И рано утром в середу вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка с инструментами за плечами и грустно, молча потянулися к Московской заставе.
Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнусно.
На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли наконец в Прилуку.
Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.
Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Наконец через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.
В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщайся друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне сообщил, что промотанное и разоренное имение покойного Г. купил с публичного торгу г. Арнов- ский и что хотел было взять Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил, и что m-lle Адольфина оставила их вместе с Лизою.
На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все, как было и прежде, только Лизы и m-Ile Адоль- фины недостает. А хозяева ее, кажется, и помолодели, и подобрели.
Солнце уже спускалося за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшиеся мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестилися. Меня это немало удивляло.
«Что бы такое значило, что они крестятся?» — спрашивал я сам у себя. Входя в село, играющие на улице дети, завидя меня, бросали игры и, остановясь около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестилися. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежалися.
Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня: «Куда це вы гробык несете? У Дигтярях священык умер, поховать никому буде, бо нового попа ще не прыслано».
Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.
Подойдя к самым воротам сада, я остановился в раздумье, заходить ли мне к ним или пройти мимо. И только было решился на последнее, как послышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:
— Мамо! мамо! Нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала.)
— Где ты видишь нищего? — спросила ее Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.
— Он за воротами.
И они подошли ко мне на несколько шагов. И Наташа бросилась ко мне, крича:
— Мамо! мамо! Это не нищий, это наш Тарас Федорович!
Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего:
оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла за руку, сказавши: «Войдите», — и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется, бессознательно. Впрочем, ей уже 12 год.
И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.
Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.
— Подождите меня здесь, — сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате. — Я сию же минуту, — прибавил он уже за дверью.
В хате его было все по-прежнему, даже запах, воздух был прежний, и мне казалося, что я вчера только вышел из этой комнаты.
Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамыч, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.
— А сапоги найдете здесь, в этой комнате, — сказал он, указывая на боковую дверь. — А когда все закончите, приходите чай пить. Мы вас ждем! — прибавил он, уходя из хаты.
Преобразившися, я пошел в дом. На крыльце встретила меня Наташа и, схватя за руку, закричала:
— Мамо! мамо! Посмотрите, я его и не узнала! — И с этими словами ввела меня в комнату. И, сажая меня на стул около стола, прибавила: — Садитеся вот здесь, как раз против меня и против мамы. Мы на вас будем смотреть. Ведь мы вас давно не видали!
Я осмотрелся кругом и сел. С минуту длилося молчание. Марьяна Акимовна, молча глядя на меня, заплакала и проговорила:
— Теперь нас только трое. А помните, было пятеро.
И, наливая чай, рассказала знакомую уже мне историю с прибавлением, что m-lle Адольфине чрезвычайно не хотелося расставаться с ними и что они ее насилу уговорили перейти к г. Арновскому, что она там будет необходима для Лизы, потому что Лиза такая бойкая.
— Что Наташа против Лизы? Это просто ангел у меня, а не дитя, — прибавила она, целуя Наташу.
Марьяна Акимовна начала было спрашивать меня о моих похождениях, но Антон Адамыч перебил ее, говоря, что для этого будет завтрашний день, а что сегодня нужно спросить у гостя, не хочет ли он есть и спать?
После ужина пошел я в хату, где уже для меня была приготовлена постель.
«Боже мой! — подумал я. — За что эти добрые люди так полюбили меня? Встречал ли отец с матерью с такой любовию своего сына после долгой разлуки, как они меня встретили? Добрые, благородные люди!»
На другой день поутру Антон Адамович съездил в Дигтяри и исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни.
Весь август месяц я прожил в кругу этих добрых людей, совершенно как сын у отца и матери. И совершенно забыл о моем грустном пребывании в Петербурге и о моем горьком странствии, несмотря на то, что я каждый день повторял свои рассказы.
В раю праведники едва ли так блаженствуют, как я теперь блаженствую.
Наташа от меня совершенно не отстает. Просит меня, чтобы я ее учил на фортепиано, хотя она сама не хуже играет. Просит меня учить ее по-французски говорить, а сама меня поправляет. А когда я по вечерам рассказываю о моих приключениях на этапах, она плачет пуще самой Марьяны Акимовны. Просто она меня чарует своею привязанностью ко мне.
В четвертый раз принимаюсь я за письмо это и не знаю, удастся ли мне хоть теперь кончить. Просто свободной минуты не имею. Представьте, что мы сидим иногда напролет ночи в уютной хатке Марьяны Акимовны, она за фортепиано, а я со скрипкою.
Виолончель я думаю совсем оставить. Да и у кого хватит духу играть на ней, слышавши Серве?
Конец моего блаженства близится: на днях я оставляю ферму и явлюся к моему новому властителю. Не предчувствую ничего для себя доброго впереди. А впрочем, все в руках божиих.
Я это письмо так долго писал, что, наконец, привык к нему, и мне грустно стало, когда я его кончил. Я мысленно никогда не расставался с вами, но в это время я с вами просто жил и открывал вам все мои мысли и чувства, и теперь как подумаю о предстоящей мне жизни, — а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать, — то мне теперь уже тяжело.
Напишите мне хоть три слова, напишите только, что вы получили мое письмо, и я буду счастлив.
Прощайте, незабвенный друг мой, не забывайте преданного вам и бесталанного музыканта N.
По прочтении письма я думал было заснуть хоть немного с дороги, но не тут-то было. Предо мною стоял, как живой, мой бедный музыкант с своей виолончелью и, глядя на меня, грустно улыбался, и так грустно, что я хотел было достать огня и прочитать снова его печальное послание, только смотрю — в окнах уже белеет. Я накинул на себя шинель и вышел на крылечко. Не прошло пяти минут, как подходит ко мне Иван Максимович и, после обоюдных приветствий, жалуется мне, что ему тоже всю ночь не спалося и что он давно уже ходит и посматривает, не выйду ли я.
— Мне, не знаю почему, казалося, — говорил он, — что и вам тоже не спится. Я хотя и не читал письма Тараса Федоровича, но знал, что оно невеселое, не правда ли?
— Правда! — отвечал я. — Даже очень невеселое.
— И оно, конечно, вам заснуть не дало?
— Действительно, так.
— Я так и думал. Но это все ничего, а вы послушайте, что после с ним было!.. А впрочем, я вам лучше прочитаю. Я, знаете, на старости туды же пустился в литературу. Да что, думаю, ведь не святые же горшки лепят. Предмет же и сам по себе интересный, а если его обработать, так это выйдет просто роман. Вот я и принялся… А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает. Ей, бедной, тоже что-то не спалося в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем- ка, это будет лучше литературы!
И действительно, старушка нас дожидала с чаем, только не в комнатах, а в садике, в летнем кабинете братца. Садик заключал в себе несколько тощих фруктовых деревьев и дощатый чулан, приткнутый к соседнему забору. Это-то и был летний кабинет Ивана Максимовича.
Несмотря, однако ж, на нищету этого садика, в нем было так все уютно, так спокойно, что я невольно позавидовал бедному Ивану Максимовичу.
Напившись чаю под кустом цветущей бузины, Иван Максимович повел меня в свой кабинет. Усадил на дощатом обнаженном диване и, вынимая из столика бумаги, сказал:
— Теперь мы в тиши уединения займемся литературою. Вот эти бумаги, — сказал он, откладывая в сторону несколько листов, мелко исписанных. — Эти бумаги принадлежат вам. Помните, вы просили меня когда-то собирать для вас все, касающееся истории, философии и поэзии нашего народа. Тут всего есть понемногу. Исторические сведения, касающиеся собственно города Прилук, сообщил мне покойник отец Илия Бодянский. А прочее я записывал где попало. А вот это уже чистая литература, — говорил он, разбирая другие бумаги. — Я описываю все случившееся с нашим музыкантом со дня его выезда в Петербург, со слов его же самого, только украшаю иногда слог на манер Марлинского (божественный писатель!). Даже и название даю моему рассказу вроде незабвенного Марлинского, т. е.: «Музыкант, или Две сиротки». Помните Лизу и Наташу? Они у меня тоже играют немалую роль.
Так с чего же нам начать? Он вам, верно, в письме своем описал все, хотя вкратце, по день прибытия своего на родину?
— Действительно все, — сказал я, — кроме обратного своего путешествия из столицы.
— То есть следования по этапам. Я так и думал, потому что и мне немало стоило труда выпросить у него некоторые подробности этого, можно сказать, живописного путешествия.
И Иван Максимович улыбнулся своей остроте.
— Так я начну вам именно с путешествия.
— Уже вечерний солнца луч златил величественное и широкое ложе реки Луги (так начал читать Иван Максимович), когда мы перешли бесконечно длинный и разными вавилонами на сваях воздвигнутый мост через едва выглядывавшую из камышей реку Лугу, то лучезарный Феб уже скрылся за горизонтом в объятиях Фетиды. Но так как в полярных странах летние ночи бывают довольно ясны, то мы засветла еще вступили в город Лугу. Нас, разумеется, препроводили в острог… Но тут, знаете, картина не авантажная, — говорил Иван Максимович, — и потому-то я ее не описываю. По-моему, чисто изящного произведения не должны касаться картины грязные, хотя это теперь, к несчастию, вошло в моду. Но я все-таки люблю придерживаться классического стиля. Да и где нам, старикам, переделывать себя.
Вот они (я вам буду простые происшествия рассказывать, а что коснется поэзии, то уже прочитаю), так вот они на другой день у этапного командира испросили позволение, потому что у них была дневка и к тому же день праздничный…
Так вот они и испросили позволение (разумеется, предположивши ему часть заработок) пройтись по улицам с инструментами и дать несколько концертов.
Предприятие (несмотря на то, что город Луга, можно сказать, нарочито невеликий), предприятие их увенчалося полным успехом, так что, несмотря на значительную часть приобретения, отделенную ими командиру этапа, у них хватило пропитания до самого Порхова. Близ Порхова я описываю (по его же рассказу) длинную тонкую возвышенность вроде циклопического вала, по которому тянется почтовая дорога почти до Порхова, потом самый Порхов и величественную Шелонь, на левом берегу которой высятся древние развалины замка.
На счастье их, в Порхов они пришли как раз на духов день. Пошли по улицам на другой же день с музыкою, как и в Луге это сделали. Но только Порхов не Луга: тут их забросали гривенниками. Один приказчик какого-то мыловаренного завода Жукова (знаменитого табачного фабриканта) разом выкинул три цалковых. Им так повезло в Порхове, так, что они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своих инструментов до самых Великих Лук. А из Великих Лук у них уже своя была лошадка, правда, немудрая, но все-таки своя.
Так как они приближалися к стране постоянно голодной, то есть к Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города лошадка везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.
Трогательные картины случалося ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные сопутники разврата. Все это я описываю в назидательном тоне.
Так, например, когда они проходили чуть ли не У с в я т ы, то вместо того чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленями бросилась к арестантам и стала просить хлеба. А когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за мальчишками бросились и взрослые, и старики. Голод не знает стыда.
Пройдя страну сетования и плача, они вступили наконец в благословенные пределы нашей милой Малороссии. И наконец, в нашу скромную Прилуку. В тот же вечер пили мы чай с нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.
Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.
— Сделайте милость, распоряжайтесь, как вам угодно, — сказал я ему.
— Я вот что сделаю, — говорил ой. — Я схожу ненадолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в которых он изображает большею частию состояние души своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочуем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. Bene? — прибавил он, сжимая мою руку.
— Benissimo, — отвечал я.
И мы расстались.
Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее.
Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их не трудно было и отыскать.
И первое из них такого содержания:
«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюся у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение. Но что делать? Истина! Теперь мне лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами.
Что это вы к нам никогда не заглянете? То-то бы наговорились. Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите. У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде таки любили увеселение, — я этой любви обязан и знакомством моим с антикварием, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите об нем какое известие.
Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем я там никогда меньше трех дней не гощу. Вот мое одно- единственное счастие. И правда, великое счастие! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу не удавалось так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей.
А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка! Что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год), сколько глубокого чувства и недетского ума. Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепьяно. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. А Антон Адамыч просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.
Странная, однако ж, психологическая задача. Например, Лиза две капли воды похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею любуюсь. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.
Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.
М-11е Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сластолюбец! Он не мог обольстить ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.
Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание. Вы знаете, что я ей обязан французским языком. И теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов. Но все-таки лучше, нежели ничего.
Да, m-lle Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой подлой девки? Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионерок и перевела к себе. И все это, я подозреваю, по приказанию братца. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.
А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница. Уверяю вас, будет весело. Приезжайте, я хоть посмотрю на вас.
К этому дню я готовлю несколько квартетов, т. е. я с товарищами моего странствования. Только чур, не проболтайтесь, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.
Антон Адамыч готовит для нее же иллюминации и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли хорошо придумано! Еще я приготовил для Наташи сюрприз. Не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь: я ноты просто печатаю. А фронтиспис меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веленевой бумаге «Серенаду» Шуберта и украсил заглавный лист собственным изделием. Скопировал, правда, с ка- кого-то ничтожного романса. Ну, да это ничего.
Приезжайте 26 августа. Бога ради, приезжайте. Только непременно вместе с супругою».
Едва кончил я первое письмо, как вошел ко мне Иван Максимович, запыхавшись:
— Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете. Прочитываете. Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет. Не так ли?
— У вас слог прекрасный!
— Устарел маленько. Что же делать, мы и сами устарели. Не так ли?
Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянувши на рукопись, сказал:
— А, так вы на письме остановились. Продолжайте, продолжайте.
— Я уже кончил письмо.
— Кончили? — И, немного помолчав, он проговорил: — Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи. С моей незабвенною… — И он замолчал и отвернулся. — Музыка… иллюминация… Наташа! — приходя в себя, говорил он с расстановкою. — Да, прекрасно, торжественно-прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем. Этот праздник у меня торжественным стилем описан.
— Братец! пожалуйте обедать! — раздался голос сестрицы.
— Ив самом деле, лучше пойдемте пообедаем. А потом уже придем и прочитаем.
И мы пошли обедать.
…Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело просто сердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки), — не знаю, что именно было причиною, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.
Вещи мои были перенесены с почтовой станции, и я поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича. И во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.
Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.
«Милостивый государь Иван Максимович!
В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, все, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об этом. Это значит, что ваше горе вполовину уменьшилось, что вы наконец вспомнили и нашего антиквария, и наконец меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только бог его знает, где он теперь находится. А я для него, или все равно для вас, записал на днях дивную песню.
Иду я однажды по самой большой улице в селе, и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалине: не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только иду и вижу: по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во все горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:
Это ли не философия? Это ли не поэзия?
Мне хотелося сделать вариации на эту тему. Но увы! Музыка не в силах выразить этого великого сарказма.
Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей невознаградимой потери. Б ы й т е л ы — хом об землю, як швець мокрою халявою об л а в у, та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью. И буду играть для вас целый день. И все ваши и мои любимые малороссийские песни.
Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену?
В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и, между многими диковинными игрушками, привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент. Мастер, создавший его, не кто иной, как сам Прометей. Я спать ложуся и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое я. И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве.
А если бы видели, что делается с Наташей, когда я заиграю на этом божественном инструменте! Она цепенеет — и больше ничего.
А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так. Она сама не может равнодушно слушать виолончели.
Разносился я, однако ж, с своей виолончелью, как дурень с писаною торбою. А о главном-то чуть было не забыл.
Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизой собственною персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.
А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по зале, бьет горшки со цветами, ломает стулья. Совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает, если я не ошибаюсь: что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.
Мне по крайней мере не случалось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины Лета. Это совершенная женщина! Сестрица г. Арновского в тупик становится перед ее выходками.
Что, если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида или Клеопатра.
Месяца два тому назад однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на друга исподлобь. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся. А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина! совершенная руина. Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полураскрытые бесцветные глаза, желто-зеленый цвет лица и вдобавок серые жиденькие волосы и глухота делают его чем-то отвратительным, чем-то на полипа похожим.
Обед кончился, Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращался к г. Арновскому, сказала: «Прикажите заказать лошади, или я пешком уйду к Антону Адамовичу».
«Быть беде», — подумал я. И не ошибся. Через несколько дней дворня шепотом заговорила о женитьбе барина на Лиза- вете Павловне. А еще через несколько дней явилися уже и подробности, сопровождающие всякую будущую свадьбу.
Из Прилуки между тем приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола. Пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.
Это тоже что-нибудь да значит?
Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арновского засуетилася, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.
«К свадьбе! — подумал я. — Стало быть, между Лизой и г. Арновским эта вещь возможна. Странно!» Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: «Хорошо». А Марьяна Акимовна только головой кивнула.
Свадьба совершилася тихо. Ждали гостей много, но собра- лися только ближайшие соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.
Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г. Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.
Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалося. Но вспомните, что Лиза вырастала под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое созданье, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однако ж, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного братца. В этом она успела. Но главное — ей надоедал братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила. Т. е. она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приезжал стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалася помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя в доме.
Рассчитавшися так с своей милой наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением. Она взяла своего дряхлого мужа и отправилася в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами.
В доме оставалося все по-прежнему. Хозяйка обещалася зиму провести в имении. А до зимы, следовательно, мне в доме нечего было делать. И я, пользуйся сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, т. е. на ферму.
И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моем милом виолончеле.
Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что за скромница! Просто прелесть. Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично взрослой девице. Но никак не может: важничает, важничает, да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловаться Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный брыль без смеху смотреть не может. Милое! прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека. Таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.
С некоторого времени я замечаю, она начинает задумываться. И почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.
Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташею на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:
— Ну, коли не в Киев, то хоть в Качановку к Лизе.
Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.
Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны. Но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташу в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная, и ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие опасности впереди.
Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила:
— Несчастная она! — и залилась слезами.
Неужели она в эти лета так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастие?
Я завтра поеду в Качановку за партитурою Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь». Наташа еще не слыхала ее. Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепьяно и баса.
Приезжайте когда-нибудь в праздник — и вы послушаете. А между тем напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только, что вы получили мое послание.
Преданный вам ваш
На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовйча так:
«29 июня, в день Петра и Павла, ездил я в гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Виолончель с фортепьяно — это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они вдвоем испол- няют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ими существует высочайшая гармония самых нежных чувств. Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли эту серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая на музыкантов, шепнула:
— Не правда ли, парочка? Как вы думаете? Я, разумеется, в знак согласия кивнул головой.
Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил как бы сам с собою:
— Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.
«Благородное чувство! — подумал я. — Это значит стать выше предрассудка века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастие. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича. А сомневаться в искренности и чистосердечии этого благородного человека — значит не верить в бога. Подождем! увидим!»
В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжаются рассуждения в этом же роде, т. е. в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский! Мир памяти его.
Перевернувши несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.
Письмо начинается так:
«Незабвенный Иван Максимович!
Я так счастлив, так бесконечно счастлив, что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастие задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елисавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев. Благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распус- тил бы. А дворовых девушек повыдавал бы замуж с приданым по сту рублей, хоть за солдат. Г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц и больше ничего.
Жалко и отвратительно было смотреть на этого изувеченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться с своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю.
Елисавета Павловна, может быть, и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич его следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача.
Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.
Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делая, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталася со мною. Слушатели мои — самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я плачу, на нее глядя.
Марьяна Акимовна тоже будто бы переменилась. Тоже чего-то по временам задумывается и скучает. Один только Антон Адамович по-прежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы по-прежнему. Только что-то как будто бы скрывают.
Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.
Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташею играть «Горлыцю», а сам чуть было танцевать не пустился.
А, между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.
Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечерять, что он с управляющим уехал в Полтаву.
Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотрели друг на друга. Наконец проговорила первая Марьяна Акимовна:
— Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, Горькая!
И, минуту помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.
Я, как вкопанный, остался на месте. И долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.
После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Качановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужчины, я сходил на мельницу и пригласил старого мирошни- ка на ферму в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)
На рассвете я возвратился на ферму из Качановки, не узнавши ничего. Конторские писаря, пользуясь отсутствием управляющего, перепилися пьяны и на вопрос мой отвечали: «Уехали в Полтаву», — и больше ничего.
Наташа заснула. А Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом: «Что?» Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Качановке никто ничего не знает.
— Идите же в его хату та отдохните с дороги, — сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.
«Бедная женщина, — подумал я, глядя ей вслед. — Неужели ты так тесно одружилася с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля. И многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе еще больше, счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья- горемыки».
Прошел день, другой, наконец, и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху ни духу. На ферме все так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.
Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча вздыхала. А Наташа ей вторила.
Казалося, что мы уже навеки рассталися с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала. Словом, она походила на самую нежную любовницу.
В продолжение этих дней я только и слышал от нее, и то она говорила как бы сама с собой:
— Ну слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!
Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи. Но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.
Я ездил еще раз в Качановку и хотел было проехать в Прилуку к поверенному Елисаветы Павловны, но мне сказали в Ка- чановке, что и он уехал вместе с ними.
Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы ничего не бывало, ни малейшего движения. О предстоящем празднике и помину нет.
Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марья- ной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.
— А, и вы пришли! — сказал он, увидевши меня. — Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.
Я сел, и несколько минут прошло в молчании.
— Ну рассказывай же, — проговорила Марьяна Акимовна, — беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?
— А что я там видел? Грязь — и больше ничего!
— А что же ты там делал столько времени?
— Тоже ничего!
— Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?
— Так. Прогуляться.
— Так. Прогуляться! Слышите, люди добрые? Так. Прогуляться! Ах ты, седая, старая голова! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?
И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так простосердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.
Вечер прошел тихо и весело.
На другой день проснулись все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:
— А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?
— Приготовил, — проговорил я.
— Ну, так вставай же, одевайся, и пойдем поздравим, — она уже бегает по саду.
Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому
вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.
Мы вошли вслед за нею. А она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.
Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:
— Вот тебе гостинец из Полтавы.
Сказавши это, он, улыбаяся, сел около нее.
Наташа долго молча читала бумагу, и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича. А мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.
Наконец я поднял бумагу, посмотрел на нее и… то была моя отпускная!
Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и тени не было похоже на то, что я чувствовал.
— Виолончель тоже наш, — проговорил, улыбаясь, Антон Адамович.
Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.
— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, — сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. — Возьми эту бумагу, и отдай нашему другу, и скажи: вот, мол, тебе мое приданое. А мы с Марьяной Акимовною скажем: «Боже вас благослови!»
Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.
И вот уже более недели, как мне мое счастие спать не дает. И знаете, кто все это сделал? Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным, и богатым. Меня, крепостного музыканта. И, открывшися во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему, одним разом. Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2500 рублей. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось. Спасибо тебе, Елисавета Павловна. Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.
Теперь Антон Адамович хлопочет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя, — уж это я и сам не знаю для чего. А когда это сбудется, тогда мы с вами будем
видеться по крайней мере раза три в неделю. А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйтеся на совершенно счастливых людей.
Преданный вам музыкант N*
Дочитавши это самим счастием написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества. Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время, как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:
— Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?
— Все прочитал, — ответил я.
— И описание свадебного пира?
— Нет, ни читал.
— Так прочитайте, непременно прочитайте. Потому, что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.
— А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?
— Здоровехоньки. А о счастии и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им бог послал! Совершенный ангел божий!
Я снова задумался.
— А знаете что, Иван Максимович? — спросил я его через минуту.
— А что?
— Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.
— Ни за что. А коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что вам так вдруг…
— У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей. И, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.
— Это совершенная правда.
На другой день мы были на ферме. И я видел и был совершенно счастлив счастием этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.
15 января 1855
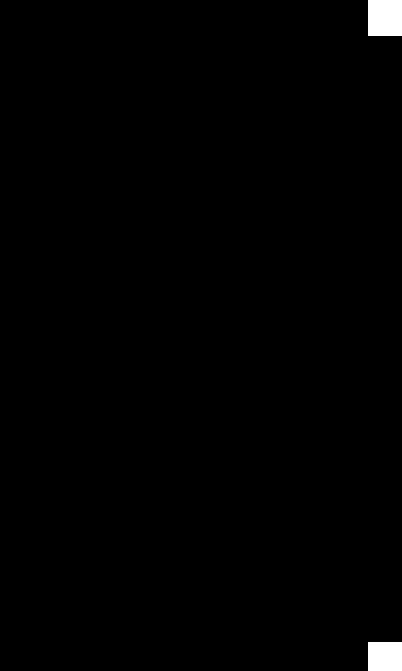 |
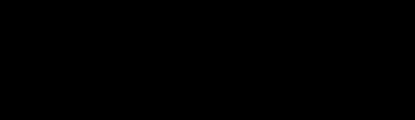 |
Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник день критический или просто тяжелый день и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебреника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? И выйдет какой-нибудь француз или, чего боже сохрани, куцый немец, а о типе или, так сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.
Но увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие1 заглянуть, например, хотя бы в «Письмовник» знаменитого Курганова2: там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова3 неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди, толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, — он лучше загнет лишний угол или возьмет у жида лишнюю бутылку самодельного рому, так называемого клоповика, чем выпишет мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, "Ключ к таинствам природы" Эккартсгаузена4 с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова5. Так где тебе, и слушать не хотят.
Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько. Помню только, что сбор в трубу трубили, поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.
Входит и выходит из села или городка полк, — это два великие события, а особенно если полк, чего боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города П[ереяслава], разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, потому что шел затяжной дождь или, как назвал его покойный Гребенка6, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села N., другие до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.
Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.
В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Трехбратних могил, свернула с дороги и скрылася в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, и пошла быстро по маленькой, поросшей шпорышом дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.
На другой день поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, кур и т. д., а голубей будет довольствовать уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалося, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решилась пригласить Никифора Федоровича.
Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже, однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.
— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается, — говорит испуганная Прасковья Тарасовна.
— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу, — говорит Никифор Федорович.
— А свитка, разве не видишь?
— Вижу свитку.
— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?
— Вижу, так что ж, пускай себе шевелится, бог с нею.
— Каменный ты человек, разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?
— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.
— А тебе не хочется?
— Нет.
— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.
— Хорошо.
И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшися от изумления, вскрикнул:
— Параско!
Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:
— Святый великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?
И, обратись к Никифору Федоровичу, сказала:
— Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.
— Ну, благодарим тебя, господи наш милосердый, — проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток, наградил таки ты нас, господи, на старости лет.
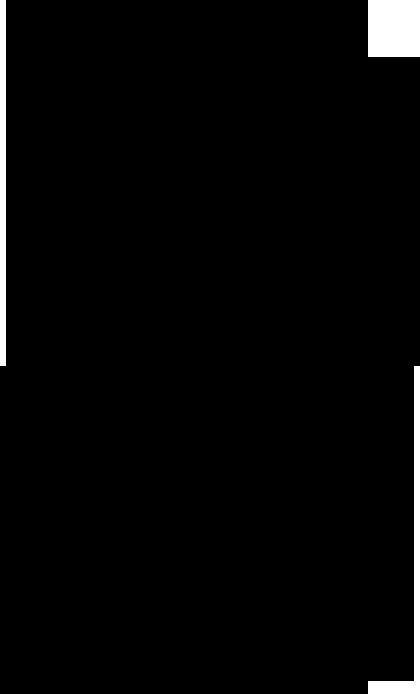 |
— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тымчасом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.
— Ах! и в самом деле! Посмотри, у них, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.
— Ну, так отнеси ж их, а я пошлю Клыма за Притулыхою, — сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.
Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче7, "смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души". Они, бедные, долго и усердно молились богу и надеялись, наконец и надеяться перестали. Они вже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое, — так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлою весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталося двое сирот, мальчик и девочка. Так что ж, и тех взял барышевский тытар, человек вдовый и бездетный, а богач темный, так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью господь посетил их праведную и добродетельную старость.
Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник, а в середу, перед вечером, приехал к ним искренний друг их Карл Осипович Гарт, таки аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубоссарах. Осип Карлович Шварц; понюхал табаку и, садясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:
— У наш городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали, а Карл Осипович продолжал:
— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускулов не доберешься.
— Вот что, — прервала его Прасковья Тарасовна, — у меня к вам просьба, Карл Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам господь деточек даровал.
— Как так? — вскрикнул изумленный Карл Осипович.
— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов божиих.
— Удивительно! — воскликнул снова Карл Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.
— А я попрошу еще и Кулину Ефремовну, она — тоже немка, вот вы и породнитесь.
— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы; но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.
Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог по обыкновению провести вечер со своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулину Ефремовну о предстоящем событии. Расставшися с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила моччание Прасковья Тарасовна.
— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она должна быть их настоящая мать.
— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до клечальной субботы, а то бог ее знает, быть может, она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.
— Хорошо, подождем, теперь уж недалеко зеленое воскресенье. Да… посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, ведь они обое мальчики.
Никифор Федорович достал киевский "Каноник"8 и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:
— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия!
— А нет ли еще других каких?
— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.
Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа.
Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник.
Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.
Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся богу, разошлися спать — Никифор Федорович в комору, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.
Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.
Для краткости этой истории не нужно было б описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор, и его мирных обитателей для того токмо, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: "Каков из колыбельки, таков в могилку". А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления необоримой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.
Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.
Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи наших дней и которые, возлюбя всем сердцем и всем помышлением французские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма9 (блаженны верующие!), я же, неверующий Фома, начну старыми словесы повествование мое тако.
Сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже по мере сил приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера, а хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно.
Начнем же так. На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба. И на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая или Тарасова ночь10 в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма, но зато окрестности окупались чистым Рюисдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезываются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградою церкви, до самого города, расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского вала издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фона. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского. Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.
Геральдический дуб11 дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III12, - не по примеру прочих голштинцев наг и гладен, — а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, к его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника Переяславского, цыгана Иваненка, и получил за женою в приданое хутор со всеми угодьями и несколькими сотнями пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.
Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором13 в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему не мало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день; право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры — Карпо Сокира, голштинец.
Юный Федор Сокира, оставшися единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочным мальчиком, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.
В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.
После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решилась отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилося иногда воровству и разбойничеству.
На бурсацкой скамье или на подольском базаре подружился он с знаменитыми впоследствии Иваном Левандою14, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что, [когда] однажды славные запорожцы, приехавши на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ермолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату [своему] приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчуя встречного и поперечного братскою горилкою из мыхайлыка, а прощавшийся со светом брат, знай себе, танцует впереди музыкантов, — прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, спрыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на великом Запорожском Лугу15, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой; потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия16 и, по уничтожении низового запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.
Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.
В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, вырастал, а отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы просветить сына, да, не додумавши, взял да и умер, а юный сын, что называется, и остался в дураках.
Но благому провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата, и [оно] послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея переяславского.
Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори, — евангельское правило, но, увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастию, не пользовалась доброю славою на всю область Переяславскую, а быть может, и потому, [что] была похищена из дому родительского Федором Сокирою и тайно обвенчалась за границею, т. е. за Днепром, в Трахтемирове. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять дытыну на свои руки. И, по-моему, он поступил благоразумно и великодушно, потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно-единственное дитя.
Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку. — Добрый знак, — подумал отец Григорий и показал ему буки аз-ба и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора, по крайней мере, любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация17, а на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с Новым годом на всех четырех языках, прочитавши ему вирши, написанные в Киевской д[уховной] а[кадемии] в честь митрополита киевского Серапиона на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил: — Зерно упало на добрую землю. — Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.
На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что [для] вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка, и для того просил письмом друга своего философа Сковороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав со своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие, и с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты, а в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпанементом на гуслях, сатирическую песню Сковороды, которая начинается так:
Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брилем, флейту в руку и марш куда глаза глядят, а верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава, по дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением, и, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешил делиться сиею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а через месяц, смотришь, он уже в Киеве: сидит с другом своим Иваном Левандою на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными, а вития наш знаменитый, независимо от дружней диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках, а оттуда в Трахтемирове, а там через день в Переяславе. Преподавши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Полтавы и далее.
Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому18 (также своему товарищу по бурсе), потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.
Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире кончился 19-й со дня рождения.
Наконец, разрешился от бремени своими чудовищами-чадами страшный 12-ый год. Как жертва всесожжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский.
Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилась она, моя родная маты; зашевелилось охочекомонное и охочепешее ополчение1Э малороссийское. Не выдержал мой юноша, разбил псалтырь и гусли, бежал и в городе Пирятине записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички.
Узнавши всё и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятина на супротивного галла20 и на двадесят язык.
Когда полк проходил через г. Переяслав, то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знамением и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду души своей, то, возведя горе полные слез очи, проговорил: — Господи, заступи тебя и сохрани тебя.
Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя21 заперли в аглицкую конуру, то и наше славное воинство разбрелося по хуторам и селам и, сложа доспехи бранные, взялося за плуги и рала.
В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, к великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую библию, французскую энциклопедию и рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственной рукой преосвященного тако: "Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный Г. Конисский". Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастушка, под липою у ручья играющего на флейте.
С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже скончалась), он начал приводить свою дедовщину [в порядок] и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную оселю, а потом собором отслужил и панихиду об успокоении душ отца, матери и всех ближних родственников и ближайшего, искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая всё городское духовенство и шляхетный класс.
Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев, скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: "Неудобо человеку жити єдину"..
Па другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презря обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, да, не говоря худого слова, после рождества христова и перевенчались.
После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая! Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! дай бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу, а во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного. Одним словом, над нею и внутри ее было божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалося прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственниц в местечке Оглаве, а родственницы эти только что возврагилися из Киева или, лучше сказать, из какого-то киевского пансиона и были чрезвычайно образованы. Тут-то она, бедная, и пошатнулась: от них-то она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего, и что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песен-то, песен каких восхитительных22 она у них позанялась и как "стонет голубок", и как "дуб той при долине, как рекрут на часах", и как "пастушка купается в прозрачных струях", и как "закричала ах! увидевши нескромного пастуха", и даже "о Фалилей, о Фалилей" и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это бросилось в глаза молодому мужу, но он рассудил, что самое лучшее не обращать на ее песни внимания: попоет, попоет да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песен. А иногда так даже и подтрунивал, особенно когда проходил день втихомолку, без песен.
— Что же это ты, Параско, — скажет, бывало, — сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.
— Какую там выдумал еще иностранную?
— Ну, хоть как та "пастушка полоскалася в струях".
— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.
— Хорошо, и я спою.
И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством:
И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалася горчайшими слезами, а он тогда говорил ей, целуя:
— Вот это настоящая модная песня.
Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения, а о богатых образованных родственницах и о их модных песнях с тех пор и помину не было.
Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переяславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа. И, боже мой, как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что, если бы я был банкиром, по крайней мере таким, как Ротшильд, то я иначе не одевал бы свою баронессу.
Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать божию.
Любуясь своей красавицею Параскою, он не забывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами о себе напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. (Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом.) Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга толокою, в липовой же роще и леваде, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимою мечтою. Да и, правду сказать, что может быть невиннее пасики из всех промыслов наших? Он не медля написал в Стародуб, чтобы к весне прислали ему пасичника. Тогда еще не было Прокоповича23, теперь славного пчеловода, и, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичникам.
Учрежденная им в липовой роще пасика, с помощью еленского старообрядца, год от году множилася и в продолжение пяти счастливых лег умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание, теперь он был паном на всю губу. Пасикой своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и всё пошлое и низкое.
Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя всё недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.
Такой счастливец был Никифор Сокира.
В бытность свою в немецких землях он немимоходом замечал немецкий сельский быт и теперь приноровил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата художника не поражал хутор Сокиры своею наружностию, зато нехудожника поражал порядком.
Из всех славянок землячки мои чернобровые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек. Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол не вымыт или в кухне не смазан; так чтоб эта дрянь не возмущала ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть да еще и выскоблить. И достаточно, кажись, так нет, а еще и киевским песком посыпать, — таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа.
Карл Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.
В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут Виргилиевы "Георгики"24, которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе на знала, что старый пасичник (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичник читал в подлиннике Виргилия, Гомера и Давида. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней и, кроме летописи Конисского, не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате, и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставал я ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Всё, всё: мерзости все, бесчеловечия польские, шведскую войну, Биронового брата25, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни, — и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет и закроет книгу, и еще раз плюнет.
Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою "Украинского Вестника"26, в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским27 две оды Горация (гениальная пародия!), и, прочитавши оды "До Пархома", мы от чистого сердца смеялися с Прасковьей Тарасовной; а он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил: — А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником. — И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста28 и полнешенек шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.
А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место, и ходя тихо по комнате, читал про себя:
— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.
Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а теперь я, благоговея, исчезал перед его чисто рыцарской скромностью.
— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна, — Хоть бы повечерять, пока засветло.
— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов.
Ужин был подан на ганку, и к концу его показалася из темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.
Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночевать, на что я, разумеется, и согласился охотно.
Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песен. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песен. И с какой глубокой любовью изучил он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песен.
— Да, — говорил он, — после этой трогательно простой прелести наших песен что значат уродливые создания современных нам романсов. Кроме безнравственности, ничего более. — И чрезвычайно деликатно коснулся песен покойного своего учителя музыки Сковороды. Он сказал: — Это был Диоген наших дней29, и если б не сочинял он своих винегретных песен, то было бы лучше. А то, видите ли, нашлись и подражатели, хоть бы и князь Шаховской30, или Котляревский в своей оде — в честь князя Куракина сколок Сковороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил. — «Энеида» Котляревского в то время еще не была напечатана.
Я, как собиратель народных песен, много записал у него вариантов и самых песен, нигде мною прежде не слыханных.
Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его найпрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла, и он стал ездить к обедне в Успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1654 генва[ря 8] дал присягу Зиновий Богдан Хмельницкий со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнута, в знамение взятия Азова31 Петром Первым, полковником переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, можно думать, Матвеева32, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — покров пресвятыя богородицы, а внизу — Петр Первый с императрицей Екатериной I, а вокруг них все знаменитые сподвижники его, в том числе и гетман Мазепа и ктитор храма во всех своих регалиях.
Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковий, кто такие были за люди, под кровом божия матери изображенные.
Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батурин33, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: — За что ж она его покрывает?
Как ни переполнена чаша счастия, а всегда найдется место для капли яду. Для полного счастия Сокиры чего бы недоставало? А ему недоставало самого высшего блаженства в жизни — детей.
Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочий чин духовный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:
при чем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покоя, а Карл Осипович и Кулина Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватилися за руки да и пошли выплясывать:
И в тот же вечер другая пара — кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:
А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так чтоб чего, боже сохрани, не случилось. Карл Осипович и Кулина Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам "gute Nacht", сели в свою беду и поехали в город, разговаривая себе тихонько и всё по-немецки.
То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и [так] бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила, — что родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника.
Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем. Перед ними на темнозеленом лужку, примыкающем к самой Альте, розвилося двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовалися ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.
— Рассудите вы нас, голубчик Карл Осипович, что нам делать? Я говорю, что дети еще малые, а Никифор Федорович говорит: — Это ничего, что малые, а учить надо. — Где же тут, скажите таки Христа ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после покрова уже и начинать.
— Да, да, начинать, давно пора начинать, — сказал Карл Осипович. — Я давно думаю об этом.
— Святая Варваро великомученица! Боитесь ли вы бога, Карл Осипович!
— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет, то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера34. Покойный Коцебу35 сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт, а на деде вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна, и великие люди иногда ошибаются.
— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после покровы!
— Да, да, чем скорее, тем лучше.
— Ну, догадалась же я, у кого защиты просить, — подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила, а Карл Осипович, нюхая табак, приговаривал:
— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что за ученого двух неученых дают, да не берут.
— Так вот что: мы вас, Карл Осипович, слушаем, как самого бога. Подождите, мои голубчики, хоть до филипповки; там даст бог пост — время такое тихое, им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.
— До филипповки… как вы думаете, Карл Осипович, можно подождать? проговорил Никифор Федорович.
— Нельзя. "Жизнь коротка, а наука вечна"36 — говорит великий Гете.
— Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна. — Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет. — Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух, — а я вам до филипповки не дам детей мучить.
— Хоть кол на голове теши, а она свое, — проговорил Никифор Федорович. — И скажи, откуда ты такой натуры набралась?
— Да от вас же и набралась: вы по-моему ничего не хотите сделать, то я и по-вашему тоже не хочу.
В это время дети подбежали к крыльцу, и Карл Осипович, лаская их, спросил:
— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоте учиться?
Зося бойко сказал:
— Хочу.
— А ты, Ватя, тоже учиться хочешь грамоте?
— Тоже хочу, — отвечал запинаясь Ватя.
— Вот видите, Прасковья Тарасовна, — сказал Карл Осипович, — а вы останавливаете их стремление!
— Та ну вас с богом, Карл Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать, — говорила она, целуя и обнимая детей, — как это всё устроить.
— Это правда, — сказал Никифор Федорович. — Вот что, Карл Осипович! Вы живете в городе и по профессии своей встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий, договорите его для наших детей.
— С большою радостию буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится, а я у него буду выспрашивать.
— Сделайте милость, Карл Осипович! Вот мы их и засадим за тму-мну, моих голубчиков, — говорил Никифор Федорович, лаская детей.
Об этих детях, как о будущих героях моего сказания, — я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве только, что они похожи друг на друга, как две черешневые едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.
После взаимных пожеланий покойной ночи Карл Осипович сел в свою беду и уехал в город, а Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла ночник и тоже отошла ко сну.
По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилася в Киев и, возвратясь из Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального, колечками Варвары великомученицы и многим множеством разной величины кипарисных образков, отделанных искусно фольгою, и между прочими редкостями — она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожею. Каково же было их удивление, когда она развернула дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях! Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы, словом — это букварь.
В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание — Да притом же, — думала она, — уже близко и покрова — так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют.
Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на покрова, часу в 9-м утра, разразился громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним — о ужас! — и явлением чего-то длинного, в затрапезном халате и в старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой навырост). Это был не кто другой, как сам светоч или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.
Степан Мартынович Левицкий — лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.
Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов отца диакона Мартына Левицкого, не помню хорошенько, из Глемязова или из Ирклиева, только помню, что Золотоношского повета.
Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а бедно-беднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь пред лицом Никифора Федоровича научитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками, лицо опойкового цвета с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и, вдобавок, с распухшей нижней губой, так [что] очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшими от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: — А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен. — И Степа, подумавши немало, сказал: — Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще потом в Андрушах. — Ну, хорошо, Степа, с тебя и этого достаточно. — Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату, а проводил праздник в тех же холодных грязных классах, где провожал и великую четыредесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей осталися на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукосотворить послание своим нищим родителям словесы такими:
По титуле.
"Дражайшие родители!
При отпуске сего листа из северного города, богоспасаемого Переяслава, я остаюся ваш сын". — И, подумавши, прибавил: "Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради рождества христова прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и…"
Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии, — и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как "пожар в шкаповых сапогах". А он себе хоть бы кому слово сказал, так молчком и отделался.
Пока рекомендовал Карл Осипович своего protйgй Никифору Федоровичу, наймичка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошенько, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шопотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича:
— Чи воно живе?
— Живе, — отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.
— Вы мою просьбу переборщили, Карл Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя, только не бойкого, а вы привезли какого-то дида.
— Ничего лучше быть не может для обучения алфавиту малых детей, Никифор Федорович, — говорил Карл Осипович. — Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляр? Это просто золото для ваших малюток.
— Быть по-вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с богом.
— А почему же не сегодня? — спросил Карл Осипович.
— Потому, — не во гнев вам будь сказано, — что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами не делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.
— А вы, небось, пойдете в могилу турком или французом?
— Я — дело другое. Я, слава богу, живу дома, а вы, Карл Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.
— Так вы, значит, едете помолиться богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в месяц и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат хоть какой-нибудь да пару сапогов. Согласны?
— С удовольствием. — И они расстались.
На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что не смотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многажды благодарил его за машину. И странная вещь. Дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна, — сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же безмолвными и недвижимыми, как и он сам. И в продолжение урока сидели как заколдованные, не смея даже согнать муху с носу. А между тем от учителя в продолжение урока они слова не слыхали постороннего, и это-то, я полагаю, и была причина их околдования.
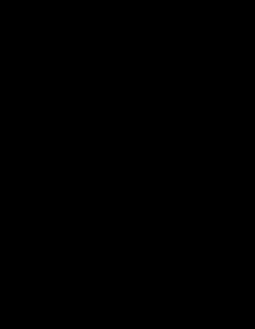 |
К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь до последней буквы, даже и "иже хощет спастися". Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал, взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:
— Букварь пришел к концу; хоть экзаменуйте.
— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника, показать им гражданскую грамоту?
— Могу показать; даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.
— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют, а начнем послезавтра.
— Хорошо, — сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его заметно было что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:
— Совершил!
Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочее он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой.
Немало изумилися на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Ввечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут, только школьник какой-то закричал: — Это, должно быть, "пожар в шкаповых сапогах". — Вся аудитория громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.
Наконец, 6 декабря рано утром явился он [Степан Мартынович] на хутор, прося извинения за отлучку.
— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.
— Носил родителям деньги в Глемязов.
— Какие деньги?
— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство.
Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глемязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать и даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затеи Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и свят-вечер. Его [учителя] пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться; а перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сюртук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах, но он вскоре оправился и сел за вечерю.
Ночь перед рождеством христовым — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами; у немцев, например, елкою, у великороссиян — тоже, а у нас после торжественного ужина посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам; и дети, придя в хату, говорят: — Святый вечир! Прыслалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю, — после чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых; потом переменят им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней, разумеется, с гостинцами и с завязанными, вроде пуговиц, в рубашку шагами.
Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.
Я помню трогательный один "святый вечир" в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать, а в "святый вечир" понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: — Святый вечир! Прыслалы до вас, диду, батько и… — и все трое зарыдали; нам нельзя было сказать: — и маты.
После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотоновый сюртук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сюртуком, он выпросил у пономаря позволение снимать со свечей во время обедни. И в Степе пошевельнулася страстишка!
Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали: он переродился, — он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. — Весело, — говорит. У кого бывал? — Родителей, — говорит, — посетил. — Он опять спутешествовал в Глемязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сюртуком.
Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.
Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду. Демикотоновый сюртук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно для Никифора Федоровича в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия37.
По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Гедеон выдал ему стихарь дьячка и место при церкви св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном и до того дошел, что кроме юфтовых сапогов никаких не носил; в доме же Никифора Федоровича он сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось: как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любуешься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сюртуком и тремя карбованцами! Ты из идиота сделал существо если не высокомыслящее, то глубокочувствующее существо.
Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам, а учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: — Не я буду виноват, не я его печатал. — На тринадцатом году это были взрослые мальчики, которым можно было дать, по крайней мере, лет пятнадцать, и так между собой похожи друг на друга, что только одна Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностию: они походили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.
Однажды вечером нечаянно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.
— Ну, та нехай, нехай уже буде по-твоему, — говорил скороговоркою Никифор Федорович; — выбирай, какого сама знаешь.
— Нет, вы выбирайте; я ничего не знаю, я им просто чужая.
В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:
— Вот! Вот пускай хоть они нас разделят.
— Вы до сих пор не делились, чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, ставя в угол свою палку и шляпу.
— А вот чем, Карл Осипович! Мы уже порешили, — говорила Прасковья Тарасовна, — чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской, так теперь не разделим их, кого куда.
— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.
— И я так говорю, — проговорил спокойно Никифор Федорович.
— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.
— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.
— А я офицеров.
— Быть по-твоему, делай себе офицера, а я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же решит судьба: кинем жребий, а вы будьте свидетелем, Карл Осипович.
Кинули жребий, и по жребию выпало: Зосиму быть офицером, а Савватию семинаристом.
С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате, разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть всё равно. Он говорил это про себя, а Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.
Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано и сделано.
В одно прекрасное утро, то есть часу около десятого, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричкою ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по-чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: — Напрасно, напрасно, ей-богу. Лучше бы в семинарию. И я мог бы быть еще полезен, а для их пользы я готов снова поступить в семинарию. — Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем бог послал у старца в келий, а для аппетиту Никифор Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями. После закуски простились и начали грузиться в бричку, причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить, а Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине и, как во дни оны феодальный дукат38 какой-нибудь, готов был пешком путешествовать не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву, того ради, чтобы, если нельзя будет лично присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет сделать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине: — Благодушная Марино, я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною, есть дело; так ты не отлучайся из дому, и если я там заночую, так это ничего, ты не тревожься. Все будет благополучно. — И, не давши времени сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: — Прощайте, — и вышел за ворота Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставление Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.
Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв всё на свете, кроме вступительного экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всенощное бдение в лубенском монастыре перед ракою святого Афанасия, патриарха александрийского. Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду об успении святого Афанасия в сидячем положении и о том, что дочери лютого Иеремии Вишневецкого Корибута снился сон, что она была в раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в раю. Она и соорудила храм сей. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на волторне, и рассказчик не медлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел преизрядный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку, только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху. Отдохнувши в Богачке у странноприимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его: — А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшлы б до нашои пани Базилевскои та попросылы б на ладан: вона богобоязненна пани, може, ще й нагодуе вас хоч борщем та рыбою из Псла. — Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика и, отдохнувши во время переправы, он, помолясь богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетиловки; но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шага и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожевывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.
А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, по-хозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день оставивши Яготин или, лучше, Гришковскую корчму, не доезжая Яготина, оставил пирятинскую дорогу влево и поехал гетманским шляхом, через Ковалевку, в Свичкино городище навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля, полковника Свички, Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка сгорела на киевских контрактах.
Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: что покойному отцу, его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл39. Вот он, начинивши вализы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве всё шампанское вино, так что, когда началися балы во время контрактов, хвать! — ни одной бутылки шампанского в погребах. — Где девалось? — спрашивают. — У полковника Свички, — говорят. К Свичке, — а он не продает. — Пыйте, — говорит, — так, хоч купайтеся в ёму, а продажи нема. — Нашлися люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.
Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслужа в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козака-вельможи Трощинского40, но Прасковья Тарасовна воспротивилась, а он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву.
А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.
В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря: — Все москали, може, ще й застрелять) и узнал от швейцара, где жительствует их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора. Там, — говорит, — живет наш попечитель. — Степан Мартынович, сказав: Благодарю за наставление, — отправился к показанному домику. У ворот встретил его высокий худощавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:
— Кого вы шукаете?
— Я шукаю попечителя.
— Нащо вам его?
— Я хочу его просить, що, як буде Савватий Сокира держать экзамен в гимназии, то чтоб попечитель не оставил его.
— А Савватий Сокира хиба ридня вам? — спросил старичок, улыбаясь.
— Не родня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.
Такая заботливость о своем ученике понравилась автору перелицованной «Энеиды», ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любя все благородное, в каком бы образе оно ни являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилью Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на сволоке надпись: "Дом сей сооружен рабом божиим N. року божого 1710". Иван Петрович велел своей леде (старой и единственной прислужнице) подавать обед здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетиловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел.
После борща с сушеными карасями Степан Мартынович сказал: — Хороший борщик!
— Насып, Гапко, ще борщу! — сказал Иван Петрович.
Гапка исполнила. После борща и продолжительной тишины Степан Мартынович проговорил:
— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике, тоже Сокире, только Зосиме.
— Просите, и дастся вам, — сказал Иван Петрович.
— Зосим Сокира будет держать экзамен в корпуси кадетскому, так чи не поможет он ему, бедному?
— Я хорошо знаю, что поможет.
— Так попросите его, будьте ласкави.
— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробыть можна, а вин хоч не дуже мудрый, та дуже нелукавый.
Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник и сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шопотом:
— Здасться на бублычки.
— Спасыби вам, не турбуйтесь!
Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и бриль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою и вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:
— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах, то не цурайтеся нас!
— Добре, спасыби вам, — сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь та, помолясь богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности; потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители; но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустясь с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесами неширокой дороге, вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь темные ветви осокора тихий, блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилася под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос, и звуки его, полные, мягкие, как бы расстилалися по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении, а невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было расслышать слова волшебной песни:
Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалеваны белой краской пляшка и чарка. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь:
А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на донышке, и в траве валялися зеленые огурцы. Певец кончил песню и, приподымаясь, проговорил:
— Теперь, Овраме, выпый по трудах.
И, взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.
— Эге-ге, лыха годыно! Що ж мы будемо робыть, Овраме? — неповна, анафема! — и при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул:
— "Пожар в сапогах"!
Степан Мартынович вздрогнул при этом восклицании и встал с призбы, где он расположился было отдохнуть.
— "Пожар в сапогах"! "Пожар в сапогах"! — повторял певец, обнимая изумленного Степана Мартыновича. Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:
— Не кто же иный, как он. Он — "пожар в сапогах", — и, пожимая его руки, спросил:
— Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Якщо так, то я тоби скажу, що ты без мене ничего не зробыш, а купыш кварту горилки, гору переверну, не тилько владыку.
И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.
— Так? Кажи!
— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.
— Дурень, дурень: за кварту смердячои горилки не хоче рукоположиться во диакона. Ей-богу, рукоположу, — вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу, я велыкою сылою орудую у владыки.
— Так как же я без харчив до Переяслава дойду?
— Дойду, дойду, дурню! Та я тебе в одын день по пошти домчу.
Степан Мартынович начал развязывать платок, а певчий (это действительно был архиерейский певчий) радостно воскликнул:
— Анафема! Шинкарко, задрипо, горилки! Кварту, дви, три, видро! проклята утробо!
Степан Мартынович, смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.
— Тсс! Я так тилько, щоб налякать ии, анафему.
Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малёваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас так на него посмотрел, что он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:
— А еще и дьяк!
И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, обтер рукавом толстые свои губы и проговорил усиленным [басом] протяжно:
— Благословы, владыко!..
Степан Мартынович изумился огромности его чистого, прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:
— Миром господу помолимся!
— Тепер можна для гласу…
И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу, и Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста. [Он] отрицательно помахал головою.
— Робы, як сам знаешь, а мы тымчасом… — и, крякнувши, он запел:
из маленьких очей Степана Мартыновича покатились крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:
Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинок. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартою, а входя в шинок, проговорил:
— Пошлет же господь такой ангельский глас недостойному рабу своему.
И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее:
— Кто сей, с которым возлежу?
Се — бас из монастыря, — отвечала она.
Божеский бас, — говорил про себя Степан Мартынович.
— Якбы не бас, то б свыней пас, — заметила шинкарка. — Пьяныця непросыпуща.
— Оно так, но, жено, басы такии и повинны быть.
— И вы тоже бас? — спросила шинкарка.
— Нет, я не владею ни единым гласом.
— И добре робыте, що не владеете. Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполня ее, про себя сказала: — От пьють, так пьють! — Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою разверстую пасть, пощупал траву около половинки огурца и поднес пустые пальцы ко рту, пробормотал: — Да воскреснет бог! — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:
— Дерзай! — и Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:
— Эх! Якбы тепер отець Мефодий. От бас — так бас! А все-таки мене не перепье!
И он выпил еще стакан. Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинок, но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул:
— Брешешь, душегубец, бродяга! Ты паству свою покинул без спросу владыки и блукаешь теперь по дебрях та добрых людей грабишь. Давай кварту, а то тут тоби и аминь!
— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние, — говорил запинаясь Степан Мартынович. Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал:
— Иды и несы!
Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:
— Благолепная и благодушная жено! — (он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже) — изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи — поборгуй хотя малую полкварту горилки.
— А дзусь вам, пьяныци! — сказала лаконически шинкарка и затворила дверь.
Вот тебе и «поборгувала»! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол.
Ошеломленный такою выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться и, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастися от руки грешничи. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслию он подошел к вербе, и — о радость неизреченная! — бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от посвиста славного могучего богатыря Соловья-разбойника.
Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля "яхся бегу" глаголя: "стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие".
Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою — и вскоре захрапел не хуже всякого баса.
Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и бриле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного конца ее. Тогда, осенив себя знамением крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму, а клир пел: "Работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом". Немалое же его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.
При выходе из церкви, бас заметил своего protege и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним.
— Ну, что если, боже чего сохрани, опять туда? Погиб я, — подумал он и следовал за басом, как агнец на заклание.
Однако же это случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилася трапезовать, а певчие садилися за особенный стол. Бас молча указал место и своему protege. В трапезе было почти темно, и когда зажгли светочи, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул: — "Пожар в сапогах"! — Они все его знали еще в семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гуло!
На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басами, и о ужас! — из корчмы в окно выглядывала, кто бы вы думали, сама Прасковья Тарасовна! Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть, его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиня порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: "О всепетая маты, а все пивныки в хати". К ним присоединили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.
Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, связали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в таком плачевном положении привезли его в Переяслав.
По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простившись с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела. Получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя, о своем странствовании, исполненном таких, можно сказать_,_ драматических и поучительных приключений.
Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услыхал женский голос, поющий:
— Это Марина, это она, — подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичника Корнея. Он не мог выговорить ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичника, схватила его за полы и принялась плясать, припевая:
— Марыно! Марыно! богомерзкая блуднице растленная, что ты робышь? Схаменыся! — говорил Степан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:
и запела снова:
— Цур тоби, отыдя, сатано! — вскрикнул он и. вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя всё в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений.
— А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною! — и в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Корнеем пасичником и что он был у сего последнего старшим боярином.
Солнце уже зашло, когда он проснулся. Придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а кухню растворенную и на полу спящую Марину, а пасичник Корней под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них, сострадательно покачал головою и, выходя в сени, сказал:
— А хустку все-таки треба ий отдать: она женщина богобоязненная.
На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила об его отсутствии, а она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялися друг другу хранить тайну.
По истечении пяти с половиною седмиц возвратилися после долгого отсутствия благополучно на свой хутор и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мартынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собралися все четверо на ганку, и началося повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:
— Попрощавшися с вами, Карл Осипович, в середу, а в четверг рано мы были уже в Яготине. Пока Никифор Федорович закусывали, я с дитьми вышла из брички та и хожу себе по базару; только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом. Меня диты и спрашивают: Маменька, что это такое? — Я и говорю: — Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь. — Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: — Молодыце! а йды, — говорю, — сюда! — Она подошла. — Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит? — Вона и говорыть: — Церковь. — Церковь, — думаю соби, — чи не дурыть вона нас? Только смотрю, — и крест наверху, на круглой крыше. — Господи, — думаю соби, — уж я ли церков у Киеве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет. — Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек — Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы божии, особенно Наташа, особенно когда запоет, просто прелесть, да еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощалися. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь — так церковь, хоть с нашим Благовещением рядом поставить.
— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса, — перебил ее Никифор Федорович.
— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там той Хорол: проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом. Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как-бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?
— N., - сказал Никифор Федорович, — Оболонский.
— Да, да, N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом, как раз против господского дома! Говорят какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа, — праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночувалы и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава богу! Бело-церковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням, а с железного сундука с червонцами никогда и не встает, — так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами, — говорят, полотна одного, десятки, возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? — не велела: раскрадут, говорит; лучше пускай горит. — Тьфу, какая скверная!
— В Решетиловке церков с десять, я думаю, будет, и живут всё козаки. Перед самою Полтавою обедали в корчме, и только что лег отдохнуть Никифор Федоро-влч, приезжают архиерейские певчие.
Степан Мартынович завертелся на стуле.
— Входят в корчму, и один как заревел: — Шинкарко, горилки! — Я так и умерла со страху; отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат.
— А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.
Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить — в пользу мужа.
— Хорошо, я уже все до конца доскажу, а вы б тымчасом похлопотали коло вареников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами.
Оба слушателя в знак согласия кивнули головами, а Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.
— Да, — начал Никифор Федорович, — благословение господне не оставило таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский… Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике в сто раз хуже нашего. Просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал и прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: — Как ваша фамилия? — Я сказал: Сокира. — Сокира, Сокира, — повторил он. У вас двое детей — Зосим и Савватий.
Степан Мартынович сидел как на иголках;
— Котляревский продолжал: — Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус. — Так точно, — говорю я, — но спросить его не посмел, откуда он всё это знает. — Вы, кажется, удивляетесь, — говорит он, — что я знаю, как ваших детей зовут. — Немало, — говорю, — удивляюсь. Слушайте, — говорит, — я расскажу вам историю.
Степан Мартынович задрожал от страха.
— Однажды я гуляю себе около своих ворот, — начал было он рассказывать; только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р[епнина] просит к себе на чай. Он сказал, что будет, а я, взявши шапку, хотел проститься и уйти, а он и говорит мне: — Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и козаков своих. — Степан Мартынович вздохнул свободнее. — Да что же я тороплюсь? Время терпит, — говорит, — а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне…
При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:
— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь: я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.
Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул, и, когда успокоилися, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.
— Господи, прости меня окаянного! А я, недостойный отрешить ремень сапога его, я… я дерзнул мало того. что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять и, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. О, просты, просты мене, господы! С таким великим мужем, с попечителем, и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу…
— Не ходите завтра, — сказал Никифор Федорович, — а на то лето поедем вместе.
— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!
— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбилися Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою «Энеиду» с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай бог ему здоровья, тоже подарил свою «Энеиду» и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату: тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.
Не описываю вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: "Уважения достойному С. М. Левицкому на память. И. Котляревский".
— И фамилию мою знает, о муж великий! — и, рыдая, он целовал надпись.
После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе все уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он, взявши свою книгу, на човне переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганець, принялся читать «Энеиду» и прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганець горел и Степан Мартынович сидел за книгою.
— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу.
Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганець напрасно горит.
— Добрый день! Добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!
— Именно чудная! Вот в чем моя речь: что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать? а?
— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.
— Я думаю вот что. Возьмите у меня наборг десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику хоть тут же около своей школы, да и пасичникуйте, а я тоже буду пасичниковать. А когда господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне мои пчелы. А тымчасом мы будем в гости ходить один к другому. Согласны?
— Паче всякого согласия.
— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям.
И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя:
— Я за кравцем Беркою послал уже в город, сшейте себе к покрову добрый сюртук и прочее.
Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.
— На покрова как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явилися у меня в доме.
Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко кравець с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилося становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцям небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сюртук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы, и, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:
— Вот этот черный шовковый платок для шии Зося прислал вам, а это Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к покрове.
Принимая столь неоценимые подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной:
— Что ти принесу или что ти воздам?
Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах: чисто по-русски и, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто по-малороссийски; в положениях же патетических церковным языком и почти всегда текстами из священного писания.
Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря:
— А это вам будет на рубашки. Это уже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу.
Степан Мартынович был выше всякого счастия. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя.
Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:
— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете. Не обижайте же нас, сирых стариков, Степан Мартынович!
— Я в радости постелю мою слезами моими омочу.
— Ну, так пойдемте в пасику. Ляжте там хоть на моей постели, та и мочить ее сколько угодно.
Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем. Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря: — Боже благослови ваше начинание, — и прибавил, показывая на ульи:
— Примите в свою собственность, Степан Мартынович!
— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.
Они сели под липою, и при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве, а в заключение сказал:
— Трудолюбивейшая, богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела, а заниматься ею и полезно, и богу не противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми, а между тем ограждает вас и от гнетущей и унижающей человека нищеты. По моим долгим опытам и наблюдениям, я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели, и с упованием на бога и святых его угодников Зосиму и Савватия будет благословенно и преумножено ваше начинание!
Степан Мартынович в благоговейном молчания слушал. Никифор Федорович продолжал:
— Нынешнее лето на исходе, уже, слава богу, сентябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить, а вы уже начните с будущей весны, а теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например, а я, даст бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батурин Там, около Батурина где-то, живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.
На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости, с «Энеидою» в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор и, увидя Никифора Федоровича также в созерцании гуляющего и тоже с «Энеидою» в руках, он после пожелания доброго дня сказал:
— Знаете, что я придумал?
— Не знаю, что вы придумали.
— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.
— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих, — а помолчавши, он прибавил. — А пасики все-таки не оставляйте.
— Зачем же?.. Пасика пасикою, а школа школою.
Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодиц и велел вымазать внутри и снаружи белою глиною, а сам между тем недалеко от школы рыл всё небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка, и, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на покрова в суконном гранатовом сюртуке, тогда в одно слово сказали: — На протопоповне. Каково же было их удивление, когда после покрова их дьяк пропал и пропадал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками так лет от семи до десяти. Всё это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глемязове и привез с собою двух маленьких братьев и двух племянников — обучать их грамоте на собственный кошт. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе и за пределами его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Сокиры, а другого какого-то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.
Деятельности Степана Мартыновича раскрылося широкое поле, и он был совершенно счастлив.
Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича и, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских козаков.
Наступила зима. Занесло снегом и хутор Никифора Федоровича и школу Степана Мартыновича, но между заметами снегу, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утоптанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил — почить от треволнения дневного. Приходу его всегда были рады, особенно Прасковья Тарасовна. И действительно было чему радоваться: в подлунной не было другого человека, который бы с таким, если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть с одними и теми же вариантами, повесть о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод почти шопотом, иногда и погромче, если видела, что Никифор Федорович занят чем-нибудь или просто читал летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к успению в Лубны в самый развал ярмонки и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли «Козака-стихотворца». (Тут она брала тоном ниже.)
— Прелесть! просто прелесть! Настоящий офицер той Козак-стихотворец, а Маруся — барышня та й годи. Не налюбуюся, бывало; да к тому еще [как] запоет:
Нуте, готовьте пляски, забавы!..
Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала, а как дойдет до слов: "Ему Маруся навстречу бежит", да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера… чи те, до Козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно.
— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.
— Я розказую, как мы в Лубнах…
— Знаю, знаю. Козака или офицера стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал та на Орель линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.
Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый «Козак-стихотворец». Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках, и я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал "Малороссийскую Сафо"41. Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово «чепуха» для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучал бестолковых произведений философа Сковороды, как к. [нязь] Ш.[аховской]. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода, а почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои!.. Положим, публика — человек темный, ей простительно. Но великий грамматик наш Н. И. Греч42 в своей "Истории русской словесности" находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского43 ко времени Петра I. Глубокое познание нашей истории!
По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.
Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве только иногда выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.
Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школярив по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялася за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится зайти.
В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы от детей и — как бы вы думали от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в вагани.
— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.
— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, развертывая письмо.
— Ах, я божевильная, я не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.
Вскоре все уселися вокруг стола, и началося торжественное чтение писем.
Сначала были прочитаны письма детей, с повторением каждого слова по нескольку раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восклицаний, как, например:
— Ах вы, мои богословы-философы! Соколы-орлы мои сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!
Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать.
"Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковия Тарасовна и Степан Мартынович!"
Все молча между собою переглянулись.
Но так как письмо было писано по-малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марать не захочет мужицкими словами, а потому я расскажу только содержание письма, отчего повесть моя мизерная много потеряет.
После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. "Я за ними, — говорит, — посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя «Муха» наполняется еженедельно описанием их детских прекрасных качеств". Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой-нибудь дороге: по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А дальше пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил (тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович). Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. "Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую требу, но я ему не дал: по опыту знаю, о нехорошо давать детям деньги".
— А может; оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал, — проговорила Прасковья Тарасовна, но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.
И говорит: "Чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут, а на свят-вечер с вечерею пошлю их к моему другу N. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник рождества христова". Дальше пишет, чтобы они не забывали его, старого, и чтобы на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. "Уж как это она делает, говорит, — бог ее знает".
"Оставайтеся здорови, не забувайте одыноког" И. Котляревского.
Р. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему. Степану Мартыновичу Левицкому".
По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табаку и сказал: Ессе homo!44 — Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратяся к образам и крестяся, со слезами на глазах говорила: — Благодарю тебя, милосердый господи, за твое милосердие, за твою благодать святую! Послал ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине. — И она молча продолжала молиться, а Никифор Федорович сидел, облокотяся над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцеловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вышел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:
— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к великому посту.
— Пошлем две, — сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.
Гости простились и пошли во-свояси с миром, дивя-ся бывшему.
Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и велыкдень через неделю. Степан Мартынович распускает своих учеников в домы родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше вознесения христова. По примеру семинарскому, он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е. препоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям — двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров, не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя всё в порядок, — он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется, не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую, а у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и нощей, запряг коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легонькою рысцою в Полтаву.
Прасковья Тарасовна послала им свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных, а Зосе своему и полкарбованца денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана Петровича. Степан Мартынович обещался всё это исполнить, но не исполнил. Он за полкарбованца отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.
В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве, что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка, из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.
По возвращении во-свояси из далекого и неисполненного приключений странствия, школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юфтовых сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику, что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дьяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.
Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старилися себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще, и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически, что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых, а Ватя писал пространнее. Он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал, а о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора "Наталки Полтавки", «Москаля-чаривныка» и "Перелицованной Энеиды".
В конце четвертого года получены были от дет письма такого содержания:
"Дражайшие родители!
Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург, а потому и прошу прислать мне, сколько можете на первый раз, денег на непредвиденные расходы.
Ваш покорный сын 3. Сокирин".
— Сокирин, Сокирин, — худой знак, — говорил тихо Никифор Федорович и развертывал другое письмо.
"Мои нежные, мои милые родители!
Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды: я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Вергилиеву «Энеиду» на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам изберу, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский или ближайший — киевский. Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители! Жду вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки.
Остаюсь любящий и благодарный ваш сын С. Сокира.
Р. S. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии".
По прочтении письма Никифор Федорович сказал?
— Ну, слава тебе, господи, хоть один походит на человека.
— Да еще на какого человека! — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор, и знаменитый профессор медицины и хирургии, а вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.
— А из Зоей, вы думаете, ничего не выйдет путнего? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.
— Боже меня сохрани так думать! Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от самого себя.
— Толците и отверзется, просите и дастся вам, — проговорил вполголоса Степан Мартынович.
— Что было, то видели, а что будет, то увидим, — сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику.
Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостию и грустью; и, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: "Що буде, то те й буде, а буде те, що бог нам дасть".
На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал — известил его, какое дети сделают употребление из денег. Потому, — говорит, — что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать университет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое господь внушит его добродетельному сердцу.
Через месяц они имели великое счастие обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробыть сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными, на что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.
После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною «Энеидою» в руках и, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею.
После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:
— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.
С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любуясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.
— Вы в книге забыли деньги. Вот они.
— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям (а в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву).
На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.
Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу, а товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Тарасовны, что и не думали о продолжении пути, а потому немало удивились, когда он стал прощаться со своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливаяся в Шулявщине, готовились держать экзамен для поступления в университет.
Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве; он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку по методе Мажанди45. А по вечерам собирались все на крылечке, и он читал вслух «Энеиду» Котляревского или настоящую Виргилиеву «Энеиду». А так [как] он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы, то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гуслях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:
В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящиками мотыльков и разных букашек.
В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного. Некоторые или, лучше сказать, большую часть своих писем он варьировал фразой: "Я скоро божиею милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет", на что обыкновенно говорил Никифор Федорович: — А будешь офицером, и гроши будут.
Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп46 с картины "Последний день Помпеи"47 и для сей требы послал ему три рубля денег. Но Зося благоразумно рассудил, что три рубля — деньги, а эстамп что такое? — листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этакой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картинок продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать "Последний день Помпеи". Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение "Тень Наполеона на острове св. Елены"48. Ватя, получив сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого братца, и знаменитый куншт полетел в пещ огненную.
Вскоре после всесожжения "Тени Наполеона" с шумом явилися на свет "Мертвые души". "Библиотека для чтения"49, в том числе и солидные благомыслящие люди разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благорожденного юношества. Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, "Мертвые души" разлетелися быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал: Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль (что весьма вероятно). — Но, заметивши, что студенты читают печатную книгу, [у него] от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литераторы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется "Мертвые души", "должно быть, страшная", — и махнувши рукою, сказал: — Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили. — Видно, на инспектора дворян поэма "Мертвые души" не производила никаких опасений.
Савватий сначала со вниманием прослушал "Мертвые души", потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и призанявши рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин. Спрашивает "Мертвые души", а книгопродавец и глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе, и, обратясь к посетителю, сказал, что есть только две.
— Пожалуйте мне один экземпляр.
Книгопродавец снова стал втупик.
— Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием "Мертвые души", сочинение Н. Гооля.
— Никак нет-с, еще и объявления не читали.
— Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь, — сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу, да вспомнил, что там не продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла "Тень великого Наполеона".
Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 5 рублей серебром. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору, спрашивает посылку. Ему подают. Пощупал — мягкое. — Она, — проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: "Никлас — Медвежья Лапа"50. Потемнело в глазах у бедняка, и полураскрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и любознательный, и теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям. При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: "Мертвые души" запрещены. И цензор и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу "Медвежью Лапу". Твой брат такой-то".
Несмотря, однако ж, на то, что и цензор и автор сидели в крепости, "Мертвые души" вскоре явилися в конторе застрахования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал-бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решился во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что Каникулы близились. После акта в тот же день снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжателю презренного металла за умеренные проценты и, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе, вечером — на крыльце, а днем — под липою в пасике.
В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне "Повесть о капитане Копейкине"51, когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издали показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, Никифор Федорович бросил его на пол и в досаде сказал: — Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей! — И он ушел в покои, а за ним и Карл Осипович. Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того капитана. И он прочел вполголоса следующее:
"Драгоценные мои родители!
Божиею милостию я теперь прапор лейб-гвардии гренадерского полка, а вы должны сами знать, как должен себя держать гвардейский офицер. Здесь не Полтава и не тщедушный Переяслав, а, люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром.
Затем остаюсь ваш сын 3. Сокирин".
Ватя, прочитавши письмо, сложил его и додал Прасковье Тарасовне.
— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне, — я его спрячу.
— Да я все и прочитал.;
Она, бедная, не поверила, развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.
Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.
Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так как он отказался писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:
"Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебя гневается".
Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту.
Почтмейстер немало удивился, принявши письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.
Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку, а другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцис-гаузе показал ее полковой братии, — и пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело, а когда понял, то в одно прекраснейшее утро после ученья пригласил честную компанию к Сен-Жоржу52, задал великолепный завтрак и, полупьяный, рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталася амика, т. е. любовняца, — богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу. — Ура! — заревела компания. — За здоровье всех безграмотных любовниц! — Тосты повторялись до самого вечера. Ввечеру вся компания отправилась смотреть Тальони53, разумеется, на счет счастливого любовника. Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено, на хуторе письмо такого содержания:
"Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота. Ваш благодарный сын Сокирин!"
А причина перевода его в армию была вот какая. Однажды у Марцинкевича54 в танцклассе (который он посещал каждую пятницу неукоснительно), — так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином. После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию со скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.
Для писателя более плодовитого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленнейшей благородной молодежи, — для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что когда плод их созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы, и было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалыми, песни.
Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный баталион.
В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и одно-единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели, и я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, невымышленной повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с «Эды» Баратынского55 и кончая «Катериной» Ш[евченка] и "Сердечной Оксаной" Основьяненка. Продолжение и конец решительно один и тот же, с тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз перевенчали офицера с мещанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он назавтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод, и он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Неминая, и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то тоже нетрезвому, но богатому Попандопуло свое рыцарское похождение с Якилыною, и так увлекательно рассказывал, что богатый эллин58 не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарше летами и силами послабее, то он и изнемог, а к тому времени подоспел блюститель мира в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженили на мещанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.
О, моя бедная Якилыно! Если бы ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с. благородным офицером. Но ты, простодушная мещанка, в глубине непорочной души своей веровала пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твое прекрасное дитя. Вы оба валялись на грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.
Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана, а брат его только что кончил курс в университете св. Владимира. По экзамену удостоился он скромного звания лекаря с чином 12 класса, а после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную, и он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его, по крайней мере до Рязанова, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари приехал к тому самому часу, как туркеня-смотрительша раздувала в сенях на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.
Савватий решился провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали как секунды. Так они, вообще, быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали б скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы, по крайней мере, месяц, но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.
Накануне отъезда, после обеда, Никифор Федорович взял под руку Савватия и, по обыкновению, повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы, перед самым входом в пасику и сказал:
— Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я — человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми, но она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же!.. пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал, как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват… Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком: жни, что посеяла.
И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал:
— Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухою. Не ленись: описывай всё, что увидишь и что с тобою ни случился. Пиши всё. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали бы тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик-другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит гроши. — И он подал пачку ассигнаций.
Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть — жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет; что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.
— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все сказал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу, не забывай нас, стариков, особенно ее: она, бедная, совершенно убита молчанием Зоей.
После этого старик отправился отдохнуть, по обыкновению, под навес, а Савватий взял «Энеиду» Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюкивая старика. Увидя, что монотонное чтение произвело желаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики и до самого вечера бродил вокруг хутора, туманно размышляя _о_ своей одинокой будущности.
Ввечеру, когда собралися все на ганку, пришел и он, и после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что-то важное и, обратясь к Никифору Федоровичу, сказал:
— Мне давно хотелося посмотреть на вашу скрипку, да всё забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка дорогая.
— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий, и мне завещал ее по смерти.
— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.
— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?
— А может быть и увижу.
И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку, попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл сначала мелодию, а потом вариации Липинского57 на известную червонорусскую песню:
Чи я така уродилась,
Чи без долi охрестилась.
Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи [Никифор Федорович], вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:
— Сыну мой, радость моя! надеждо моя золотая! Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?
Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку!
— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот божий человек. Я всё ему отдам и даже мою пасику.
— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих печах вынес на Скавицу.
— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл ты землею прах великого человека. Вот что, — продолжал он с расстановкою: — долго я думал, кому я оставлю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот — ты, моя золотая надежде! Возьми же скрипку себе теперь, а книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они услаждают нашу одинокую старость.
И он подошел к гуслям, раскрыл их, попробовал струны и, расправив обеими руками свою густую, широкую, серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан58, ударил по струнам
И вещие зарокотали.
После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим, но вдохновенным голосом; к нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:
Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:
так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти, — так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.
На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист пресвятой богородице, причем Степан Мартынович со своими школярами хором пели "О всепетая мати". Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась в стихарь, читал апостола. По окончании молебна пропето хором было многолетие трижды.
Духовенство трапезовало в светлице, а школярам подан был обед на досках на дворе, а после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.
А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадушку с медом и мешок яблок.
В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича. Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля — и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.
Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной треглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем59 построенной, остановил почтаря и долго смотрел не на памятник XVII века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиться, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пусткою, и он хотел уже сказать почтарю «пошел», как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодица с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодицу: — Можна зайты? — Можна, — ответила молодица, и он соскочил с телеги, перешагнул перелаз и очутился в хатке.
— Здравствуй, Насте! Узнала ли ты меня?
— Ни, — и сама вспыхнула и вздрогнула. Долго и грустно смотрел [он] на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностию, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы60. Савватий взял ее за руку и проговорил:
— Так ты мене и не узнала, Насте?
— Узнала… я на дворе еще узнала, да только так… стыдно було сказать, — говорила она, и из карих прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал: Тату! тату!.
— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.
— Спасыби вам! — проговорила она шопотом.
— Прощай же, моя Настусю! — и он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.
Настя долго стояла на одном месте и только шептала: — Прощайте, прощайте! — И, взглянувши на ребенка, горько-горько заплакала.
Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалося, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени. — Уже и не видно ее, — проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву. Долго смотрел на домик, лепившийся на горе около собора, и на каменную башенку, бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многое напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Ганки, Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.
Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Повяжет, бывало, на головку красную ленту, натыкает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешен, и чуть свет бежит к бабушке, сядет себе, как взрослая, под хатою и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли панычи встанут и пойдут и она пойдет с ними.
— А как выйдут из церкви та пообедают, и начнем играть в жмурки; я спрячуся у той коморке, что на горе, а Ватя прибежит да и найдет меня, при этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешен и, забывшися, вскрикивала: — Axl
— Чого ты там ахаешь? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.
— Жаба, бабо!
— Вона не кусає, тилько як на ногу скочить, то бородавка буде. Иды в хату: ты змерзла!
— Ни, бабо, я не змерзла, — и она оставалась под хатою и снова задумывалась.
Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда, бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворсклу, насобирают разных-разных цветов и сядут под дубом. Ватя сплетет венок из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмутся себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали. Зося разве иногда скажет: — Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!
Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя семнадцатилетний красавец-юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть, Настуся тоже. Она под горою у себя в садике до полуночи пела:
A он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся.
Вскоре началося трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою. Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь… Но сатана силен, и бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и скоропостижно не уехал в Киев.
То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.
В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу, — так холодом и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: "не пара" и отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.
У Зоси точно так же рано проснулась эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он — стройный, прекрасный юноша — надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей, и он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какою целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был Дон-Жуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.
По прибытии в Астрахань он в скором времени, между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом «хват».
Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне, а себе нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует, а она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще, — и то только догадывался, — квартальный, потому что во вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астраханская публика и не догадывалась, а маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим уже позеленевшим Катенькам и Сащенькам. Но он смотрел на всё это сквозь пальцы и неистово гнул на пе, еще неистовее пил голяком ром, а на чихирь и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги, — за что нередко его величали — не Ноздревым (астраханской просвещенной публике еще не казались "Мертвые души"), а называли его просто шерамыжником, за что он нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу порядочных людей!
По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одно матаха, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных якшиолов61 являлися картишки и начиналась потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака, привезенного из Новопетровского укрепления, сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила, а он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилася немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что он хотел для нее купить у купца NN. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.
Зимою 1847 г. не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что — его благородие приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь.
— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.
— Его благородие, штабс-капитан Зосим Никифорович.
— Де вин?
Вестовой сначала улыбнулся, но как сам был малороссиянин, то она без большого труда поняла, в чем дело, и наскоро причепурилась, взяла за руку Грыця и сказала вестовому: — Ходимо.
Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти не доказанные, а ты своим явлением всё кончила: ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина NN., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру, что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками сваей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: — Чека62. — Нехорошо! — подумал мой рыцарь: — маненько дал маху, надо будет зайти с другого боку, — и, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, [уверяя], что для ее же счастия это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала:
— Чека.
— А, чека, так чека! Я приму свои меры, — и он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с нее салоп и дорогие бусы за протори и убытки, как сам он выразился.
После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его [посадили] на сохранение в гауптвахту.
Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы облу чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.
Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитростный рассказ в неисходимые киргизские степи.
— Отчего же это так премудро, господи боже мой милосердый, ты устроил всё на свете? Не придумаю, не пригадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так всё на свете божием творится?
В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос и много дней спустя его себе задавала, но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу. Но, подумавши, отдумала. — К Карлу Осиповичу разве? — и тоже отдумала. — Он немец, думала она, — так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит? Ведь я просто дура, а он, по крайней мере, книги читал, то, может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему — так, будто бы пасику посмотреть?
И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.
Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся, а уходя, шопотом говорила:
— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.
Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:
— Приветствую вас в нашей Палестине…
— Ах, как вы меня перепугали!
— Смиренно прошу [прощения] прегрешений моих, — говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.
— А я сегодня сижу себе дома одна, как палец:
Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину полет. Так я сижу себе да и думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то нас цурается.
— И подумать [про] меня, боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякой вечер у вас сижу, ну и сегодня зайду, даст бог управлюсь.
— А я как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.
С этими словами они вошли в курень, или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинуто белое рядно и подушка, — то было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль, а из-под подушки выглядывал угол неизменной «Энеиды». Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на всё это и с участием сказала:
— Прекрасно, всё прекрасно; нечего больше и сказать. Только вот что, сказала она, садясь на лежавший пустой улей: — зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая.
— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание, — пошли, господи, царствие твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.
— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст бог дождать, после Семена служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами "Со святыми упокой" петь при панихиде?
— Можно, и паче можно.
— Как это у вас всё скоро выросло! Смотрите, какая липа, просто прекрасная!
— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.
— Да, я думаю, там, за Днипром, все такие лыпы?
— Нет, не все, — есть и меньшей меры.
— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ва-тей? — И рассказала ему свои недоумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила:
— Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опанує. Отчего это, не знаете? Не читали?
— Не знаю, не читал, — с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил:
— Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина или же у Юстина Философа63, ноу Тита Ливия нет.
— Оставайтеся здоровы, — сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья. — Вот я вам гостинчика принесла, да заговорилася с вами и забыла. — Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.
— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.
— Благодарствую, другим разом, — уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподымать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.
В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою шопотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил: — Двери ада разверзаются, — значит, в пасике калитка отворяется, то при этом возгласе все разом загудели, как будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, _уже_ не останавливалась, а на ходу проговорила:
— Бедные дети! Как они прекрасно читают, а он, я думаю, их, бедных, еще бьет, — настоящий вовкулака!
— Если не удалося проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег, — так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено [было] исполниться. Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн, как приднепрянский рыбак, махнула веслом, и челн уперся уже в другой берег речки. Степан Мартынович только успел ахнуть, и больше ничего.
Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича, — только борода белая ветром развевается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:
— Параско! — и при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула.
— От которого?
— От Вати, из самого Оренбурга. Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:
— Что, месяца два будет, как выехал?
— На пречисту буде сим недиль, — ответила Прасковья Тарасовна.
— Скоренько, право, скоренько, — говорил он скороговоркою. — Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо!
И все они взошли на крыльцо. Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Maртыновичем: — Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать: от Вати, скажи, получили. — Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота.
Когда все уселися по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очи окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:
"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что и письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и вместо того, чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал:
"Мои незабвенные, мои дражайшие родители!" Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:
"Целую заочно ваши добродетельные руки и молю бога жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава богу, пользуюся хорошим здоровьем, только всё еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители, я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел: нужно было явиться по начальству, то то, то сё так неделя и пролетела. Теперь же я, слава богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах квартиру, как раз против госпиталя в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что всё пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи.
Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал, и после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылася степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.
В первые три переезда показывались еще кой-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи по берегам речки Самары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта, и, любуясь этим величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость64. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице и, пока переменяли лошадей, я припоминал "Капитанскую дочку", и мне как живой представился грозный Пугач65 в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне — совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Самару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова66, называется здесь Караван-сарай. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в [которые] я и въехал в Оренбург.
На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает, и я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю, вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитеся Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю".
Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: — Прекрасный молодый человек. — А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась богу и плакала, а Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался и, надумавшися досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал, а, отведши его в сторону, говорил ему шопотом:
— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей, а он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немного воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?
— Нет, подождите, — говорил тоже шопотом Карл Осипович. — Если у вас есть лежачие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.
Они расстались.
Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам? Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера и все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть? Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.
Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.
Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а [решил] прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.
Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович, по обыкновению, отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:
"Великодушные мои родители!
Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оного и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку, хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес".
Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около нее, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак! Он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна вскрикнула:
— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не. успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали, но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Парасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: — Бреше! — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев, но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку. — Неужли он, — доннер-веттер! — вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи? — так или почти так думал простодушный добряк.
Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие как могли утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Парасковии, сказавши:
— На, пошли ему.
— Мой голубе сизый, — говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги, напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного.
— Пиши сама.
— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?
— Как хочешь, а я писать не буду.
— Разве вы. Карл Осипович, напишете?
— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут: у меня нехороший почерк.
— Вы его учитель, Степан Мартынович; напишите, голубчику, хоть единое словечко, я за тебя денно и нощно буду богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы всё в полотняном ходите.
Степан Мартынович изъявил согласие писать, а Никифор Федорович достал из той же шкатулы перо, чернилицу и бумагу и, положа всё это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.
Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.
— Пишите так, — сквозь слезы проговорила она: — Зосю мой, дитя мое единое!
Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:
"Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!"
Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.
— Далее пишите так: — Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцив.
Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать — краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялася просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.
Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: — А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить. — И она посмотрела на писателя с благоговением.
К вечеру было всё кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать назавтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, садяся в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:
— Ваши рубли свободны; дырочка заткнута.
Хлестнул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая, — а хитрый немец не хочет объясниться просто.
Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла лихорадкою и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропивание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала! Ему выдавали, как арестанту, понемногу, но и за этим немногим стали втихомолку наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — хламиду поругания, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом "совершенная свобода" он разумел волчий паспорт, но "полное удовлетворение", как ни бился, а не мог разжевать.
Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, "Оренбургская Муха". Хуторяне мои его так же называли, например: "К нам прилетела "Оренбургская муха", или "Мы ожидаем "Оренбургскую муху" и т. д. Покойного Котляревского "Полтавская Муха"67 была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не нападала, подобно полтавской; это было просто описание вседневной прозаической жизни честного и скромного молодого человека, а для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовию следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на красныце в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он всё смотрит да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится богу и ложится спать, а завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в госпиталь. Всё, совершенно всё видят, даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговора не обойдется.
"Оренбургская Муха" исправно являлась на хутор каждую неделю, и чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник; воскресенье только и отличалося от понедельника тем (если не был дежурным), что был у обедни. Старики с наслаждением читали «Муху», никак не подозревая ее убийственно однообразного содержания.
Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. "Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия, писал он, — а то и того нет". На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками, словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовиться защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии, но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а об обширнейших знаниях и думать было нечего.
Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что всё это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо, а до Уфы, заметьте, не более, не менее, как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу, — Все же таки, — думал он, — село, следовательно, не без зелени. — И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети, а зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь такая, что он не мог и чаю напиться. — Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок дохлой кобылятины, — он и счастлив. Поедем в другую сторону. Поехал он в Неженку, — это будет по орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно, зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивяся бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.
— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.
— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно.
Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела… или. лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:
— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить!
— Да рази я стряпка какая?
— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом: чай, рыбы пропасть?
— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.
— Чем же вы занимаетеся?
— Бакци сеем.
— Ну, так сорви мне пару огурчиков.
— Нетути, мы только арбузы сеем.
— Ну, а еще что сеете? Лук, например?
— Нетути. Мы лук из городу покупаем!
— Вот те на! — подумал он: — деревня из города зеленью довольствуется.
— Что же вы еще делаете?
— Калаци стряпаем и квас творим.
— А едите что?
— Калаци с квасом, покаместь бакца поспееть.
— А потом бахчу?
— Бакцу.
— Умеренны, нечего сказать, — и он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают и… И он не додумал этой тирады: извозчик прервал ее, сказавши:
— Лошади, барин, отдохнули.
— А, хорошо! Закладывай, — поедем.
И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.
С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командируется с транспортом на Раим.
О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения, словом, всё, что было им прочитано — от "П. И. Выжигина"68 даже до "Четырех стран света"69, - решительно всё припомнил.
Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:
— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?
Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова:
— Лекарь Сокира в Орскую крепость. Подвысь!70 — Пошел!
И тройка понеслася через форштат мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встащил две пушки, осаждая Оренбург.
До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелося пить, но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:
— Здесь тоже оренбургские козаки живут?
— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.
Он легонько вздрогнул.
— А почтовая станция здесь?
— Дальше, в Озерной.
— Там тоже хохлы живут?_ _
_- _Нет-с, наши русские.
Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.
У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?
— Можна, чому не можна; Мы добрым людям ради.
Он отпустил ямщика и остался ночевать.
Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою, а чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинок?
— Шинку-то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.
Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку, а маленькому Ивасеви дал кусочек сахару.
Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.
Не замедлили цыплята закричать за хатою и также не замедлили явиться на столе с парою свежепросольных огурцов к услугам гостя.
— Закушуйте, будьте ласкави, — говорила хозяйка, ставя на стол цыплят, — а я тымчасом побижу до Домахи, чи не позычу з десять яєць, а то в нас, признаться, вси выйшлы.
И она проворно вышла из хаты.
На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая всё это, он спросил, что он им должен за всё.
— Та, признаться, нам бы ничего не треба, та думка та, що треба б дытыни чобитки купыть.
Он подал ей полтинник.
— Господь з вамы, та ему и за грывеннычок Вакула пошие.
— Ну, там соби як знаешь, — сказал он и простился со своими гостеприимными земляками.
Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.
Вот как он рассказывает в своей «Мухе» впечатление, произведенное видом этой крепости.
"29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистой дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня, а среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.
— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.
— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалося грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастие ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалася мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка, и вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а краснобурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.
Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман-кала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яман-калы предполагалося когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменых колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный, и — странная игра природы! — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата; да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.
30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово «несчастный». Он пояснил мне, и я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифорович.
— Можно ли мне прочитать его конфирмацию?
— Можно-с.
И я прочитал вот что: "По конфирмации военного суда, за разные противозаконные и безнравственные поступки, написывается в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою".
Нельзя ли мне видеть этого рядового? — спросил я писаря.
— Можно-с. Извольте следовать за мною.
И услужливый писарь привел меня в казармы.
Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте_, _маменьке, ради бога, этого письма: она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара. На нарах в толстой грязной рубахе сидел Зося и, положа голову на колени, как «Титан» Флаксмана71, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил.
— Это ты, брат Ватя?
— Я.
— А это я, — сказал он, вытягиваясь передо мною во фронт.
Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он всё стоял передо мною навытяжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, не нужно, ли ему чего-нибудь.
— Нужно, — отвечал он, не переменяя позиции.
— Что же тебе нужно?
— Деньги!
— Но я много не могу тебе предложить.
— Сколько можешь.
Я дал ему десятирублевый билет.
— Спасибо, брат, — сказал он, принимая деньги, и потом прибавил: — мы ей протрем глаза.
Я, уходя из казарм, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.
Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалося, что я видел Зосю во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке, такое помертвение всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это, действительно, Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека, или только опошлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.
— Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зосю? — И я не мог в себе найти ответа".
Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь, следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, козаков, солдат, он ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно, особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым он был на ты. Просил у него денег — сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять тот обещал ему дать завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ его честью даже ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы… Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал, а иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции; одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.
Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря: "Живем!", — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.
— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей.
Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости. Спустя дня два после этого грустного свидания Ватя слушал за Орью напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт двинулся в степь, подымая серые облака пыли. Спустя еще полчаса из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ними не видно было "чудака, но благороднейшего малого". Ватя, бесприветный, исчезал, в облаках пыли.
В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него «Мухи», что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. "А когда возвращуся из Раима, тогда, даст бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями". Но случилося так, что он должен был в раимском укреплении сменить лекаря N. и остаться вместо него в степи в продолжение четырех лет.
"Мои милые, мои незабвенные хуторяне! Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и остануся в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня, а пока это случится, я обещаю вам попрежнему посылать мою, уже "Раимскую Муху" с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей «Мухи» на вашем благодатном хуторе.
12 мая транспорт, в числе 3 000 телег и 1 000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов, — словом, — первый переход пройден был быстро и незаметно. На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности степь, и, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыля, да и тот стоит — не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом, — всё, кроме ковыля, умерщвлено, немо всё и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище, это — двигающийся транспорт. Солнце подымалося выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показалися белые серебристые волны, и степь превратилася в океан-море, а боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратилися в корабли под парусами. Очарование длилося недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид, только боковые козаки попарно двигалися, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению: все-таки разнообразие. Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывется в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.
— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.
— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.
— Рази ослеп? не видишь? Степь горит!
— И всамделе горит. Вишь, собаки!
Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма. Вскоре открылася серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. И я вздохнул свободнее, и пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был всё еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте всё затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилася моим изумленным очам: всё пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говаривал: — Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает. — И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство!
Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии и на огненном фоне показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по косогору и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная, и я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилася та же огненная картина с прибавлением "Содома и Гоморры" Мартена72. Меня разбудил вестовой, транспорт готов был двинуться; я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.
Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположилися на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались косогоры, местами даже белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.
По обыкновению, транспорт снялся с восходом солнца, только я, не по обыкновению, остался в арьергарде. Орь осталася вправо, степь принимала попрежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода, я заметил, люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком, и все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: — Мана аулья агач (здесь святое дерево). — Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего Воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалося) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешаны набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашеных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на всё это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою, а я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил «прощай» и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом.
Мы остановились на речке Кара-Бутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка, и как с нами следовал священник, то на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае. После долгой, самой задушевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Кара-Кумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.
От Кара-Бутака до Иргиза перешли мы еще две небольшие речки Яман-Кайраклы и Якши-Кайраклы. Физиономия степи одна и та же, безотрадная, с тою только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камыша и глины сложенные, «мазарки», как их называют уральские козаки, да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?
Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Иргиз и пошли по левому плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских аулья, называемая мана аулья, т. е. здесь святой. Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков.
Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев и несколько человек захватила с собою, а несколько оставила убитыми, и здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в Уральском укреплении.
Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у вожака, что это такое, он нам ответил: — Иргиз-кала.
Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностию. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.
Пройдя Уральское укрепление, мы два раза останавливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Джаловлы. За этой гнилой речкой начинаются страшные Кара-Кумы (черные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Кара-Кумы. Бывалые в Кара-Кумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.
Задолго до рассвета начали вьючить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было, и чем выше солнце подымалось, нордовый ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.
Трое суток мы не снимали шинелей, и над рассказчиками про ужасы Кара-Кумов начали было уже подтрунивать, как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая. Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной жажды и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солено-горько-кислую воду, а вдобавок ее в рот нельзя было взять, не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьявками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга, и, благодаря его догадливости, я с помощию лимона выпил стакан чаю. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлося хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.
Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по-моему, самое лучшее проходить Кара-Кумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают: они днем — и под тяжестию, и на свободе — должны сражаться со своим злейшим врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.
С восходом солнца открылася перед нами огромная бледнорозовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылося тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречались в Кара-Кумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовою тенью.
Один из козаков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, и сказал: — Не смотрите, ваше благородие, — ослепнете! — Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять вожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался невиданною мною картиной, будучи сам атомом этой громадной картины: через всю белую равнину черной полосою растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалася, переливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.
Ввечеру многие явились ко мне за медицинским пособием: они ничего, кроме серого тумана, не видели. На глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками, тем дело и кончилось.
Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит.
По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Кара-Кумы.
Еще переход, и мы увидели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно оживился, как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.
На другой день мы уже купались в Сарычеганаке (залив Аральского моря). Еще один день следовали по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаула. Этот и следующий переход, до озера Камышлы-баша (залив Сыр-Дарьи), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем: жару было в тени 40°, а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к Раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-иргиз.
На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма, — вот и весь [Раим?]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов, лица. Мне сделалось страшно.
— Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия? — спросил я у одного офицера.
— Слава богу, благополучно, — отвечал он мне.
Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кое-где из темной зелени выглядывает серебристая Сыр-Дарья.
Итак, я на Раиме.
Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называемое Раим, от абы, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря Раима, остатки которой вошли в черту укрепления.
Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке, а теперь молюся богу о вашем здравии, мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.
Р. S. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда".
Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был прожить несколько месяцев в Золотоноше и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении "Раимской Мухи", я говорю "почти публичном чтении" потому, что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за «Мухой», я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргизов, сравнивая их с библейскими евреями, а аксакалов73 их с патриархом Авраамом. Иногда касается он слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помещения юмористически сравнивает с хижиной, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов; а от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижины войлок, которого они, по сказаниям киргизов, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.
В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описанной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широчайшей бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, видите, был из числа несчастных), — и он, знай, благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом.
И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, он пишет, что это человек неглупый, с которым он сошелся весьма близко, так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он мог бы назваться самым неистовым камедулом74; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что, несмотря на его гнусное положение, настоящее и будущее, — ему уже за пятьдесят лет, — он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом75, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что (пишет он) этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря, — такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон76 сказал бы спасибо.
В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному Оренбургскому корпусу, где напечатано, что Зосим Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему он немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться?
А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершено было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополуночи, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле.
В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал этою же зимою на побывку в свой Дорпат, да там и остался. За Прасковьей Тарасовной в своем завещании утверждает власть матери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает: чтобы отпевание совершено было в церкви Покрова и чтобы исторический образ покрова пресвятыя богородицы на время отпевания поставлен был в головах около его домовыны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый, ярого воску, ставник перед образ покрова; и чтобы бренные останки его были преданы земле непременно в пасике, и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб каменного креста в Трахтемирове не заказывали, потому, говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосимы и Савватия; и чтобы ежегодно в день покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского, и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ. Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. "А еще, прибавляет он, — кто дерзнет (кроме моего Савватия) наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокровище — да будет проклят!" Марине завещал по смерть ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу 25 и 25 ульев пчел единовременно.
Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев, на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.
Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали той ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают "Письма из-за границы" законодателя русского слова77 или задушевного друга и помощника его "Письма из Финляндии78. Нет, в письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.
Прочитывая его письма, я как бы сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулась.
Школу свою распустивши на пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюдений за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе, потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Фроловском монастыре в Киеве, а в чигиринской богоспасаемой пустыни. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила, только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорыч. Явился, и всё пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смиренного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилася в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступиться за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю, — авось либо само всё придет к лучшему концу.
Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец, я решился написать Савватию письмо, в котором советовал ему, если он хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.
Савватий так и сделал, — взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен, и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот ввернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами, а Зосим был изгнан с посрамлением.
Возмутилось твое безмятежное, кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу, стерегущему святыню, в нем хранимую, проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное благородное сердце своего единого друга, Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми, струны живые изорванными, а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнанное горячей табачной золою; псалтырь же его священная, Геродот79 его, единая его радость — летопись Конисского наполовину изорвана для закуривания трубок.
Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покатились по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно, проговорил: — Бог вам судия! Вандалы! Варвары!
На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику; а когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, взял отпуск на 28 дней и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал их еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтрему приглашено уже духовенство, т. е. соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупорили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаяся струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:
Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Прасковья Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.
На завтрашний день, часу около десятого, явилося духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики, с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и осеня ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке, и по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питие, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.
Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она вспомнила бывалые свои религиозные пиры и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя хоть покуштувать. Гости, разумеется, по обыкновению отнекивались. Один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.
Когда же трапеза приблизилась к концу и ничего уже не подавалось съедобного, опроче сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:
По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, вышли на леваду, а там стоял ожеред только вчера сложенного сена, вот они, с общего согласия, расположилися в тени и почили сном праведных все до единого.
В светлице же беседа длилася почти что до вечерен. Было говорено много о предметах, касающихся общежития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник, богослов, говорил много, и всё из писания, и всё по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивяся его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: вот так голова! А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего, но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.
Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы, и он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:
К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песен мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:
Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и недремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички и рушать во-свояси, что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.
Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запел хором:
Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдали песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?
Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим, Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами, — образом взгляда на вещи вообще и на человека в особенности, своим юношеским девственным взглядом на всё прекрасное в природе. Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, и радовался, что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.
Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.
По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадушку белого, как сахар, липцу.
— Это, — говорит мой Ярема, — подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова.
— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?
— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчувственная.
— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно! Возьми, Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа, отдай ему всё это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.
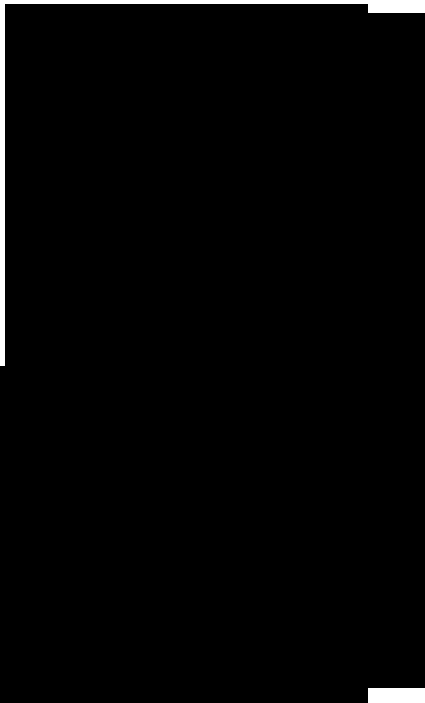 |
Через несколько дней Степан Мартынович сидел на своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 рублей серебром. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею божиею, и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.
Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист пресвятой богородицы Одигитрии80 и Киевский Патерик81, из которого он почерпнул прекрасные, назидательные идеи и решился по гроб свой подражать святому, прекрасному юному отроку праведного князя Бориса82.
В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — [история] самого счастливого народа.
Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями, например: "Накануне воздвижения честного и животворящего креста господня у приятеля моего мещанина Карпа Зозули кобыла ожеребилась буланым жеребчиком, а у соседа нашего той же ночи вола украдено". Что же касалося собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.
В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе в самом жалком виде:
"Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста пресвятой богородицы Одигитрии. Страх и трепет прийде на мя.
— Кто там? — воскликнул я во гневе.
— Отвори, — говорит, — Христа ради, Степан Мартынович!
Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.
— Что, — говорит, — не узнал меня, дядюшка? А, каков я молодец?
— Очам своим не верю! — говорю я.
— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.
— Не верю! — проговорил я снова.
— Я, — говорит он, — твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник — Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?
— Знаю, — говорю я.
— А коли знаешь, так и толковать больше нечего: посылай за сивупле! Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры83.
— Горилки, — говорю, — нет, и послать некого.
— Давай денег, я сам пойду.
Я дал ему на кварту денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже наполовине, а Зоси нет как нет. — Господи, — думаю себе, — живый на небесех, сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною? — И, прочитавши "Да воскреснет бог", я успокоился духом, прочитал снова акафист пресвятой богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и комын, прочитал трижды "Да воскреснет бог" и отошел ко сну.
На другую ночь повторилося то же самое видение, на третью тоже, и я все ему даю на кварту горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.
Ввечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал Патерик.
Начал читать, утешения ради, житие преподобного мученика Моисея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудныя болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы воеводыни, лицем зело красныя, а сердцем аспиду подобныя. Первая услышала стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь, с каганцом в руке, и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувствия. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:
— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь!
И так сдавил мне горло, что я едва выговорил:
— Твоя маты.
— А, когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?
Я посветил ему каганцом и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:
— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок: деньги, или молися богу, говорит.
В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя она пришла в себя и проговорила:
— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!
— Я здесь, маменька, что прикажете?
Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:
— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня: это всё вздор, чепуха! Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный, — это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!
— Зосю мой! сыну мой единый! — проговорила она снова.
— Нечего тут «единый»! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович! Она тебе после отдаст!
Достал я из бодни всё, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:
— Больше нет?
— Нету, — говорю, — все до единого пенязя.
— Смотри, врать грешно, ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки! Теперь я им покажу, кто я таков! До свидания, маменька! Потрудитесь заплатить долг.
И с этим словом он вышел из школы. Прасковьи Тарасовна еще раз проговорила:
— Зосю мой! сыну мой единый! — и упала на постель аки мертвая.
Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету; он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжко плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той же божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву "Господи, не лиши меня небесных твоих благ". По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина — и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгой до самого утра.
Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу всё случившееся вночи. И на рассказ мой он только заплакал.
Ввечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрытки N. на Пидварках.
Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:
— Зосю мой! сыну мой единый!
Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.
Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божий, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою; это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.
Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переношуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина84. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святый мой и незабвенный старче!
И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли, а одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую. Сначала осуровили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить порабощенное племя и пришельцами поруганную, самим богом завещанную тебе святыню.
Кто, посещая Киево-Печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.
Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.
Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.
Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна, как услышал тихо произнесенное слово: "Мамо!"
— Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни.
Я оглянулся невольно.
Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души, но я согрешил, потому что говор этот показался [мне] паче всякой музыки. Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко не красавица. А кого она называла «мамо», это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебряною пряжкою. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений, чепцом. Я, не знаю, почему-то не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними.
Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши, и я за ними. Они вышли из крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к "Зеленому трактиру", и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то N занят такой-то с воспитанницею. Я хотя и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и подавно. Разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как, очутился в общей столовой и спросил себе, тоже не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому — художнику Ш., недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности и, думая пойти в лавру, я пошел в сад. (Здесь, видимо, предопределения дело.)
Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем, только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сделал на типографском крыльце. Они молча сели, и сестра милосердия (так я тогда думал) спросила меня:
— Вы, вероятно, живописец?
Я отвечал: — Да.
— И рисуете виды Киева?
Я отвечал: — Да.
После длинной паузы она спросила:
— Вы давно уже в Киеве? Я отвечал: — Давно!
— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в "Зеленый трактир" в номер N. N.
Рисунок акварельный был у меня давно начат; я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок, и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном бриле.
На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в "Зеленый трактир", а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.
— А! вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.
— Здесь, — ответил я.
— Давно?
— Давно, — ответил я.
— Да и портфель с вами, вы верно рисовали?
— Нет, не рисовал! — и вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера.
Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала:
— Благодарю вас, — и будемте знаковыми, хорошими приятелями, а если можно — друзьями. А это, кажется, возможно! — прибавила она, глядя на свою молодую подругу.
— Сядемте, отдохнем немного, — сказала она, и мы все трое сели.
После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала:
— А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!
— Благодарю вас, — сказал я младшей, а старшей сказал: — не стоит благодарности, — после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.
Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами, а к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но увы! меня уже там не было. Я далеко уже был весною, и о мелькнувшей радости вспоминал как о волшебном очаровательном сне.
Вот почему так любо мне вспоминать о типографском крыльце.
Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве, и опять посещаю заветное крыльцо, и теперь, накануне праздника успения богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуяся пейзажем, вспоминал то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово «мамо». Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал друг мой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким щеголем, что, если бы не жиденькая белая бородка, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сюртук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только!
После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.
— Уже третий день, — отвечал Степан Мартынович, — и привезли вам письмо от Савватия Никифоровича, та не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем итти на акафист Варвары великомученицы, а завтра, если господь даст, приобщимся святых тайн христовых здесь, в лавре, и тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатуле на квартире, а квартира наша здесь же, на Печерском, в доме мещанки Сиволапихи.
Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшею страдалицей; на кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартыновичу:
— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?
— Хвала милосердому богу, всё хорошо и всё благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.
— Куда же намерены теперь итти?
— А мы думаем, если господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно и мы подождем, пока благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.
Мне был знаком отец Досифей, настоятель больничного монастыря, и я отправился к нему просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима.
Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправились на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке и, раскрывши письмо, читал вот что:
"Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю!
Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случалися для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалося перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, предшественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь со своею матерью в школе доброго, моего будущего посаженого отца, Степана Мартыновича, и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни. У нее, как у меня, отца нет, только мать осталася, и мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту!
По обязанности уездного медика я часто теперь хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам.
Однажды по обязанностям службы я еду проселочною дорогою; грязь была; лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал, словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать.
— Да где же, — говорю я, — серед шляху, что ли?
— Крый боже, серед шляху! Нехай ляхи, татары ночують в таку непогодь серед шляху, а мы звернемо — он бачите лисок?
— Бачу, — говорю я.
— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхы. От вона нас и впустыть ночувать.
— Добре, — говорю я: — звертай з шляху!
— Стрывайте, отут буде шляшок.
Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутилися в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.
— Сей лис зоветься, пане, "Лапын риг", — проговорил возница, — а за що его так зовуть, то бог его знае. Брешуть стари люды, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що велыки сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорять, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкамы золото носыть. Бог его знае, колы то те буде. А он и хутир.
Действительно, огонь показался между деревьями, и вскоре мы подъехали к затворенным воротам. Собаки страшным лаем нас встретили, потом раздался женский довольно грубый голос:
— Хто тут?
— Благословить, матушка, переночувать на вашим хутори, — отвечал мой возница.
— Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечеряють, им николы, а я не в сылах.
Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своею лошадкою на двор, снова затворил ворота и, обращаясь к хозяйке, сказал:
— Добрывечир, матушко!
— Добрывечир, добрый чоловиче! Видкиля бог несе?
— Та от везу панка з Глемязова, та бачите, яка непогодь.
Я тоже подошел к хозяйке и сказал:
— Позвольте, если можно, переночевать у вас.
— Извольте, с большим удовольствием, — отвечала она мне, с едва заметным малороссийским акцентом: — Прошу покорно в комнату.
Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: — Прошу покорно! — из чего я заметил, что это не служанка.
Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:
— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка! Прошу покорно, садитесь!. И бог их знает, чему они их учат в том институте. Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать, а то стоит себе.
Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шопотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: — Извините нас! — Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка "Отечественных Записок"85, развернутая на "Давиде Копперфильде"86. В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная, не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи, а если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.
— Что это вы, — сказала она, снявши со свечи, — любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава богу, большая охотница читать, да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть с работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще "Современник"87, а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.
Вскоре был подан чай, то есть самовар, а вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.
— Не втерпила-таки, — проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко! Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству, — сказал она, обращаясь ко мне.
— И прекрасно делаете, — ответил я. — Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.
— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите, поговорите с нею!
Наташа краснела, краснела и, наконец, покраснела как вишня и выбежала из комнаты.
— Ах ты, бессережная! — проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.
Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, наклонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографии.
Елена Петровна Калита, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.
— А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали, — прибавила она шутя, — а она не умеет и чаю налить.
После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.
И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме них, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садяся в телегу, насвистывал какую-то песенку.
Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалося, что нужно взять влево Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога, а потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: — Он же меня завез на хутор, он и вывезет — Пустив вожжи, словоохотный возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство.
— Оце все, що тилько оком скынешь лису, все ии. А лис-то, лис мыленный, — дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка! Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны та що й казать! Сказано — пани, так пани и есть… А ще я вам скажу…
Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули и задняя ось отскочила, а я вывалился из телеги. Тогда он закричал: — Прруу, скажени! — и, посмотревши вокруг, проговорил: — От тоби й на!.. Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепымось. — Воно так и сталося.
— Що ж мы тепер будемо робыть? — .спросил я.
— А бог ёго знає, що тут робыть! — и, подумавши, прибавил:
— Эх, головко бидна, сокыры нема, а то б повалыв дуба, — от тоби и вись. Вернимося на хутир, там чи не дамо якои рады.
Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие, и, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.
Солнце уже прорезывало золотыми полосками чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я, как окаменелый, стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:
Ой ти, козаче, ти, зелений барвiночку!
Хто ж тобi постеле в полi бiлую постiленьку?
Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музы, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходившая из садовой калитки Наташа. Она мне показалася настоящею богинею цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчуга, бусы из белых черешен. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:
— Что, далеко уехали?
Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крылечко.
— Что, небось, с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь. Прошу покорно, — прибавила она, указывая на скамейку.
Я сел.
— Наталочко! — закричала она: — скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюда на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю.
— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни.
Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.
— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни. А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет и, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении из Полтавы пела, бывало, иногда какой-то "Черный цвет", а теперь и тот забыла.
Я рассеянно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.
— Ах, я божевильная, — воскликнула вдруг хозяйка. — А ты, Наталочко, и не напомнишь! Ведь сегодня суббота, а мы в субботу собиралися ехать в Переяслав. Одарко! — Служанка появилася в дверях, сказавши тихо:
— Чого?
— Скажи Корниеви, щоб брычку лагодыв и кони годував, а пообидавши, рушимо в дорогу.
— Добре, — сказала Одарка и скрылась.
— Как же это хорошо, что я во-время вспомнила! Если вы не торопитесь, то обедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.
— Даже и в городе, если вам угодно. До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.
— Я маме, — говорила она самодовольно, — я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает; я ужасно люблю барвинок.
— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?
— Нет, не имеем.
— Так я обещаю вам несколько отсадков.
— Благодарю вас.
Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов, и даже выписать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелося сказать ей об этом.
После обеда, без особенных сборов, мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустилися в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залучить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они прогостили у нас два дня и так подружились с [моей] матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если б не свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.
Взаимные наши посещения продолжалися без малого год и кончилися тем, что я уже другой месяц в роли жениха, и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите мое счастие, а чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженым отцом и другом, Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друже. Многое не пишу вам собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью. До свидания.
Ваш почтительный сын и искренний друг
С. Сокира".
Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой всё устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.
Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна со своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было всё приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в церковь Покрова, и после обедни окрутили, с божим благословением, наших молодых и задали пир на всю переяславскую палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцевать «журавля».
После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастия своих названых детей.
Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юною прекрасную подругу своего Савватия, шепотом сквозь слезы повторяла:
— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!
20 июля 1855
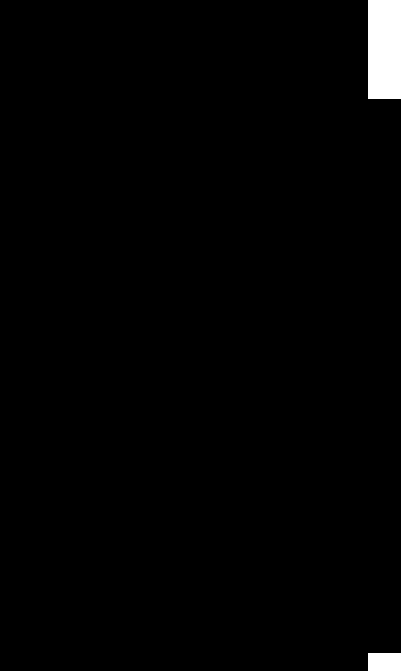 |
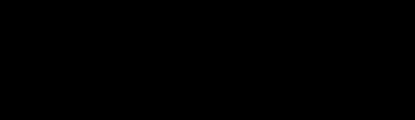 |
25 генваря 1856
Великий Торвальдсен[1] начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов[2] с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашеньем полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливцев гениев-художников, которые иначе начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода, Остаде[3], Бергем[4], Теньер[5] и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса[6] и Ван-Дейка[7]) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо было бы указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари[8] и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса[9], уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера[10]. И тогда, говорю, когда Лев Х и Леон II[11] спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери[12]. И так случалося (к несчастию, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство!
И в наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех своих средствах отстранить и укрыть жертвы "Карающей богине обреченной".
За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.
Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.
Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.
Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина!
В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы, — это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.
Я часто любовался пейзажами Щедрина[13], и в особенности пленяла меня его небольшая картина "Портичи перед закатом солнца". Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.
Однажды, насладившись вполне этою нерукотворною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случалося бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн[14], пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов, и садился отдохнуть на берегу озерка, и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка[15].
Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.
Я остановился. Мальчик (потому что это действительно был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.
— Я ничего не делаю, — отвечал он застенчиво. — Иду на работу, да по дороге в сад зашел. — И, немного помолчав, прибавил: — Я рисовал.
— Покажи, что ты рисовал.
И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.
Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.
— Ты часто ходишь сюда рисовать? — спросил я его.
— Каждое воскресенье, — отвечал он, — а если близко где работаем, то и в будни захожу.
— Ты учишься малярному мастерству?
— И живописному, — прибавил он.
— У кого же ты находишься в ученьи?
— У комнатного живописца Ширяева[16].
Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.
— Куда ты торопишься?
— На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.
— Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.
— Хорошо, я приду, только где вы живете?
Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.
В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки, и в коридоре перед N моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку; он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника: не видал такого? "Видел, — говорит, — малого с бумагами в руке, выбежал на улицу". Я на улицу — и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля? Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи, — нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского[17], т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда. А приятель мой тут как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон. И мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.
Как умел, обласкал моего приятеля, и, когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.
— Вы на меня рассердились. И я испугался, — отвечал он.
— И не думал я на тебя сердиться, — сказал я ему. — Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. — Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку.
Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.
Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилося даром. В особенности с кривыми и косыми: эти кривые и косые дали мне знать себя. Сколько ни случалось мне с ними встречаться, хоть бы один из них порядочный человек. Начисто дрянь. Или это уже мое такое счастье.
Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же _на свете такие счастливые физиономии!
Я пошел прямо домой, боялся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся.
— Ты порядочный скороход, — сказал я. — Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?
— Да я торопился, — отвечал он, — чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.
— Разве у тебя хозяин строгий? — спросил я.
— Строгий и…
— И злой, ты хочешь сказать.
— Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.
Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте копия с старика Веласкеса[18], что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита[19]. А в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.
Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда, и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.
Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в кожуре? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в пословице: "Бог не без милости, козак не без доли".
— Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? — спросил я его, отдавая ему сверток.
— Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.
— _Значит, ты не видал их, как они освещаются?
— Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать, люди ходили.
— Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или идти домой?
Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:
— Я остался бы у вас, если вы позволите.
— А как же ты после разделаешься с хозяином?
— Я скажу, что спал на чердаке.
— Пойдем же обедать.
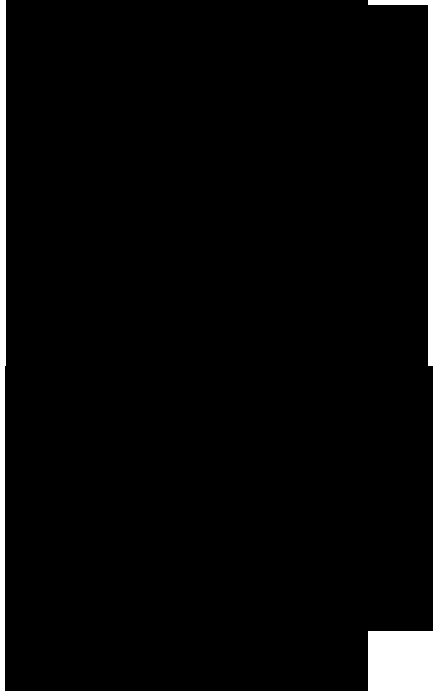 |
У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно было бы встретить какую-нибудь чиновничью выутюженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.
После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему "Последний день Помпеи". Но не все вдруг. После обеда я предложил ему или идти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее. Я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса "Никлас Никльби"[20] я заснул. Но в этом ни автор, ни чтец не повинны: мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.
Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия. Ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде все было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела как стеклышко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена Фортунаты.
Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эта услуга явно говорила в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в «Капернаум» чай пить. «Капернаум» — сиречь трактир «Берлин» на углу Шестой линии и Академического переулка. Так окрестил его, кажется, Пименов[21] во время своего удалого студенчества.
За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек.
Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет? "Вам неприятно, что я…" Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его, как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.
Дорогой встретился нам старик Венецианов[22]. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:
— Не будущий ли художник?
Я сказал ему:
— И да, и нет.
Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.
Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда неясно, что-то вроде надежды на горизонте.
Protege мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный, "Геркулес Фарнезский", выгравированный Служинским[23] по рисунку Завьялова, и еще «Аполлино» Лосенка[24]. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его италианскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.
Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.
Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного.
Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевывать его настоящее жесткое положение.
Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но увы! не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже. И я решился ждать, что воскресенье скажет.
В воскресенье поутру явился мой приятель. И на спрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началася работа в Большом театре (в то время Кавос[25] переделывал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.
И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Ввечеру, уже расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.
На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.
Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесячно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме помянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах, Одрана[26] и Вольпато[27], а на комоде несколько томов книг, в том числе и "Путешествие Анахарсиса Младшего"[28]. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издалека намекнул об улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.
На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было б уверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить?
Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалося уговорить его, чтобы он не препятствовал моему protege посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Он чуть-чуть не угадал.
Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулися и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили "Mauvais genre". А неприступные пуританки хором воскликнули: "Разврат! разврат! открытый публичный разврат!" И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилася быть princesse Troubeckoy — они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.
Карл Великий[29] (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцевала качучу в балете "Хитана"[30]. В тот же вечер разлетелася качуча по всей нашей Пальмире[31]. А на другой день она уже владычествовала в палатах аристократа и в скромном уголке коломенского чиновника. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и… за обедом, и за ужином — словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это все ничего, красоте и юности все это к лицу. А то почтенные матери и даже отцы семейств — и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта[32] в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфитриона не имелося собственного карапузика, то вечеринка украшалася карапузиком-хитаном, взятым напрокат.
Свежо предание, а верится с трудом.
В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:
— Знаете что?
— Не знаю, — ответил я.
— Сегодня Губер[33] (переводчик "Фауста") обещал мне достать билет на «Хитану». Пойдемте.
— В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.
— Не сбегает ли этот малый? — сказал он, показывая на моего протеже.
— И очень сбегает, пишите записку.
На лоскутке серой бумаги он написал итальянским карандашом: "Достань два билета. К. Брюллов". К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий[34] мой полетел.
— Что это у вас, модель или слуга? — спросил он, показывая на затворяющуюся дверь.
— Ни то, ни другое, — отвечал я.
— Физиономия его мне нравится: не крепостная.
— Далеко не крепостная, а между тем… — Я не договорил, остановился.
— А между тем он крепостной? — подхватил он.
— К несчастью, так, — прибавил я.
— Барбаризм![35] — прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и сказал: — Я Дождусь его, мне хочется еще взглянуть на его физиономию. — И, закуривая сигару, сказал: — Покажите мне его работу!
— Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?
— Должна быть, — сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона[36], рисунок оконченный, и следок Микеланджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел — бог его знает, на что он смотрел тогда.
— Кто его господин? — спросил он, подняв голову.
Я сказал ему фамилию помещика.
— О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать. — Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился: — Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания. — И он вышел.
Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.
— А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? — спросил я его.
— Знаю, — ответил он, — только я его никогда в лицо не видел.
— А сегодня?
— Да разве это он был?
— Он.
— Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? — спросил он после некоторого молчания.
— Не знаю, — сказал я и начал одеваться.
— Боже мой, боже Мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть. Знаете, — продолжал он, — я, когда иду по улице, все об нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ними. Портрет его, говорите, очень похож, что на "Последнем дне Помпеи"?
— Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс. Я сегодня дома не обедаю.
Сделавши такое распоряжение, я вышел.
В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Вельегорского. Они любовались еще не оконченной картиной "Распятие Христа", писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.
Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи. И каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его «Казармой». Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу говаривал:
— Для этой одной картины можно приехать из Америки.
То же самое можно теперь сказать про его «Распятие» и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.
После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: "Фундамент есть". В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из «Фауста», и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта.
Вскоре Жуковский и граф Вельегорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную «Терпсихору», после чего Брюллов сказал:
— Я решительно не еду смотреть «Хитану».
— Почему? — спросил Губер.
— Чтобы сохранить веру в твою "Терпсихору"[37].
— Как так?
— Лучше веровать в прекрасный вымысел, нежели…
— Да ты хочешь сказать, — прервал его поэт, — что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца! ногтя на ее мизинце не стоит, богом тебе божусь. Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто[38] с лакрима-кристи[39]. Там будет Нестор, Миша и cetera, cetera… И, в заключение, Пьяненко. Едем! — Брюллов взял шляпу. Ах, да! Я и забыл… — продолжал Губер, вынимая из кармана билеты. — Вот тебе два билета, а после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).
— Помню, — отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.
— И вы с нами? — сказал Губер, обращаясь ко мне.
— И я с вами, — ответил я.
— Едем! — сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:
— Вот тебе и ростбиф!
После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась на биржу, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protege. (Для всех орнаментов и арабесок, украшающих плафон[40] Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже). Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремили глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась. Начался балет. До качучи все шло благополучно, публика держала себя как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет все вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и — качуча кончена, — и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что гаразд: кто браво, кто da capo[41], а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится работает руками и ногами и что есть духу кричит: "Da capo!" Губер тоже. Я немного перевел дух да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:
— Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.
— Пойдем, — сказал Губер восторженно, и мы пошли за кулисы.
За кулисами уже роилася толпа поклонников, состоящая большей частью из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.
— Отвратительно! — сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер! Воистину бедный! Он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнеся фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.
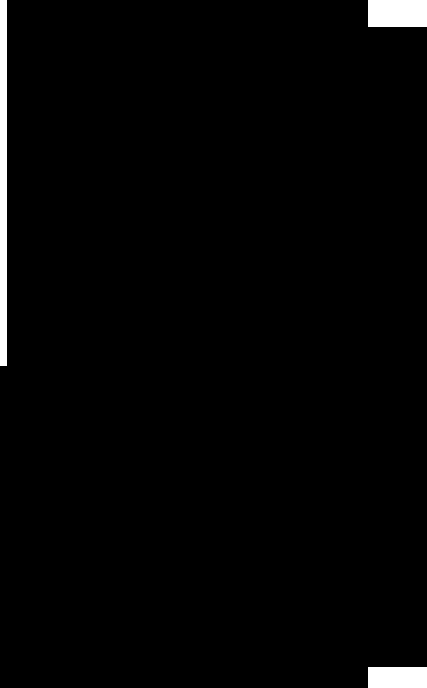 |
Оставался еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить десерта капустой, как выразился Брюллов. Не знаю, посещал ли он балет после «Хитаны», знаю только, что он никогда не говорил о балете.
Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: "Фундамент положен", в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучше занять своего ученика. Домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи), пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно. После долгих размышлений я с двугривенным обратился к живому Ангиною[42], натурщику Тарасу, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера[43], распутного наперсника Марка Аврелия, и голову «Гения», произведение Кановы[44]. Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы. А постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведерским торсом[45] да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микеланджело ощупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно. Некий господин Герсеванов в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микеланджело "Страшный суд"[46], фрески божественного Рафаэля[47] и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!
После анатомии сделал он рисунок Германика и танцующего фавна[48]. И в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунки.
Я в жизнь мою не видал веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней. "Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?" — спрашивал он меня несколько раз. "Всегда", — отвечал я. "И эта красная — любимая его комната?" — "Любимая", — отвечал я. "Все красное! Комната красная, диван красный. Занавеси у окна красные. Халат красный и рисунок красный, все красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?" И после этого вопроса он начинал плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? "Все красное! " — повторял он сквозь слезы.
Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталася памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он все: и искусство, духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего, все и все забыл; красная декорация и Карл Павлович было его последним словом.
На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне:
— Вечером зайдите!
Ввечеру я зашел.
— Это самая крупная свинья в торжевских туфлях![49] — этими словами встретил меня Карл Павлович.
— В чем дело? — спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.
— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.
Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил:
— Вандализм! Пойдемте наверх, — прибавил он, обращаясь ко мне, и мы молча пошли в верхние комнаты, где помещались его спальня, библиотека и вместе столовая.
Он велел подать лампу. Попросил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок — сепию "Спящая одалиска" для альбома, кажется, Владиславлева.
Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, все еще преследовала свинья в торжевских туфлях.
— Пойдемте на улицу, — сказал он, закрывая рисунок.
Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект.
— Что, он у вас теперь дома? — спросил он меня.
— Нет, — отвечал я, — он у меня не ночует.
— Ну, так пойдемте ужинать. — И мы зашли к Дели.
Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видал.
Любопытство мое в сильной степени было возбуждено; я долго не мог заснуть, все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжевских туфлях. Любопытство мое однако ж охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки? Тогда что?
Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему, верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он выходил с честью.
Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины "Мать учит дитя молиться богу". Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева "Утренняя заря".
Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачалась чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайною, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.
— Ну, что же у тебя новенького? — спросил я его. — Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?
— Хозяин ничего, — отвечал он, запинаясь. — Я читал "Андрея Савояра", пока не легли спать, а потом зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.
— Что же ты рисовал? — спросил я его. — С эстампа или так что-нибудь?
— Так, — сказал он краснея. — Я недавно читал сочинения Озерова[50], и мне понравился "Эдип в Афинах", так я пробовал компоновать…
— Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.
Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:
— Не успел пером обрисовать.
Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность, или, лучше сказать, робость: это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали Полиник. Только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм. Первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту. Ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.
Я похвалил его за выбор сцены, посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато или с Пуссена, Одрана.
— И те, и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время. А книги я тебе буду доставать. — И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса ("История древней Греции")[51].
— У хозяина, — проговорил он, принимая книги, — кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да… — продолжал он, улыбаясь, — я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки, и что… — тут он запнулся, — и что он… да, впрочем, я сам тому не верю.
— Что же? — подхватил я. — Он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?
— Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и назвал меня дураком, когда я его уверял.
Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:
— Ничего не бывало! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай — тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что все это роскошно, дорого, великолепно, но все это по-японски великолепно. Сначала я повел речь о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал: "Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь!" И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело. "Вот так бы давно сказали, а то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно. — Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял? " Я ответил: "Действительно так". — "Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?" — "Согласен", — отвечал я. "Он человек ремесленный, — продолжал он, — при доме необходимый…" И еще что-то хотел он говорить. Но я поклонился и вышел. И вот я перед вами, — прибавил старик улыбаясь.
— Сердечно благодарю вас.
— _Вас благодарю сердечно! — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного искусства и видеть, наконец, чудака; чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем. — И старик добродушно засмеялся. — Я, — после смеха сказал он, — я положил свою лепту. Теперь за вами дело. А в случае неудачи я опять обращуся к Аглицкому клубу[52]. До свидания пока.
— Пойдемте вместе к Карлу Павловичу, — сказал я.
— Не пойду, да и вам не советую. Помните пословицу: "Не вовремя гость хуже татарина", тем паче у художника, да еще и поутру. Это бывает хуже целой орды татар.
— Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро, — проговорил он.
— Нисколько. Вы поступили как истинный християнин. Для труда и отдыха мы определили часы. Но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня обедаем дома. Приходите. Бельведерского если увидите, тащите и его за собой, — прибавил он уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого[53], ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.
На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии. Но увы! даже Лукьяна не нашел. Липин, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик — и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за теперешним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта[54], Зауервейда[55] и Басина[56]). Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициелли, увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.
— Ну что? — спросил он.
— Где вы сегодня обедаете? — спросил я.
— Не знаю, а что?
— А вот что, — говорю я, — пойдемте к Венецианову обедать, он вам такие чудеса расскажет про амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.
— Хорошо, пойдем, — сказал он, и мы отправились к Венецианову.
За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.
Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина нанималася большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медицийской, Аполлино, Германиком и группою гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо; тем более что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.
С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Общества В. И. Григоровичу и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.
Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне, живущему вместе с пансионерами в виде старшины.
Не следовало бы мне останавливаться на таком жалком явлении, как художник Головня, но как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.
Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головнею. У Плюшкина по крайней мере была юность, а следовательно, и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.
Он был пансионером Общества поощрения художников, и когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину просить вспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы. И, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.
Кто знает, что значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.
Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.
На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.
Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Васина и находил подробности отчетливее и вернее. Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.
Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса[57].
Все это шло своим чередом; и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.
— Что с тобою? — я спрашивал его. — Здоров ли ты?
— Здоров, — отвечал он печально.
— Чего же ты плачешь?
— Я не плачу, я так. — И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасный очей.
Я не мог разгадать, что все это значит? И начинал уже я думать, не стрела ли злого амура поразила его непорочное молодое сердце, как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.
Я как мог ободрял его. Но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.
В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным, простым маляром.
— Почему нельзя? Можно, — отвечал он. — Пока еще живописные работы не начались. А тогда уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете? продолжал он. — В состоянии ли он будет поставить за себя работника?
— Я вам поставлю работника.
— Вы? — с удивлением спросил он меня. — Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопочете?
— Так, — отвечал я. — От нечего делать. Для собственного удовольствия.
— Хорошо удовольствие! Зря сорить деньгами. Видно, у вас их и куры не клюют? — И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал: — Например, по скольку вы берете за портрет?
— Каков портрет, — отвечал я, предугадывая его мысль. — И каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.
— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.
— Так лучше же мы сделаем вот как, — сказал я, подавая ему руку. Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.
— На два? — проговорил он в раздумьи. — На два много, не могу. На месяц можно.
— Ну, хоть на месяц. Согласен, — сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.
— Когда же начнем? — спросил он меня.
— Хоть завтра, — сказал я, надевая шляпу.
— Куде же вы? А могорычу-то?
— Нет, благодарю вас. Когда кончим, тогда можно будет. До свидания!
— До свидания!
Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В четверике маку одно зернышко. Я любовался им в продолжение этого счастливого месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостию, таким полным счастием, что я, прости меня, господи, позавидовал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольскою, даже фризовая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на него, то на меня. Значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.
В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.
— Куда вы? — спросил он нас.
— К мадам Юргенс, — отвечал я.
— И я с вами, мне что-то вдруг есть захотелось, — сказал он и повернул с нами на Третью линию.
Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс. Ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому[58]. Ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное общество. Там он мог видеть и бедного труженика, сенатского чиновника, в единственном, весьма не с иголки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы за переписку лекций Фишера. Тут многое и многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа[59].
Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особенной комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался. В этот же раз не отказался, и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора, и послал Олимпиаду к Фоксу[60] за бутылкой джаксона.
Мадам Юргенс земли под собой не слышала; так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом, когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.
Для нее он был действительно дорогой гость.
С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! Не шушера какая-нибудь художники, да студенты, да двугривенные сенатские чиновники, а люди, для которых нужна была бутылка медоку[61] и какой-нибудь особенный бефстек.
И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.
Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнея выпил стакан джаксона, и молча пожал он руку Карла Великого, и на квартиру пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.
Еще неделя оставалася его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет. Пришло время обеда — его нет, и ночь пришла — его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.
— Где ты был? — спрашиваю я. — Что с тобой? Ты болен? Ты нездоров?
— Нездоров, — едва внятно отвечает он.
Я послал дворника за Жидовцевым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.
Жидовцев пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу.
— Потому, — говорит, — что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.
Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тючкова моста.
Благодаря влиянию как частного лекаря Жидовцева, больного моего приняли без узаконенных формальностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.
Я посещал его каждый день по нескольку раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилося грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще только и начинавшийся), выйду к дачам Соболевского и опять назад в больницу. А он все еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:
— Что, не приходит в себя?
— Нет, батюшка.
— Не бредит?
— Одно только: красный и красный!
— Ничего больше?
— Ничего, батюшка.
И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тючков мост, и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюся в больницу. Так прошло восемь дней; на девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.
В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновалась, что молодая сила взяла свое.
Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару, сигара как-то плохо курится, я бросил ее. Вышел на бульвар. Все что-то не так, все чего-то недостает для моей радости.
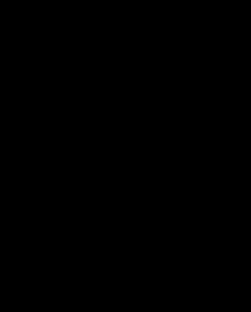 |
Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу, — его нет дома. Выхожу на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.
— Что, вы были у меня в мастерской? — спросил он меня, не здороваясь.
— Не был, — отвечал я.
— Пойдемте.
И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.
— Спрячьте палитру. Я сегодня работать не буду, — сказал Карл Павлович Липину. И сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал: — Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли? — И, не дав мне ответить, продолжал: — А знаете ли вы назначение этого портрета?
— Не знаю, — ответил я.
Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил:
— Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета. — Выйдя на улицу, он сказал: — Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны, — прибавил он шутя.
— Если вам так хочется, — сказал я, — пусть это останется загадкой для меня.
— Только до другого сеанса. Ну, что ваш протеже, лучше ли ему?
— Начал приходить в себя.
— Стало быть, опасность миновала?
— По крайней мере так медик говорит.
— До свидания, — сказал он, протягивая руку. — Зайду к Гальбергу. Едва ли он, бедный, встанет, — прибавил он грустно, и мы расстались.
Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении, и как ни сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки, однако я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Правда, в одно прекрасное утро сделал я визит В. А. Жуковскому под предлогом полюбоваться сухими контурами Корнелиуса[62] и Петра Гессе[63], а на самом деле, не проведаю ли чего о таинственном портрете. Однако ж я ошибся.
Кленц, Валгалла, Пинакотека и вообще Мюнхен[64] заняли все утро, так что даже о Дюссельдорфе не было помянуто ни одного слова, а портрета просто на свете не существовало.
Восторженные похвалы германскому искусству незабвенного Василия Андреевича были прерваны приходом графа М. Ю. Вельегорского.
— Вот вина и причина теперешних хлопот ваших, — сказал Василий Андреевич, указывая на меня графу.
Граф с чувством пожал мне руку. Я сделал уже проект на вопрос, как вошел слуга и проговорил какую-то незнакомую мне превосходительную фамилию. Я нашел свой проект неудобоисполнимым, раскланялся и вышел, как говорится, с носом.
А между тем молодое здоровье брало свое. Ученик мой, как тот сказочный пресловутый богатырь, оживал и крепел не по дням, а по часам. Он в какую-нибудь неделю после двухнедельной горячки стал на ноги и ходил, хотя придерживаясь за свою койку, но так скучно и невесело, что я, невзирая на наставление медика говорить с ним об отвлеченных предметах, спросил его однажды:
— Ты здоровеешь, тебе весело, чего же ты скучаешь?
— Я не скучаю, мне весело, но я не знаю, чего мне хочется… Мне хотелось бы читать.
Я спросил у медика, можно ли ему дать читать что-нибудь?
— Не давайте, тем более чтения сурьезного…
— Что же мне с ним делать? Сиделкой я его не могу быть, а более помочь ему нечем.
В этом тяжелом раздумье вспала мне на память «Перспектива» Альберта Дюрера[65] с русским толкованием, которую я во время оно изучал, изучал, да и бросил, не добравшись толку. И странно. Я вспомнил о путанице Альберта Дюрера и совсем забыл о толковом прекрасном курсе линейной перспективы нашего профессора Воробьева. Чертежи этого курса перспективы у меня были в портфеле (правда, в беспорядке). Я собрал их и, сначала посоветовавшись с медиком, отдал их ученику своему вместе с циркулем и треугольником и тут же прочитал ему первый урок линейной перспективы. Второй и третий уроки перспективы мне уже нечего было толковать ему: он как быстро выздоравливал, так быстро и понимал эту математическую науку, не знавши, впрочем, четырех правил арифметики.
Уроки перспективы кончились. Я просил старшего медика выписать его из больницы, но медик гигиенически растолковал мне, что для окончательного излечения ему необходимо еще пробыть под медицинским надзором по-крайней мере месяц. Скрепя сердце я согласился.
В продолжение этого времени часто я встречался с Карлом Павловичем, видел раза два или три портрет Василия Андреевича после второго сеанса. В разговоре с Карлом Павловичем замечал неумышленные намеки на какой-то секрет, но, не знаю почему, я сам отстранял его откровенность. Я как будто чего-то боялся, а между прочим почти угадывал секрет.
Тайна вскоре открылась. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я собственноручную записку В. А. Жуковского такого содержания:
"Милостивый государь N. N.!
Приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него, дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал. В. Жуковский
Р. S. Приведите и его с собою".
Слезами облил я эту святую записку и, не доверяя ее карману, сжал в кулаке и побежал в больницу. Швейцар, хотя и имел приказания пропускать меня во все часы дня, на этот раз однако ж не пустил, сказавши: "Рано, ваше благородие, больные еще спят". Меня это немного охолодило. Я разжал кулак, развернул записку, прочитал ее чуть-чуть не по складам, бережно сложил ее, положил в карман и степенными шагами воротился на квартиру, в душе благодаря швейцара за то, что он остановил меня.
Давно, очень давно, еще в приходском училище, украдкою от учителя читал я знаменитую перелицованную «Энеиду» Котляревского.
И эти два стиха так глубоко мне врезались в память, что я и теперь их, повторяя, часто применяю к делу. Эти-то два стиха и пришли мне на память, когда я возвращался на квартиру. И в самом деле. Знал ли я наверное, что эта святая записка относится к его делу? Не знал, только предчувствовал, а предчувствие часто обманывает. А что, если б оно и теперь обмануло? Какое бы я страшное сделал зло, и кому еще? Любимейшему человеку. Я сам себя испугался при этой мысли.
В продолжение этих длиннейших суток я раз двадцать подходил к двери Карла Павловича и с каким-то непонятным страхом возвращался назад. Чего я боялся, и сам не знаю. В двадцать первый раз я решился позвонить, и Лукьян, выглянувши в окно, сказал: "Их нет дома". У меня как гора с плеч свалилась. Как будто я совершил огромный подвиг и наконец вздохнул свободно.
Бодро выхожу я из Академии на Третью линию, и тут как тут Карл Павлович навстречу. Я совершенно растерялся и хотел было бежать от него, но он остановил меня вопросом:
— Вы получили записку Жуковского?
— Получил, — едва внятно ответил я.
— Приходите же ко мне завтра в одиннадцать часов. До свидания. Да… Если он может, приведите и его с собой, — прибавил он, удаляясь.
"Ну, — подумал я, — теперь ни малейшего сомнения, а все-таки:
Колы чого в руках не маеш,
То не кажи, що вже твое".
Прошло несколько минут, и это мудрое изречение выпарилось из моей весьма непрактической головы. Мною овладело непреодолимое желание привести его завтра к Карлу Павловичу. А позволит ли медик? Вот вопрос. И, чтобы разрешить его, я пошел к доктору на квартиру, застал его дома и рассказал ему причину моего внезапного визита. Доктор привел мне несколько фактов умопомешательства, причиною которых были внезапная радость или внезапное горе. "А тем более, — заключил он, — что ваш протеже не совсем еще оправился после горячки". На такие аргументы отвечать было нечем. И я, поблагодаривши доктора за добрый совет, откланялся и вышел на улицу. Долго шлифовал я мостовую без всякого намерения; хотел было зайти к старику Венецианову, не скажет ли он мне чего определеннее, но было уже за полночь; а он не наш брат холостяк, — следовательно, и думать нечего о полунощном посещении. "Не пойти ли мне, — подумал я, — на Троицкий мост полюбоваться восходом солнца?" Но до Троицкого моста неблизко, а я начинал уже чувствовать усталость. Не ограничиться ли мне безмятежным сидением у сих огромных сфинксов?[66] Ведь все равно та же Нева. Та же, да не та. И, подумавши, я направился к сфинксам. Севши на гранитную скамью и прислонясь к бронзовому грифону, я долго любовался на тихоструйную красавицу Неву.
С восходом солнца пришел на Неву за водой академический швейцар и разбудил меня, приговаривал вроде поучения:
— Благо еще люди не ходят, а то б подумали б, какой гулящий.
Поблагодарив гривенником швейцара за услугу, я отправился на квартиру и заснул уже настоящим, как говорится, хозяйским сном.
Ровно в одиннадцать часов явился я на квартиру Карла Павловича, и Лукьян, отворяя мне двери, сказал: "Просили подождать". В мастерской в глаза мне бросилась только по славе и Миллерову эстампу знаемая знаменитая картина Цампиери "Иоанн Богослов". Опять недоумение! Не по случаю ли этой картины пишет мне Василий Андреич? Зачем же он пишет: "Приведите и его с собою"? Записка была при мне, я достал ее и, прочитавши несколько раз post scriptum, немного успокоился и подошел к картине поближе, но проклятое сомнение мешало мне вполне наслаждаться этим в высшей степени изящным произведением.
Как ни мешало мне сомнение, однако ж я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Вельегорского и В. А. Жуковского. Я с поклоном уступил им свое место и отошел к портрету Жуковского. Они долго молча любовались великим произведением бедного мученика Цампиери, а я замирал от ожидания. Наконец Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал:
— Передайте это ученику вашему.
Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Вельегорским, Жуковским и К. Брюлловым.
Я набожно перекрестился и трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения.
Благодарил я как мог великое и человеколюбивое трио и, раскланявшись как попало, я вышел в коридор и побежал прямо к Венецианову.
Старик встретил меня радостным вопросом:
— Что нового?
Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему.
— Знаю, все знаю, — сказал он, возвращая мне бумагу.
— Да я-то ничего не знаю! Ради бога, расскажите мне, как это все совершилося?
— Слава богу, что совершилося, а мы сначала пообедаем, а потом я примусь рассказывать. История длинная, а главное — прекрасная история.
И, возвыся голос, он прочитал стих Жуковского:
Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву[67].
— Читаем, папаша, — раздался женский голос, и в сопровождении А. Н. Мокрицкого вышли из гостиной дочери Венецианова, и мы сели за стол. За обедом против обыкновения как-то было шумнее и веселее. Старик воодушевился и рассказал историю портрета В. А. Жуковского. И почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключение прибавил:
— А я только был простым маклером в этом великодушном деле.
А самое-то дело было вот как.
Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жуковский и граф Вельегорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями и за эти деньги освободили моего ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера.
Что же мне теперь делать? Когда и как мне объявить ему эту радость? Венецианов повторил мне то же самое, что и врач сказал, и я совершенно убежден в необходимости этой предосторожности. Да как же я утерплю! Или прекратить свои посещения на некоторое время? Нельзя, он подумает, что я тоже заболел или покинул его, и будет мучиться. Подумавши, я вооружился всею силою воли и пошел в больницу Марии Магдалины. Первый сеанс я выдержал как лучше не надо, за вторым и третьим визитом я уже начал его понемногу приготовлять. Спрашивал медика, как скоро его можно выписать из больницы. И медик не советовал торопиться. Я опять начал мучиться нетерпением.
Однажды поутру приходит ко мне его бывший хозяин и без дальних околичностей начинает меня упрекать, что я ограбил его самым варварским образом, что я украл у него лучшего работника и что он через меня теряет по крайней мере не одну тысячу рублей!
Я долго не мог понять, в чем дело? И каким родом я попал в грабители? Наконец он мне сказал, что вчера призывал его помещик и что рассказал ему весь ход дела и требовал от него уничтожения контракта. И что вчера же он был в больнице, и что он ничего про это не знает. "Вот тебе и предосторожность!" — подумал я.
— Чего же вы теперь от меня хотите? — спросил я у него.
— Ничего, хочу узнать только, правда ли все это?
Я ответил:
— Правда. — И мы расстались.
Я был доволен таким оборотом дела. Он теперь уже приготовлен и может принять это известие спокойнее, чем прежде.
— Правда ли? Можно ли верить тому, что я слышал? — таким вопросом встретил он меня у дверей своей палаты.
— Я не знаю, что ты слышал.
— Мне говорил вчера хозяин, что я… — И он остановился, как бы боясь окончить фразу. И, помолчав немного, едва слышно проговорил: — Что я отпущен!.. Что вы… — И он залился слезами.
— Успокойся, — сказал я ему, — это еще только похоже на правду. — Но он ничего не слышал и продолжал плакать.
Через несколько дней выписался из больницы и поместился у меня на квартире, совершенно счастливый.
Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестию раз в жизни моей удалося мне вполне насладиться. В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастие.
Восторги его сменились тихой, улыбающейся радостию. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась. И он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, почитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.
Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. И, когда было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганова галерею, показал ему оригинал Веласкеса. И тем кончились в тот день наши похождения.
На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова и отвел к Карлу Павловичу, и как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллову.
С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.
Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонарроти[68], в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: "Стоит ли после этого изучать божественное искусство!" А теперь, когда уравновесилось воображение с здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: "Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки".
Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллова, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда все это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.
Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою. Советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе. А зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии и с которым я условился встретиться у одного общего знакомого нашего в Прилуцком уезде и при этой встрече собирался просить добрейшего Вилю по возвращении в столицу поселиться с ним на квартире. Что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоедать ему частыми визитами, не манкировать классами и как можно больше читать. А в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.
И, поручивши его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и увы! расстался навеки.
Первые письма его однообразны и похожи на подробный и монотонный дневник школьника. И только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начали проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, его девятое письмо.
"Сегодня, в десятом часу утра, свернули мы на вал картину распятия Христова и с натурщиками отправили в лютеранскую Петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал; при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была еще покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым[69] и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович; сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча и только изредка проговаривал: "Вандал! Ни одного луча света на алтарь. И для чего им картины? Вот если бы! — сказал он, обращаяся к нам и показывая на арку, разделяющую церковь. — Если бы во всю величину этой арки написать картину "Распятие Христа", то это была бы картина, достойная богочеловека".
О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал! Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена "Распятие"[70] — просто суздальщина[71]. А про Мартена[72] и говорить нечего.
Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением; потом надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: "Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена!" Проходя мимо магазина Дациаро, он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. "Боже мой, — подумал я, глядя на него. — И это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любуется приторными красавицами Гревидона![73]. Непонятно! А между прочим, правда".
Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на три часа. Мы поехали на острова, а он остался дома дожидать нас ужинать.
Р. S. Не помню, в прошедшем письме писал ли я вам, что я в сентябрьский третной экзамен переведен в натурный класс за «Бойца» N первым.
Если бы не вы, мой незабвенный, и через год меня бы не перевели в натурный класс. Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского. Он теперь читает остов. И тут вы причина, что я, знаю наизусть остов. Везде и везде вы, мой единственный, мой незабвенный благодетель. Прощайте.
Всем существом моим преданный вам N._ N._"_
Я намерен досказать его историю собственными его письмами, и это будет тем более интересно, что в своих письмах он часто описывает занятия и почти вседневный домашний быт Карла Павловича, которого он был и любимым учеником, и товарищем. Для будущего биографа К. Брюллова я со временем издам все его письма, теперь помещу только те, которые непосредственно касаются его занятий и развития на поприще искусства и развития его внутренней высоконравственной жизни.
"Вот уже октябрь месяц в исходе, а Штернберга все нет, как нет. Я не знаю, что мне делать с квартирою. Она меня не обременяет, я плачу за нее пополам с Михайловым. Я почти безвыходно нахожусь у Карла Павловича, только ночевать прихожу домой, а иногда и ночую у него. А Михайлов и на ночь домой не приходит. Бог его знает, где он и как он живет? Я с ним встречаюсь только у Карла Павловича да иногда в классах. Он очень оригинальный, доброго сердца человек. Карл Павлович предлагает мне совсем к нему перейти жить, но мне и совестно, и, боюсь вам сказать, мне кажется, что я свободнее при своей квартире, а во-вторых, мне ужасно хочется хоть несколько месяцев прожить вместе с Штернбергом, потому собственно, что вы мне так советовали. А вы мне дурного не посоветуете.
Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копиею с картины Доменикино "Иоанн Богослов". Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка; несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только все безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину[74] сделать рисунок для его "Ста литераторов", и он служит ему всей своей библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтера Скотта и теперь читаю "Историю крестовых походов" Мишо[75]. Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынник[76] ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Реча. Показал Карлу Павловичу, и он мне строжайше запретил брать сюжеты из чего бы то ни было, кроме библии, древней греческой и римской истории. "Там, — сказал он, — все простота и изящество. А в средней истории — безнравственность и уродство". И у меня теперь на квартире, кроме библии, ни одной книги нет. "Путешествие Анахарсиса" и "Историю Греции" Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.
О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовию кончает он свою копию! Я просто благоговею перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно стушевало эти краски, или Доменикино… Но нет, это грешная мысль. Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.
Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания. А что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию это "Шильонский узник" Жуковского. И тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает! Ей-богу, лучше Брянского[77] и Каратыгина[78].
Кстати, о Каратыгине. На днях случайно зашли мы в Михайловский театр. Давали "Тридцать лет, или Жизнь игрока"[79] — пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим актом он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего. Что значит костюм для хорошего актера.
Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалует. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я, не видавши, полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует; а может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель".
"Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал! И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам; думал, не видение ли. Я же в то время компоновал эскиз "Иезекииль на поле, усеянном костями". Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются — а я углубился в «Иезекииля» и двери забыл запереть на ключ, — двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил:
— Штернберг!
— Штернберг, — отвечал он мне, и я не дал ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал мне тем же.
Долго мы молча любовались друг другом, наконец он вспомнил, что ямщик у ворот дожидается, и пошел к ямщику, а я к дворнику — просить перенести вещи в квартиру. Когда все это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно. Мне казалося, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как рассталися, пока все это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидели от подсвечника упавшую ярко-голубую тень.
— Теперь, я думаю, можно и чаю напиться, — сказал он.
— Я, думаю, можно, — отвечал я. И мы пошли в "Золотой якорь".
После чая уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего; он шел с каким-то господином в пальто и в очках.
— Лев Александрович Элькан[80], - сказал Михайлов, указывая на господина в очках.
Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давно жданного друга.
— Где же он? — спросил Михайлов.
— У нас на квартире, — отвечал я.
— Спит?
— Спит.
— Ну, так пойдем в «Капернаум», там, верно, не спят, — сказал Михайлов. Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и, они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я встретил его с свежей палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад. Теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал; я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего вашего, а следовательно и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился; он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.
— Покажите, что вы делали? — сказал он, вставая.
Я показал; он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок.
— Я когда-нибудь отплачу вам тем же, — сказал он смеясь. И, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться. Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал: — Тут все, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными красками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить. До свидания! — сказал он, подавая мне руку. — Не знаю, что сегодня в театре. Я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.
— С большим удовольствием, — сказал я, — только вы зайдите за мною в натурный класс.
— Хорошо, зайду, — сказал он уже за дверями.
Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел бы, мне даже досадно было, что для лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастии, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условились с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александрийском театре давали "Заколдованный дом"[81]. В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.
На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом.
И какое множество рисунков, и как все прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками. Все это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! Очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилася в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают. Вот и вся картина, и какая полная, живая картина!
И таких картин, или, лучше сказать, животрепещущих очерков, полна портфель Штернберга. Чудный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.
Невольно вспомнил я братьев Чернецовых[82]; они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал, разумеется, не братьям Чернецовым: "Я здесь не только матушки Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть". А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угодьями, в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может, — это помещики, или, как он называет их, феодалы-собачники.
Он совершенное дитя, со всею прелестию дитя.
И сегодняшний день мы заключили спектаклем; давали Шиллеровых «Разбойников». Оперы почти не существует, изредка появится или «Роберт», или "Фенелла"[83]. Балет или, лучше сказать, Тальони все уничтожила.
Прощайте, мой незабвенный благодетель.!"
"Вот уже более месяца, как мы живем вместе с несравненным Штернбергом, и живем так, как дай бог, чтобы братья родные жили. Да и какое же он доброе, кроткое создание! Настоящий художник! Ему все улыбается, как и он сам всему улыбается. Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его очень любит. Да и можно ли, знавши, не любить его?
Вот как мы проводим дни и ночи: поутру, в девять часов, я ухожу в живописный класс. (Я уже делаю этюды масляными красками и в прошедший экзамен получил третий номер). Штернберг остается дома и делает из своих эскизов или рисунки акварелью, или небольшие картины масляными красками. В одиннадцать часов я или захожу к Карлу Павловичу, или прихожу домой, и завтракаем с Штернбергом, чем бог послал. Потом я опять ухожу в класс и остаюся там до трех часов. В три часа мы идем обедать к мадам Юргенс. Иногда и Карл Павлович с нами, потому что я почти каждый день в это время заставал его у Штернберга, и он часто отказывался от роскошного аристократического обеда для мизерного демократического супа. Истинно необыкновенный человек! После обеда я отправляюся в классы. К семи часам в классы приходит Штернберг, и мы идем или в театр, или, немного погулявши по набережной, возвращаемся домой, и я читаю что-нибудь вслух, а он работает, или я работаю, а он читает. Недавно мы прочитали «Byдсток» Вальтера Скотта. Меня чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. Настоящая королевская благодарность за гостеприимство. Я начертил эскиз и показал Карлу Павловичу. Он похвалил мой выбор и самый эскиз и велел изучать Павла Делароша[84].
Штернберг недавно познакомил меня с семейством Шмидта. Это какой-то дальний его родственник, прекрасный человек, а семейство его — это просто благодать господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них как будто чище и добрее. Я не знаю, как и благодарить Штернберга за это знакомство.
Еще познакомил он меня с домом малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю, и то, собственно, для Штернберга. Не нравится этот покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой. Я долго не мог понять, как это Штернберг терпит подобные картины? Наконец дело открылося само собой. Он однажды возвратился от Тарновских[85] совершенно не похож на себя, т. е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец лег в постель, встал и опять лег; и это повторил он раза три, наконец успокоился и заснул. Слышу — он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и, закрыв лицо руками, рыдал, как ребенок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне, обнял меня, поцеловал и горько улыбнулся; сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцева. Самая обыкновенная история. После исповеди он немного успокоился, и я уложил его в постель.
На другой и третий день я его почти что не видел: уйдет рано, придет поздно, а где он проводит дни, бог его знает. Пробовал я с ним заговаривать, но он едва мне отвечает. Предлагал посетить Шмидтов, но он отрицательно кивнул головою. В воскресенье поутру предложил я ему поехать в оранжереи Ботанического сада, и он, правда, принужденно, но согласился. Оранжереи на него подействовали благодетельно. Он повеселел. Начал мечтать о путешествии в те волшебные края, где растут все эти удивительные растения, как у нас чертополох.
Выйдя из оранжереи, я предложил пообедать на Крестовском в немецком трактире; он охотно согласился. После обеда мы послушали тирольцев, посмотрели, как с гор катаются, и поехали прямо к Шмидту. Шмидты в тот день обедали у Фицтума (инспектора университета) и на вечер там осталися. Мы туда, нас встретили вопросом с восклицанием — где мы пропадали? У Фицтума насладившись квинтетом Бетховена и сонатою Моцарта, где солировал знаменитый Бем[86], часу в первом ночи возвратился на квартиру. Бедный Виля опять задумался. Я не утешаю его, да и чем я его могу утешить?
На другой день, по поручению Карла Павловича, пошел в магазин Смирдина и между прочими книгами взял два номера "Библиотеки для чтения", где помещен "Никлас Никльби", роман Диккенса. Думаю устроить литературные вечера у Шмидтов и пригласить Штернберга. Как затеяно, так и сделано. В тот же день, после вечерних классов, отправились мы к Шмидтам с книгами под мышкой. Выдумка моя была принята с восторгом, и после чая началося чтение. Первый вечер читал я, второй Штернберг, потом опять я, потом опять он, и так мы продолжали, пока кончили роман. Это имело прекрасное влияние на Штернберга. После "Никласа Никльби" таким же порядком прочитали мы "Замок Кенильворт", потом "Пертскую красавицу" и еще несколько романов Вальтера Скотта. Часто просиживали мы за полночь и не видали, как и рождественские праздники наступили. Штернберг почти пришел в себя, по крайней мере, работает и меньше грустит. Даст бог, и это пройдет. Прощайте, мой отец родной. Не обещаюся писать вам в скором времени, потому что праздники наступают, а я уже сделал себе по милости Штернберга, кроме Шмидтов, еще некоторые знакомства, и знакомства, которые следует поддерживать. Сделал я себе к празднику новую пару платья и из английской байки пальто, точно такое, как у Штернберга, — чтобы недаром нас Шмидты называли Кастором и Поллуксом[87]. А к весне думаем заказать себе камлотовые шинели. У меня теперь деньги водятся. Я начал рисовать акварельные портреты, сначала по-приятельски, а потом и за деньги, только Карлу Павловичу еще не показываю — боюся. Я больше придерживаюсь Соколова[88]. Гау[89] мне не нравится — приторно-сладкий. Думаю еще заняться французским языком, это необходимо. Предлагала мне свои услуги одна пожилая вдова с тем, чтобы я ее сына учил рисовать. Взаимное одолжение, но мне оно не нравится: во-первых, потому что далеко ходить (в Эртелев переулок), а во-вторых, возиться два часа с избалованным мальчуганом — это тоже порядочная комиссия. Лучше же я эти два часа употреблю на акварельный портрет и заплачу учителю деньги. Я думаю, и вы скажете, что лучше. У Карла Павловича есть Гиббон[90] на французском языке, и я не могу смотреть на него равнодушно. Не знаю, видели ли вы его эскиз или, лучше сказать, небольшую картину "Посещение Рима Гензерихом". Теперь она у него в мастерской. Чудная! как и все чудное, что выходит из-под его кисти. Если не видали, то я сделаю небольшой рисунок и пришлю вам. "Бахчисарайский фонтан" тоже пришлю. Это, кажется, еще при вас начато.
Аx, да! чуть-чуть было не забыл. Готовится необыкновенное событие: Карл Павлович женится, после праздника свадьба. Невеста его — дочь рижского почетного гражданина Тимма. Я не видел ее, но, говорят, удивительная красавица. Брата ее я встречаю иногда в классе: он ученик Заурвейда, чрезвычайно красивый юноша. Когда все это совершится, то опишу вам с самомельчайшими подробностями, а пока еще раз прощайте, мой незабвенный благодетель".
"Вот уже два месяца, как я не писал вам. Такое долгое молчание непростительно. Но я как будто нарочно выжидал, пока кончится интересный эпизод из жизни Карла Павловича. В последнем письме писал я вам о предполагаемой женитьбе. Теперь опишу вам подробно, как это совершилось и как разрушилось.
В самый день свадьбы Карл Павлович оделся, как он обыкновенно одевается, взял шляпу и, проходя через мастерскую, остановился перед копией Доменикино, уже оконченной. Долго стоял он молча, потом сел в кресла. Кроме его и меня, в мастерской никого не было. Молчание длилось еще несколько минут. Потом он, обращаясь ко мне, сказал:
— Цампиери как будто говорит мне: "Не женись, погибнеш".
Я не нашелся, что ему сказать, а он взял шляпу и пошел к своей невесте. Во весь этот день он не возвращался к себе на квартиру. Приготовлений к празднику не было совершенно никаких. Даже ростбифа Лукьян не жарил в этот день. Словом, ничего похожего не было на праздник. В классе я узнал, что будет он венчаться в восемь часов вечера в лютеранской церкви св. Анны, что в Кирочной. После класса взяли мы с Штернбергом извозчика и отправились в Кирочную. Церковь уже была освещена, и Карл Павлович с Заурвейдом и братом невесты был в церкви. Увидя нас, он подошел, подал нам руку и сказал: «Женюсь». В это самое время вошла в церковь невеста, и он пошел ей навстречу. Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись. Он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту. Обряд кончился, мы поздравили счастливых супругов, проводили их до кареты и по дороге заехали к Клею, поужинали и за здоровье молодых выпили бутылку клико[91]. Все это происходило 8 генваря 1839 года. И у Карла Павловича свадьба кончилась бутылкой клико. Ни в тот, ни в последующие дни не было никакого праздника.
Через неделю после этого события встретился я с ним в коридоре, как раз против квартиры графа Толстого, и он зазвал меня к себе и оставил обедать. В ожидании обеда он что-то чертил в своем альбоме, а меня заставил читать "Квентина Дорварда"[92]. Только что я начал читать, как он остановил меня и довольно громко крикнул:
— Эмилия! — Через минуту вошла ослепительная красавица, жена его. Я неловко поклонился ей, а он сказал:
— Эмилия! На чем мы остановились? Или нет, садись ты сама читай. А вы послушайте, как она мастерски читает по-русски. — Она сначала не хотела читать, но потом раскрыла книгу, прочитала несколько фраз с сильным немецким выговором, захохотала, бросила книгу и убежала. Он позвал ее опять и с нежностью влюбленного просил ее сесть за фортепиано и спеть знаменитую каватину из «Нормы». Без малейшего жеманства она села за инструмент и после нескольких прелюдий запела. Голос у нее не сильный, не эффектный, но такой сладкий, чарующий, что я слушал и сам себе не верил, что я слушаю пение существа смертного, земного, а не какой-нибудь воздушной феи. Или это магическое влияние красоты, или она действительно хорошо пела, теперь я вам не могу сказать основательно, только я и теперь как будто слышу ее волшебный голос. Карл Павлович тоже был очарован ее пением, потому что сидел он, сложа руки над своим альбомом, и не слышал, как вошел Лукьян и два раза повторил: "Кушанье подано".
После обеда на тот же стол подал Лукьян фрукты и бутылку лакрима-кристи. Пробило пять часов, и я оставил их за столом и ушел в класс. На прощанье Карл Павлович подал мне руку и просил приходить к ним каждый день к обеду. Я был в восторге от такого приглашения.
После классов встретил я их на набережной и присоединился к ним. Вскоре они пошли домой и меня пригласили к себе. За чаем Карл Павлович прочитал «Анджело» Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с его жены портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что жена его косая. Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему тем же. Вскоре после этого поэт умер и оставил нас без портрета. Кипренский[93] изобразил его каким-то денди, а не поэтом.
После чаю молодая очаровательная хозяйка выучила нас в гальбе-цвельф и проиграла мне двугривенный, а мужу каватину из «Нормы» и сейчас же села за фортепиано и расплатилась. После такого великолепного финала я поблагодарил очаровательную хозяйку и хозяина и отправился домой. Это уже было далеко за полночь; Штернберг еще не спал, дожидался меня. Я, не снимая шляпы, рассказал ему свои похождения, и он назвал меня счастливцем.
— Позавидуй же и мне, — сказал он. — Меня приглашает генерал-губернатор Оренбургского края к себе в Оренбург на лето, и я был сегодня у Владимира Ивановича Даля[94], и мы условились уже насчет поездки. На будущей неделе — прощай! — Меня это известие ошеломило. Я долго говорить не мог и, придя в себя, спросил его:
— Когда же это ты так скоро успел все обделать?
— Сегодня, — отвечал он. — Часу в десятом присылает за мною Григорович. Я явился. Он предлагает мне это путешествие. Я соглашаюсь, отправляюся к Далю — и дело кончено.
— Что же я буду без тебя делать? Как же я буду жить без тебя? — спросил я его сквозь слезы.
— Так, как и я без тебя. Будем учиться, работать и одиночества не заметим. Вот что, — прибавил он, — завтра мы обедаем у Йохима. Он тебя знает и просил меня привести тебя к себе. Согласен?
Я отвечал:
— Согласен. — И мы легли спать.
На другой день мы обедали у Йохима. Это сын известного каретника Йохима. Веселый, простой и прекрасно образованный немец. После обеда показывал он нам свое собрание эстампов и между прочим несколько тетрадей только что полученных превосходнейших литографий Дрезденской галереи. Так как это было в субботу, то мы и вечер провели у него. За чаем как-то речь зашла о любви и о влюбленных. Бедный Штернберг как на иголках сидел. Я старался переменить разговор, но Йохим, как нарочно, раздувал его. И в заключение про самого себя рассказал следующий анекдот:
— Когда я был влюблен в мою Адельгайду, а она в меня нет, то я решился на самоубийство. Я решился умертвить себя угаром. Приготовил все, что следует, как-то: написал записки нескольким друзьям и между прочим ей (и он указал на жену), достал бутылку рому и велел принести жаровню с холодным угольем, лучины и свечу. Когда все это было готово, я запер на ключ двери, налил стакан рому, выпил, и мне начал грезиться "Пир Балтазара" Мартена. Я повторил дозу, и мне уже ничего не грезилось. Уведомленные о моей преждевременной и трагической смерти друзья сбежались, выломали двери и нашли меня мертвецки пьяного; дело в том, что я забыл уголья зажечь, а то бы непременно умер. После этого происшествия она сделалась ко мне благосклоннее и, наконец, решилась сделать меня своим мужем.
Рассказ свой заключил он добрым стаканом пунша. Йохим мне чрезвычайно понравился своею манерой, и я вменил себе в обязанность навещать его как можно чаще.
Воскресенье мы провели у Шмидта, в одиннадцать часов возвратились на квартиру и уже раздеваться начали. Штернбергу понадобился носовой платок, он сунул руку в карман и вместо платка вынул афишу.
— Я и забыл! Сегодня в Большом театре маскарад, — сказал Штернберг, развертывая афишу. — Поедем!
— Пожалуй, поедем, спать рано, — сказал я, и, надевши вместо сюртуков фраки, поехали сначала к Полицейскому мосту в магазин костюмов, взяли капуцины, черные полумаски и отправились в Большой театр. Сияющий зал быстро наполнялся замаскированной публикой, музыка гремела, и в шуме общего говора визжали маленькие капуцины. Скоро сделалось жарко, и маска мне страшно надоела; я снял ее;
Штернберг тоже. Может быть, иным показалось это странным, да нам-то какое дело.
Мы пошли в верхние боковые залы вздохнуть от тесноты и жару. Нас, хоть бы на смех, не преследовала ни одна маска. Только на лестнице встретил нас Элькан, тот самый господин в очках, что встретился мне однажды с Михайловым. Он меня узнал, Штернберга он тоже узнал, и, хохоча во все горло, заключил нас в свои объятия. В это время подошел к нему молодой мичман, и он отрекомендовал нам, называя его своим искренним другом Сашею Оболонским. Был уже третий час, когда мы поднялись наверх. В одной из боковых зал накрытый стол и жующая публика возбудили во мне аппетит. Я это сообщил Штернбергу шепотом, а он вслух изъявил согласие. Но Элькан и Оболонский против этого протестовали и предложили ехать к неизменному Клею и поужинать как следует. "А то, — прибавил Элькан, — здесь не накормят, а возьмут вдесятеро". Мы единодушно изъявили согласие и отправились к Клею.
Мне молодой мичман понравился своею разбитною манерою. До сих пор встречался я только с своими скромными товарищами, а светского юношу еще в первый раз увидел вблизи. Каламбурами и остротами так и сыплет, а водевильных куплетов без счету, — просто прелесть юноша. Мы просидели у Клея до рассвета, и как удалый мичман был немного подгулявши, то мы взяли его к себе на квартиру, а с Эльканом рассталися в трактире.
Вот как я нынче живу! По маскарадам шляюся, в трактире ужинаю, деньги как попало трачу. А давно ли, давно ли сияло над Невой то незабвенное утро, в которое вы меня в первый раз увидели в Летнем саду перед статуей Сатурна? Незабвенное утро, незабвенный мой благодетель! Чем я и как я достойно возблагодарю вас? Кроме чистой сердечной слезы-молитвы, я ничего не имею.
В девять часов я по обыкновению пошел в класс, а Штернберг с гостем осталися дома; гость еще спал. В одиннадцать часов зашел я к Карлу Павловичу и получил милейший выговор от милейшей Эмилии Карловны. До второго часу играли мы в гальбе-цвельф. Она хотела, чтобы я до обеда оставался с ними. Я уже начал было соглашаться, но Карл Павлович заметил, что манкировать не должно, и я, сконфуженный по уши, пошел в класс. В три часа я опять явился, а в пять часов оставил их за столом и опять ушел в класс.
Так проводил я все дни у них, как вышеописанный, кроме субботы и воскресенья. Суббота была посвящена Йохиму, а воскресенье — Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что все мои знакомые — немцы. Но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев.
Штернберг в продолжение недели хлопотал о своем путешествии и, верно, что-нибудь забыл, это в его натуре. В субботу мы отправилися к Йохиму, встретили там старика Кольмана[95], известного акварелиста и учителя Йохима.
После обеда заставил Кольман ученика своего показать нам свои этюды с деревьев, на что ученик неохотно согласился. Этюды сделаны черным и белым карандашом на серой бумаге. И сделаны так превосходно, так отчетливо, что я не мог налюбоваться ими. За один из этюдов он получил вторую серебряную медаль. И добрый Кольман, как торжество ученика своего, хвалил этот рисунок до небес и всем святым божился, что он сам не нарисует так прекрасно.
Так как Штернбергу оставалось только два дня, не более, провести с нами, то Йохим и спросил у него, как он намерен распорядиться этими днями? Штернберг, кажется, об этом и не подумал. И Йохим предложил вот что. Завтра, т. е. в воскресенье, посетить Строганова и Юсупова галереи, а в понедельник Эрмитаж. Проект был принят. И на другой день заехали мы к Йохиму и отправились в галерею Юсупова. Доложили князю, что такие-то художники просят позволения посмотреть его галерею, на что вежливый хозяин велел сказать нам, что сегодня воскресенье и прекрасная погода, а потому и советует нам, вместо изящных произведений, насладиться лучше великолепной погодою. Нам, разумеется, осталося поблагодарить князя за обязательный совет, и больше ничего. Чтобы не выслушать подобного совета и у Строганова, мы отправились в Эрмитаж и часа три наслаждались, как истинные поклонники прекрасного искусства. Обедали у Йохима, а вечер провели в театре.
В понедельник поутру Штернберг получил записку от Даля. Владимир Иванович писал ему, чтобы он в три часа был готов к выезду. Он поехал проститься с своими друзьями, а я принялся укладывать его чемодан. К трем часам мы уже были у Даля, а в четыре мы поцеловались с Штернбергом у Средней рогатки, и я один возвратился в Петербург, чуть-чуть не в слезах. Думал было заехать к Йохиму, но мне хотелось уединения и не хотелось ехать к себе на квартиру: я боялся пустоты, которая меня поразит дома. Отпустив у заставы извозчика, я пошел пешком. Пространство, пройденное мною, не утомило меня, как я этого ожидал, и я долго еще ходил по набережной против Академии. В квартире Карла Павловича светился огонь; огонь вскоре погас, и через минуту вышел он с женою на набережную. Я, чтобы не встретиться с ними, ушел к себе и, не зажигая огня, разделся и лег в постель.
Я теперь почти не бываю дома: скука и пустота без Штернберга. Михайлов опять поселился со мною и по-прежнему не сидит дома. Он тоже где-то познакомился с мичманом Оболонским, вероятно, у Элькана. Он часто приходит ночью, и если Михайлова нету дома, то он ложится спать на его постели. Юноша этот мне начинает менее нравиться, чем прежде: или он действительно однообразен, или это мне так кажется, потому что я сам теперь на себя не похож. И в самом деле, классы посещаю по-прежнему исправно, но работаю вяло. Карл Павлович это заметил; мне это досадно, и я не знаю, как исправиться. Эмилия Карловна со мною по-прежнему любезна и по-прежнему играет со мною в гальбе-цвельф. Вскоре после отъезда Штернберга он велел мне приготовить карандаши и бумагу. Он хочет нарисовать 12 головок с жены своей в разных поворотах для предполагаемой картины из баллады Жуковского "12 спящих дев". Бумага и карандаши лежат, однако ж, без всякого употребления.
Это было в конце февраля; я по обыкновению обедал у них. В этот роковой день она мне показалась особенно очаровательною; за обедом потчевала меня вином и была так любезна, что когда пробило пять часов, то я готов был забыть про класс, однако ж она сама мне про него напомнила. Делать было нечего, я встал из-за стола и ушел не прощаясь, обещаяся зайти из класса и непременно обыграть ее в гальбе-цвельф.
Классы кончились. Захожу я по обещанию к ним, меня в дверях встречает Лукьян и говорит, что барин никого принимать не приказали. Я немало удивился такому превращению и пошел к себе на квартиру. Против обыкновения застал я дома Михайлова и удалого мичмана. Вечер пролетел у нас в веселой болтовне. Часу в двенадцатом они пошли ужинать, а я лег спать.
На другой день поутру из класса захожу я к Карлу Павловичу, вхожу в мастерскую, и он встречает меня весело такими словами: "Поздравьте меня, я холостой человек!" Сначала я его не понял, но он повторил мне еще раз. Я все еще не верил, и он прибавил совсем не весело: "Жена моя вчера после обеда ушла к Заурвейдовой и не возвращалась". Потом он велел Лукьяну сказать Липину, чтобы тот подал ему палитру и кисти. Через минуту все было подано, и он сел за работу. На станке стоял неоконченный портрет графа Мусина-Пушкина[96]. Он принялся за него. Как ни старался он казаться равнодушным, работа ему сильно изменяла. Наконец он бросил палитру и кисти и проговорил как бы про себя: "Неужели это меня так тревожит? Работать не могу". И он ушел к себе наверх. Во втором часу я ушел в класс, все еще не совсем уверенный в случившемся. В три часа я вышел из класса и не знал, что делать: идти ли мне к нему или оставить его в покое. Лукьян встретил меня в коридоре и разрешил мое недоумение, сказавши: "Барин просят обедать". Обедал я, однако ж, один, а Карл Павлович ни до чего не дотронулся, даже за стол не садился, жаловался на головную боль, а сам курил сигару. На другой день он слег в постель и пролежал две недели; в это время я не отходил от него. В нем по временам показывался горячечный бред, но он ни разу не произнес имя жены своей. Наконец он начал поправляться и в один вечер пригласил брата своего Александра и просил его рекомендовать ему адвоката, чтобы хлопотать о формальной разводной. Теперь он уже выходит и заказал Довициели большой холст — думает начать картину "Взятие на небо божией матери" для Казанского собора. А в ожидании холста и лета начал портрет во весь рост князя Александра Николаевича Голицына[97] для Федора Ивановича Прянишникова. Старик будет изображен в сидячем положении, в андреевской ленте и в сером фраке.
Не пишу вам о слухак, какие ходят о Карле Павловиче и в городе, и в самой Академии; слухи самые нелепые и возмутительные, которые повторять грешно. В Академии общий голос называет автором этих гадостей Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай все это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения. А пока скопятся и выработаются материалы, прощайте, мой незабвенный благодетель.
P. S. От Штернберга из Москвы получил я письмо. Добрый Виля, он и вас не забывает. Кланяется вам и просит, если случится вам встретить в Малороссии племянницу Тарновского, госпожу Бурцеву, то засвидетельствуйте ей от него глубочайшее почтение. Бедный Виля, он все еще ее помнит".
Следующее за этим письмом я не помещаю, потому что оно, кроме нелепых сплетен и самой гнусной клеветы, адресованной на имя Карла Великого, ничего в себе не заключает, а такие вещи не должны иметь места в сказании о благороднейшем из людей. Несчастное его супружество кончилось полюбовной сделкой, т. е. разводом, за который он заплатил ей 13 000 рублей ассигнациями. Вот и весь интерес письма.
"Петербургского серенького лета как не бывало. На дворе сырая, гнилая осень, а в Академии нашей блистательная выставка. Что бы вам приехать взглянуть на ее? А я на вас бы полюбовался. По части живописи из ученических работ особенно замечательного ничего нет, кроме программы Петровского "Явление ангела пастухам". Зато скульпторы отличились Рамазанов и Ставассер[98], особенно Ставассер. Он исполнил круглую статую молодого рыбака. И как исполнил! Просто прелесть, особенно выражение лица — живое, дыхание затаившее лицо, следящее за движением поплавка. Я помню, когда статуя была еще в глине, Карл Павлович нечаянно зашел в кабинет Ставассера и, любуясь его статуею, посоветовал ему вдавить немного нижнюю губу рыбака. Он это сделал, и выражение изменилось. Ставассер готов был молиться на великого Брюллова.
О живописи вообще скажу вам, что для одной картины Карла Павловича стоило приехать из Китая, а не только из Малороссии. Чудо-богатырь за один присест и подмалевал, и кончил, и теперь угощает алчную публику своим дивным произведением. Велика его слава! И необъятен его гений!
Что мне вам про себя самого сказать? Получил первую серебряную медаль за этюд с натуры. Еще написал небольшую картину масляными красками "Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором". Вот и все. В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Йохимом на Смоленское кладбище лопухи и деревья рисовать. Я более и более влюбляюсь в Йохима. Мы с ним почти каждый день видимся, он постоянно посещает вечерние классы, хорошо сошелся с Карлом Павловичем, и часто бывают друг у друга. Иногда мы позволяем себе прогулки на Петровский и Крестовский острова с целью нарисовать черную ель или белую березу. Раза два ходили пешком в Парголово, и там познакомил я его со Шмидтами. Они летом живут в Парголове. Йохим чрезвычайно доволен этим знакомством. Да кто не будет доволен семейством Шмидта!
Расскажу вам еще одно презабавное происшествие, недавно со мною случившееся. В одном этаже со мною поселился недавно какой-то чиновник с семейством. Семейство его — жена, двое детей и племянница, прекрасная девушка, лет пятнадцати. Каким родом я узнал все эти подробности, я вам сейчас расскажу.
Вы помните хорошо вашу бывшую квартиру: из крошечной прихожей дверь отворяется на общий коридор. Однажды я отворяю эту дверь, и представьте мое изумление! Передо мною стоит прекрасная девушка, сконфуженная и раскрасневшаяся до ушей. Я не знал, что сказать ей, и, с минуту помолчавши, поклонился, а она, закрыв лицо руками, убежала и скрылась в соседней двери. Я не мог понять, что бы это значило, и после долгих догадок и предположений пошел в класс. Работал я плохо; мне все мешала загадочная девушка. На другой день она встретилась мне на лестнице и вспыхнула, как и прежде; я тоже по-прежнему остолбенел. Через минуту она захохотала так детски, так чистосердечно, что я не утерпел и начал ей вторить. Чьи-то шаги послышались на лестнице и уняли наш смех. Она приложила палец к губам и убежала. Я тихо поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру, еще больше озадаченный, чем в первый раз. Она мне несколько дней покою не давала. Я поминутно выходил в коридор в надежде встретить знакомую незнакомку, но она если и выбегала на коридор, то так быстро пряталась, что я не успевал ей кивнуть головою, а не то чтобы порядочно поклониться. В таком положении прошла целая неделя. Я уже начал было ее забывать. Только слушайте, что случилось. В воскресенье, часу в десятом утра, входит ко мне Йохим, и отгадайте, кого он ввел за собою? Мою таинственную раскрасневшуюся красавицу.
— Я у вас поймал вора, — говорил он смеяся.
При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился не меньше пойманного вора. Йохим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было предполагать, а осталася тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила:
— А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате.
— А если бы против дверей он рисовал, тогда что бы? — сказал Йохим.
— Тогда бы я смотрела в дырочку, как они рисуют.
— Зачем в дырочку? Я уверен, что товарищ мой настолько вежлив, что позволит оставаться в комнате во время работы. — И я в подтверждение слов Йохима кивнул головою и предложил стул гостье. Она, на мою вежливость не обратив внимания, обратилась к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету госпожи Соловой. Только что она начала приходить в восторг от нарисованной красавицы, как послышался резкий голос в коридоре:
— Где же это она пропала! Паша!!
Гостья моя вздрогнула и побледнела.
— Тетенька, — прошептала она и бросилась к дверям, у дверей остановилась, и, приложа пальчик к губам, с минуту постояла, и скрылась.
Посмеявшись этому оригинальному приключению, отправились мы с Йохимом к Карлу Павловичу.
Приключение это само по себе ничтожно, но меня оно как будто беспокоит, оно у меня из головы не выходит, я об нем постоянно думаю; Йохим иногда подтрунивает над моей задумчивостью, и мне это не нравится. Мне даже досадно, зачем он случился при этом приключении.
Сегодня я получил письмо от Штернберга. Он собирается в какой-то поход на Хиву и пишет, чтобы не ждать его к праздникам, как он прежде писал, в Петербург. Мне скучно без него. Он для меня никем не заменимый. Михайлов уехал к своему мичману в Кронштадт, и я уже более двух недель его не вижу. Прекрасный художник, благороднейший человек и, увы! самый безалаберный. На время его отсутствия я пригласил к себе, по рекомендации Фицтума, студента Демского. Скромный, и прекрасно образованный, и вдобавок бедный молодой поляк. Он целый день проводит в аудитории, а по вечерам занимается со мною французским языком и читает Гиббона. Два раза в неделю, по вечерам, я хожу в зало Вольного экономического общества слушать лекции физики профессора… Хожу еще, вместе с Демским, раз в неделю слушать лекции зоологии профессора Куторги[99]. У меня, как вы сами видите, даром время не проходит. Скучать совершенно некогда, а я все-таки скучаю. Мне чего-то недостает, а чего — я и сам не знаю. Карл Павлович теперь ничего не делает и почти дома не живет. Я с ним вижуся весьма редко, и то на улице. Прощайте, мой незабвенный, мой благодетель. Не обещаюсь вам писать вскоре: время у меня проходит скучно, монотонно, — писать не о чем, и я не хотел бы, чтобы вы дремали над моими однообразными письмами так, как я теперь дремлю над этим посланием. Еще раз прощайте!"
"Я обманул вас. Не обещал вам писать вскоре, и вот не прошло еще и месяца после последнего моего послания, я опять принимаюсь за послание. Событие поторопило. Оно-то обмануло вас, а не я. Штернберг заболел в хивинском походе, и умный, добрый Даль посоветовал ему оставить военный лагерь и возвратиться восвояси, и он совершенно неожиданно явился передо мною 16 декабря ночью. Если бы я был один в комнате, то я принял бы его за видение и, разумеется, испугался бы; но мы были с Демским и переводили самую веселую главу из "Брата Якова" Поль де Кока[100]. Следовательно, явление Штернберга мне показалось почти естественным явлением, хотя удивление и радость моя от этого нисколько не уменьшились. После первых объятий и лобзаний отрекомендовал я ему Демского, и как еще было только десять часов, то мы отправились в «Берлин» напиться чаю. Ночь, разумеется, прошла в расспросах и рассказах. На рассвете Штернберг изнемог и заснул, а я, дождавшись утра, принялся за его портфель, такую же полную, как и прошлого года он привез из Малороссии. Но здесь уже не та природа, не те люди. Хотя все так же прекрасно и выразительно, но совершенно все другое, кроме меланхолии, но это, может быть, отражение задумчивой души художника. Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница. Так и я толкую себе общую экспрессию прекрасных рисунков Штернберга.
О, если б вы знали, как весело, как невыразимо быстро и весело мелькают для меня теперь дни и ночи. Так весело, так быстро, что я не успеваю выучивать миниатюрного урока г. Демского, за что и грозит он вовсе от меня отказаться. Но, боже сохрани, я себя до этого не доведу. Знакомства наши не уменьшились, не увеличились, все те же, но все они расцвели, так повеселели, что мне просто не сидится дома. Хотя, правду вам сказать, дома у меня тоже не без прелести, не без очарования! Я говорю о соседке, о той самой воровке, что у дверей поймал Йохим. Что это за милое, невинное создание! Настоящий ребенок! И самый прекрасный, неиспорченный ребенок. Она ко мне каждый день несколько раз забежит, попрыгает, полепечет и выпорхнет, как птичка. Просит меня иногда рисовать ее портрет, но никак более пяти минут не высидит. Просто ртуть. Недавно понадобилась мне женская рука для дамского портрета. Я попросил ее подержать руку, она, как добрая, согласилась. И что ж вы думаете? Секунды не подержит спокойно. Настоящий ребенок. Так я бился, бился и, наконец, должен был пригласить модель для руки. Что ж вы думаете? Только что я усадил модель и взял палитру в руки, вбегает в комнату соседка, как всегда резвая, смеющаяся, и только увидела натурщицу, вдруг окаменела, потом зарыдала и, как тигренок, бросилась на нее. Я не знал, что и делать. По счастью, случилась у меня малиновая бархатная мантилья той самой дамы, с которой я портрет писал. Я взял мантилью и накинул ей на плечи. Она опомнилась, подошла к зеркалу, полюбовалась на себя с минуту, потом бросила на пол мантилью, плюнула на нее и выбежала из комнаты. Я отпустил модель, и рука по-прежнему осталась неоконченною.
Три дня после этого происшествия не показывалась соседка в моей квартире. Если встречалась со мной в коридоре, то закрывала лицо руками и убегала в противуположную сторону. На четвертый день, только что я пришел из класса домой и начал приготовлять палитру, как входит соседка, скромная, тихая, я просто не узнавал ее. Молча обнажила по локоть руку, села на стул и приняла позицию изображаемой дамы. Я как ни в чем не бывало взял палитру, кисти и принялся за работу. Через час рука была окончена. Я рассыпался в благодарности за такую милую услугу. Но она хоть бы улыбнулась, встала, опустила рукав и молча вышла из комнаты. Меня это, признаюся вам, задело за живое, и я теперь ломаю голову, как восстановить мне прежнюю гармонию. Так прошло еще несколько дней, гармония начала видимо восстанавливаться. Она уже не бегала от меня в коридоре, а иногда даже и улыбалась. Я уже начинал надеяться, что вот-вот дверь растворится и влетит моя птичка красноперая. Дверь, однако ж, не растворялась, и птичка не показывалась. Я начинал беспокоиться и придумывать силок для коварной птички. И когда рассеянность моя стала делаться несносною не только мне самому, но и добрейшему Демскому, в это самое время, как ангел с неба, является ко мне Штернберг из киргизской степи.
Теперь я живу совершенно одним Штернбергом и для одного Штернберга, так что если б соседка не попадалась мне иногда в коридоре, то, может быть, я бы и совсем ее забыл. Ей ужасно хочется забежать ко мне, но вот горе: Штернберг постоянно дома, а если уходит со двора, то и я с ним ухожу. На празднике она, однако ж, не утерпела, и так как нас по вечерам дома не бывает, то она замаскировалася днем и прибежала к нам. Я притворился, что не узнаю ее. Она долго вертелася и всячески старалася показать, чтобы я узнал ее, но я упорно стоял на своем. Наконец она не вытерпела, подошла ко мне и почти вслух сказала:
— Несносные! ведь это я!
— А когда вы, снимите маску, — сказал я шепотом, — тогда я узнаю, кто вы!
Она немного замялася, потом сняла маску, и я отрекомендовал ей Штернберга.
С того дня у нас пошло все по-прежнему. С Штернбергом она не церемонится точно так же, как и со мною. Мы ее балуем разными лакомствами и обращаемся с нею, как добрые братья с родною сестрою.
— Кто она такая? — однажды спросил меня Штернберг.
Я не знал, что отвечать на этот внезапный вопрос. Мне никогда и в голову не приходило спросить ее об этом.
— Должно быть, или сирота, или дочь самой беспечной матери, — продолжал он. — Во всяком случае она жалка. Умеет ли она хоть грамоте?
— И этого не знаю, — отвечал я нерешительно.
— Давать бы ей читать что-нибудь. Все бы голова не совсем была праздна. А кстати, узнай, если она читает, то я ей подарю весьма моральную и мило изданную книгу. Это "Векфильдский священник"[101] Гольдсмита. Прекрасный перевод и прекрасное издание. — А минуту спустя продолжал он, обращаясь ко мне с улыбкою: — Ты замечаешь, я сегодня чувствую себя в припадке морали. Например, вопрос такого рода: чем могут кончиться визиты этой наивной резвушки?
По мне пробежала легонькая дрожь. Но я сейчас же оправился и отвечал:
— Я думаю, ничем.
— Дай бог, — сказал он и задумался.
Я всегда любуюся его благородной, детски-беззаботной физиономией, но теперь эта милая физиономия мне показалася совсем не детской, а созревшей и прочувствовавшей на свою долю физиономией. Не знаю почему, но мне невольно на мысль пришла Тарновская, и он как бы подстерег эту мысль, посмотрел на меня и глубоко вздохнул.
— Береги ее, мой друг! — сказал он. — Или сам берегись ее. Как ты сам себя чувствуешь, так и делай. Только помни и никогда не забывай, что женщина — святая, неприкосновенная вещь и вместе так обольстительна, что никакая сила воли не в силах противустать этому обольщению. Кроме только чувства самой возвышенной евангельской любви. Оно одно только может защитить ее от позора, а нас от вечного упрека. Вооружись же этим прекрасным чувством, как рыцарь железным панцирем, и иди смело на врага. Он на минуту замолчал. — А я страшно постарел с прошлого года, — сказал он, улыбаясь. — Пойдем лучше на улицу, в комнате что-то душно кажется.
Долго молча мы ходили по улице, молча возвратились на квартиру и легли спать.
Поутру я ушел в класс, а Штернберг остался дома. В одиннадцать часов я прихожу домой и что же вижу? Вчерашний профессор морали нарядил мою соседку в бобровую с бархатным верхом и с золотою кистью татарскую шапочку и какой-то красный шелковый, татарский же, шугай и сам, надевши башкирскую остроконечную шапку, наигрывает на гитаре качучу, а соседка, что твоя Тальони, так и отделывает соло.
Я, разумеется, только всплеснул руками, а они хоть бы тебе глазом повели — продолжают себе качучу как ни в чем не бывало. Натанцевавшись до упаду, она сбросила шапочку, шугай и выбежала в коридор, а моралист положил гитару и захохотал, как сумасшедший. Я долго крепился, но наконец не вытерпел и так чистосердечно завторил, что примо заглушил. Нахохотавшись до упаду, уселись мы на стульях один против другого, и, с минуту помолчав, он первый заговорил:
— Она самое увлекательное создание. Я хотел было нарисовать с нее татарочку, но она не успела нарядиться, как принялася танцевать качучу, а я, как ты видел, не утерпел и, вместо карандаша и бумаги, схватил гитару, а остальное ты знаешь. Но вот чего ты не знаешь. До качучи она рассказала мне свою историю, разумеется, лаконически, да подробности едва ли она и сама знает, но все-таки, если б не эта проклятая шапка, она бы не остановилась на половине рассказа, а то увидела шапку, схватила, надела и все забыто. Может быть, она с тобою будет разговорчивее, выспроси у нее хорошенько. Ее история должна быть самая драматическая история. Отец ее, говорит она, умер в прошлом году в Обуховской больнице.
В это время дверь растворилась и вошел давно не виданный Михайлов, а за ним удалый мичман. Михайлов без дальних околичностей предложил нам завтрак у Александра. Мы переглянулись с Штернбергом и, разумеется, согласились. Я заикнулся было насчет класса, но Михайлов так неистово захохотал, что я молча надел шляпу и взялся за ручку двери.
— А еще хочет быть художником! Разве в классах образуются истинные великие художники? — торжественно произнес неугомонный Михайлов.
Мы согласились, что лучшая школа для художников — таверна, и в добром согласии отправились к Александру.
У Полицейского моста мы встретили Элькана, прогуливающегося с каким-то молдаванским бояром и разговаривающего на молдаванском наречии. Мы взяли и его с собой. Странное явление этот Элькан. Нет языка, на котором бы он не говорил. Нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии. и оканчивая графами и князьями. Он, как сказочный волшебник, везде и нигде. И на Английской набережной, у конторы пароходства, — приятеля за границу провожает, и в конторе дилижансов или даже у Средней рогатки тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича, и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и все это в продолжение одного дня, который он заключает присутствием своим во всех трех театрах. Настоящий Пинетти[102]. Его иные остерегаются, как шпиона, но я в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун и добрый малый и вдобавок плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом, и это он сам находит для себя приличным. Он со мною иначе не говорит, как по-французски, за что я ему весьма благодарен: это для меня хорошая практика.
Вместо завтрака у Александра мы плотно пообедали и разошлися восвояси. Михайлов и мичман у нас переночевали и поутру уехали в Кронштадт. Святки прошли у нас быстро, значит, весело. Карл Павлович велит мне приготовляться к конкурсу на вторую золотую медаль. Не знаю, что-то будет? Я так мало еще учился. Но с божиею помощию попробуем. Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не имею вам ничего сказать более".
"Уже и масленица, и великий пост, и, наконец, праздники прошли, а я вам не написал ни одного слова. Не подумайте, мой бесценный, мой незабвенный благодетель, что я забываю вас! Боже меня сохрани от подобного греха. Во всех помышлениях, во всех начинаниях моих вы, как самое светлое, самое отрадное существо, присутствуете в моей благодарной душе. Причина же моего молчания очень проста: не о чем писать, однообразие. Нельзя сказать, чтобы это однообразие было скучное, монотонное. Напротив, дни, недели и месяцы для меня летят незаметно. Какое благодетельное дело труд, особенно если он находит поощрение! А я, слава богу, в поощрении не нуждаюсь: на экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего N. Карл Павлович постоянно мною доволен — какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгранично счастлив! Эскиз мой на конкурсе приняли без малейшей перемены, и я уже принялся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предался. Это сцена из «Илиады» Андромаха над телом Патрокла[103]. Теперь только я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков. И как мне в этом случае французский пригодился. Я не знаю, как благодарить доброго Демского за эту услугу.
Мы очень оригинально встретили праздник Христова воскресения с Карлом Павловичем. Он днем еще говорил мне, что намерен идти к заутрене в Казанский собор, чтобы посмотреть свою картину при огненном освещении и крестный ход. Ввечеру велел он подать чай в 10 часов, чтобы незаметнее прошло время. Я налил ему и себе чаю. Он закурил сигару, лег на кушетку и начал читать вслух "Пертскую красавицу". А я ходил взад и вперед по комнате. Только я и помню. Потом слышу неясно как будто гром, раскрываю глаза — в комнате светло, лампа на столе едва горит, Карл Павлович спит на кушетке, книга на полу лежит, а я лежу в креслах и слушаю, как из пушек стреляют. Погасивши лампу, я тихонько вышел из комнаты и пошел к себе на квартиру. Штернберг еще спал. Я умылся, оделся и вышел на улицу. Люди уже с освященными пасхами выходили из Андреевской церкви. Утро было настоящее праздничное. И знаете, что меня больше всего занимало в это время? Совестно сказать. А сказать необходимо, необходимо потому, что мне грешно было бы скрывать от вас какую бы то ни было мысль или ощущение. Я был в это время настоящий ребенок. Меня больше всего занимал тогда мой новый непромокаемый плащ. Не странно ли? Меня тешит праздничная обнова. А если подумать, так и не странно. Глядя на полы своего блестящего плаща, я думал: "Давно ли я в затрапезном, запачканном халате не смел и помышлять о подобном блестящем наряде. А теперь! Сто рублей бросаю за какой-нибудь плащ. Просто Овидиево превращение[104]. Или, бывало, промыслишь как-нибудь эту бедную полтину и несешь ее в раек, не выбирая спектакля. И за полтину, бывало, так чистосердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не приведется так плакать и так смеяться. И давно ли то было? Вчера, не дальше, — и такая чудная перемена. Теперь, например, я уже иначе не иду в театр, как в кресла и редко когда в места за креслами, и иду смотреть не что попало, а норовлю попасть или на бенефис, или на повторение бенефиса, или хоть и старое что-нибудь, то всегда с выбором. Правда, что я утратил уже тот непритворный смех и искренние слезы, но мне их почти не жаль". Вспоминая все это, я вас вспоминаю, мой незабвенный благодетель, и то святое утро, в которое вас сам бог навел на меня в Летнем саду, чтобы взять меня из грязи и ничтожества.
Праздник встретил я в семействе Уваровых. Не подумайте — графов. Боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое, скромное купеческое семейство, но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них, как самый близкий родной. Карл Павлович тоже их нередко посещает.
Праздник провели мы весело. В продолжение недели ни разу не обедали у мадам Юргенс, а все в гостях — то у Йохима, то Шмидта, то Фицтума, а вечера или в театре, или у Шмидта. Соседка наша по-прежнему нас посещает, и все такая же шалунья, как и прежде была. Жаль, что она не может служить мне моделью для Андромахи: слишком молода и субтильна, если можно так выразиться. Я удивляюсь, что это за женщина ее тетенька. Она, кажется, и не думает о своей шалунье племяннице. Она иногда у нас бесится часа два сряду, а тетеньке и нуждушки нет. Странно! Штернберг досказал мне ее историю. Матери она не помнит, а отец ее был какой-то бедный чиновник и, как кажется, пьяница, потому что когда они жили в Коломне, то он каждый день приходил из должности «краснехонькой» (как она сама выразилась) и сердитый, и если у него были деньги, то он посылал ее в кабак за водкою, а если денег не было, то посылал ее на улицу просить милостыню. А вицмундир носил всегда с прорванными локтями. Тетка, ее теперешняя покровительница, а его родная сестра, иногда приходила к ним и просила его, чтобы он Пашу отдал ей на воспитание, но он и слышать не хотел. Долго ли они так жили в Коломне, она не помнит. Только однажды зимою он из должности не пришел ночевать на квартиру, она одна ночевала дома и ничего не боялась. На другую ночь он тоже не приходил, а на третий день уже пришел за нею от отца из Обуховской больницы служитель. Она пошла к нему, и служитель дорогой ей рассказал, что отца ее будочники ночью подняли на улице и отправили в часть, а из части уже на другой день в горячке привезли его в больницу и что прошлой ночью он ненадолго пришел в себя, сказал свою фамилию, рассказал, где его квартира, и просил привести ее к себе. Больной отец не узнал ее и прогнал от себя. Тогда она пошла к тетке и осталась у нее.
Вот и вся ее грустная история.
На днях подарил ей Штернберг "Векфильдского священника". Она схватила книгу, как дитя хватает хорошенькую игрушку, и, как дитя, поиграла ею, посмотрела картинки и бросила на стол, а уходя и не вспомнила о книге. Штернберг решительно уверен, что она безграмотна, я то же думаю, судя по ее печальному детству. У меня даже родилася мысль (если она действительно безграмотна) выучить ее по крайней мере читать. Штернбергу мысль моя понравилась, и он вызвался помогать мне. И он так уверен в ее безграмотности, что в тот же день пошел в книжную лавку и купил азбуку с картинками. Но благой проект наш только проектом и остался. Вот почему. На другой день, когда мы хотели приступить к первой лекции, приехал из Крыма Айвазовский[105] и остановился у нас на квартире. Штернберг с восторгом встретил своего товарища. Но мне, не знаю почему, на первый раз он не понравился. В нем есть, несмотря на его изящные манеры, что-то не симпатическое, не художническое, а что-то вежливо-холодное, отталкивающее. Портфели своей он нам не показывает, говорит — оставил в Феодосии у матери, а дорогой ничего не рисовал, потому что торопился застать первый заграничный пароход. Он прожил с нами, однако ж, с лишком месяц, не знаю по каким обстоятельствам. И в продолжение этого времени соседка нас ни разу не посетила: она боится Айвазовского. И я его за это готов каждый день проводить за границу. Но вот мое горе: с ним вместе и мой бесценный Штернберг уезжает.
Еще прошло несколько дней, и мы проводили моего Штернберга до Кронштадта. Около его собралось нас человек десять, а около Айвазовского ни одного. Странное явление между художниками! В числе провожавших Штернберга был и Михайлов. И одолжил же он нас! После дружеского веселого обеда у Стеварта он заснул богатырски. Мы его хотели разбудить, но не могли и, взявши пару бутылок клико, отправились с Штернбергом на пароход. На палубе «Геркулеса» выпили вино, вручили нашего друга г. Тыринову (начальнику парохода), простились и возвратилися уже вечером в трактир. Михайлов уже полупроснулся. Мы принялися рассказывать ему, как провожали мы Штернберга, — он молчал, и как были на пароходе, — он все молчал, и как выпили две бутылки клико. "Негодяи! — проговорил он при слове «клико». Не разбудили товарища проводить!.."
Скучно мне без моего милого Штернберга. Так скучно, что я не только от квартиры, где мне все его напоминает, даже от резвой соседки своей готов бежать. Не пишу вам теперь ничего больше — скучно, а я вам не хочу навести скуку своим монотонным посланием. Примусь лучше за программу. Прощайте".
"Лето так у меня быстро промелькнуло, быстрее, чем у праздного денди одна минута. Я после выставки едва только заметил, что оно уже кануло в вечность. А между прочим, в продолжение лета мы с Йохимом несколько раз посещали на Крестовском острове старика Кольмана, и под его руководством я сделал три этюда: две ели и одну березу. Добрейшее создание этот Кольман! Шмидты возвратились уже в город, и они-то мне напомнили своими упреками, что уже прошло лето. Я их ни разу не посетил. Далеко, а у меня все дни и ночи были отданы программе. Зато как они искренне поздравляли меня с успехом. Да, с успехом, мой незабвенный благодетель! Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое для него счастье, если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художником. Я это счастье вполне испытал. Не могу описать вам этого чудного, этого беспредельно сладкого чувства. Это продолжительное присутствие всего святого, всего прекрасного в мире в одном человеке. Зато какое горькое, какое мучительное состояние души предшествует этой святой радости. Это ожидание. Несмотря на то, что Карл Павлович уверял меня в успехе, я так страдал, как страдает преступник перед смертной казнью. Нет, больше. Я не знал, умру ли я или остануся в живых, а это, по-моему, тягостнее. Приговор еще не был произнесен. И в ожидании этого страшного приговора зашли мы с Михайловым к Дели сыграть партию в бильярд, но у меня дрожали руки, и я не мог сделать ни одного шара, а он, как ни в чем не бывало, так и режет. А ведь он тоже был под судом. Его программа стояла рядом с моею. Меня бесило такое равнодушие. Я бросил кий и ушел к себе на квартиру. В коридоре встретила меня смеющаяся, счастливая соседка.
— Что? — спросила она меня.
— Ничего, — ответил я.
— Как ничего? А я убрала вашу комнату, как для. светлого праздника. А вы идете такой скучный. — И она тоже хотела сделать скучную мину, но никак не могла.
Я поблагодарил ее за внимание и просил в комнату. Она так детски-непритворно стала утешать меня, что я не утерпел, расхохотался.
— Ничего еще не известно, экзамен еще не кончился, — сказал я.
— Так зачем же вы меня обманули, бессовестный! Если б знала, не убирала б и комнату. — И она надула розовенькие губки. — У Михайлова, — продолжала она, — небось, я не убрала. Пускай себе с своим мичманом валяются, как медведи в берлоге, мне какое дело!
Я поблагодарил ее за предпочтение и спросил ее, будет ли она рада, если Михайлов медаль получит, а я нет.
— Я ему руки переломаю. Глаза выцарапаю. Я его убью до смерти!
— А если я?
— Я тогда сама умру от радости.
— За что же мне такое предпочтение? — спросил я ее.
— За что?.. За то… за то… что вы меня обещалися зимою грамоте учить…
— И сдержу слово, — сказал я.
— Идите же в Академию, — сказала она, — и узнайте, что там делается, а я вас подожду в коридоре. "
— Зачем же не здесь? — спросил я.
— А если придет мичман, что я тогда буду делать?
"Правда", — подумал я и, не говоря ни слова, вышел в коридор. Она замкнула дверь и ключ спрятала в карман.
— Я не хочу, чтобы они без вас вошли в вашу комнату и что-нибудь испортили. — "С чего она взяла, что они у меня что-нибудь испортят, подумал я, — так просто, детский каприз".
— До свидания! — сказал я, спускаясь по лестнице. — Пожелайте мне счастья.
— От всей души! — сказала она восторженно и скрылась. Я вышел на улицу. Я боялся войти в Академию. Академические ворота мне показалися разинутою пастью какого-то страшного чудовища. Побродивши до поту на улице, я перекрестился и пробежал в страшные ворота. Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза[106], блуждали мои нетерпеливые товарищи. В толпу их и я вмешался. Профессора уже прошли из цыркуля в конференц-зало. Ужасная минута близилась. Андрей Иванович (инспектор) вышел из круглой залы, я ему первый попался навстречу, и он, проходя мимо меня, шепнул мне:
— Поздравляю.
Я в жизнь свою не слыхал и не услышу такого сладкого, такого гармонического звука. Я стремглав бросился домой и в восторге расцеловал мою соседку. Хорошо еще, что никто не видел, потому что это было на лестнице. Хотя я здесь ничего предосудительного не вижу, но все-таки слава богу, что никто не видел.
Так или почти так совершился этот душу потрясающий экзамен. И все то, что я вам написал теперь, это только темный силуэт с живой природы, слабая тень настоящего происшествия. Его ничем нельзя выразить — ни пером, ни кистью, ни даже живыми словами.
Михайлову экзамен не удался. Боже сохрани, если бы со мной случилось подобное несчастье. Я бы с ума сошел, а он как ни в чем не бывало зашел на квартиру, надел теплое пальто и уехал к своему мичману в Кронштадт. Я не знаю, что у него за симпатия к этому мичману. Я в нем совершенно ничего не нахожу привлекающего, а он от него без души. Сначала, правда, он и мне понравился, но это ненадолго. А бедный мой учитель Демский! Вот истинно симпатический человек. Он, бедный, болен, и неизлечимо болен. Чахотка в последнем периоде. Он еще ходит, но едва-едва ходит. На днях зашел поздравить меня с медалью, и мы с ним провели вечер в самой сладкой дружеской беседе. Он мне предсказывал мое будущее с таким убеждением, так натурально, живо, что я невольно ему верил. И бедный Демский, он и не подозревает своей болезни. Он так искренно увлекается своим будущим, как может увлекаться только полный здоровья юноша. Счастливец, если можно назвать мечту счастием! Он говорит, что главное и самое трудное уже уничтожено, т. е. нищета, что он не обязан уже просиживать ночи над перепиской лекций за какой-нибудь рубль, что он, теперь совершенно независим от нищеты, может предаться своей любимой науке, что он, если не превзойдет своего идола Лелевеля[107] в отечественной истории, то по крайней мере сравняется с ним, что будущая его диссертация откроет ему все средства осуществить свои блестящие надежды. А между тем бедняк кашляет кровью и старается это скрыть от меня. И, боже мой, чего бы я не отдал за осуществление его пламенных желаний! Но увы! совершенно никакой надежды. Едва ли проживет он и до вскрытия Невы.
В минуту самых сердечных излияний Демского с шумом створилася дверь и вошел удалый мичман.
— Что, Мишка у себя? — спросил он, не снимая шапки.
— Он вчера еще уехал к вам, — отвечал я.
— Значит, мы с ним разъехались. Пусть его прогуляется. А между прочим, я у вас ночую.
И он вошел в комнату Михайлова. Я ему подал свечу. Что мне было делать? Я Демскому предложил постель Михайлова в совершенной надежде, что у нас ее никто не завоюет. Демский заметил мое невыгодное положение, улыбнулся, взял шапку и протянул мне руку. Я тоже молча взял шапку и вышел с ним на улицу, предоставив мичмана самому себе. Проводивши Демского до его квартиры, я весьма неохотно возвратился назад, и что же застаю дома? Соседка моя не знала, что меня дома нет, и забежала в мою комнату, а удалый полураздетый мичман схватил ее и хотел было дверь на ключ запереть, но в это время я подошел к двери и помешал ему. Соседка вырвалась у него из рук, плюнула ему в лицо и убежала.
— Настоящая ртуть, — сказал мичман, утираясь. Меня эта сцена оскорбила, но я этого не дал ему заметить, и как еще было не поздно, то без церемонии оставил его на квартире, а сам пошел искать лучшего товарища коротать осенний вечер.
Визиты мои товарищам были неудачны, я кланялся только замкам дверей, к Шмидтам идти было поздно, Карла Павловича тоже не было дома, и я не знал, что с собою делать. Меня мучил проклятий мичман. Я ненавидел его. Не знаю, была ли то ревность. Или просто чувство отвращения к человеку, который поругал святое чувство скромности в женщине. Женщина, какая бы она ни была, мы ей обязаны если не уважением, так по крайней мере приличием. А мичман пренебрег и то, и другое… Он просто пьян или в глубине души мерзавец. Я как-то невольно верую в последнее.
В квартире Карла Павловича засветился огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако ж, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса. Велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга[108] "Христофор Колумб". Читая, он тут же импровизировал картину, как неблагодарные испанцы выводят с баркаса на берег обремененного цепями великого адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать.
Так однажды во время ужина, рассказывая свое путешествие по древней Элладе, он набросал чудную картину под названием "Афинский вечер"[109]. Картина представляла афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте вчерне оконченный Парфенон, но еще леса не убраны. На первом плане, среди улицы, пара буйволов везет мраморную статую "Река Илис" Фидия. Сбоку сам Фидий, встречаемый Периклом и Аспазией[110] и всем, что было славного в Перикловых Афинах, начиная с знаменитой гетеры и до Ксантиппы[111]. И все это освещено лучами заходящего солнца. Великолепная картина. Что "Афинская школа" перед этой животрепещущей картиной? А он именно потому только ее и не исполнил, что уже существует "Афинская школа". И. сколько подобных картин он оканчивает или вдохновенным словом, или вершковым эскизом в своем весьма невеликолепном альбоме. Так, например, прошедшей зимой он начертил несколько самых миниатюрных эскизов на одну и ту же тему. Я ничего не мог понять и только догадывался, что великий мой учитель замышляет что-то великое. И я не обманулся в своих догадках.
Нынешнее лето я стал замечать, что он до восхода солнечного ежедневно начал уходить в свою мастерскую, в портик, в своей серой рабочей куртке и оставался там до самого вечера. Один Лукьян только знал, что там совершается, потому что он приносил ему воду и обед. Я тогда работал над программой и не мог предложить ему услуг книгочия, хотя я был уверен, что он охотно принял бы такую услугу, потому что он любит чтение. Так прошло три недели. Я трепетал от нетерпения. Никогда он так постоянно не посещал свою студию. Должно быть, что-нибудь необыкновенное. Да и что обыкновенное создает такой колоссальный гений!
Однажды я перед вечером отпустил натурщика, хотел выйти на улицу. В коридоре встретился мне Карл Павлович с небритой бородою. Он пожелал видеть мою программу. Я с трепетом ввел его в свой кабинет, он сделал несколько неважных замечаний и сказал: "Теперь пойдем смотреть мою программу". И мы пошли в портик. Я не знаю, рассказывать ли вам о том, что я там увидел? Рассказать я вам должен. Но как я расскажу нерассказываемое?
Отворив двери в мастерскую, мне представилось огромное темное полотно, натянутое на раму. На полотне черной краской написано: "Нач. 17 июля". За полотном музыкальный ящик играл хор ноблей из "Гугенотов"[112]. С замиранием сердца прошел я за полотно, оглянулся, и у меня дыхание захватило: передо мною стояла не картина, а со всем ужасом и величием живая осада Пскова[113]. Вот где смысл крошечных эскизов. Вот для чего он прошедшее лето делал прогулку в Псков. Я знал о его предположении, но никогда не мог вообразить себе, чтобы это так быстро исполнилось. Так быстро и так прекрасно! Пока я сделаю для вас небольшой контур с этого нового чуда, опишу вам его, разумеется, весьма ограниченно.
На правой стороне от зрителя, на третьем плане картины, взрыв башни, немного ближе пролом в стене и в проломе — рукопашная схватка. Да такая схватка, что смотреть страшно; кажется, слышишь крики и звон мечей о железные ливонские, польские, литовские и бог знает еще о какие железные шлемы. На левой стороне картины, на втором плане, крестный ход с хоругвями и иконой божией матери, торжественно-спокойно предшествуемый епископом с мечом святого Михаила, князя псковского. Какой удивительный контраст! На первом плане, в середине картины, бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского, а сам Шуйский бежит к пролому с поднятыми вверх руками. По левую сторону монаха благочестивая старуха благословляет юношу или, лучше сказать, мальчика на супостата. Еще левее девушка поит водою из ведра утомленных воинов. А в самом углу картины полуобнаженный умирающий воин, поддерживаемый молодою женщиною, быть может, будущей вдовою. Какие чудные, разнообразные эпизоды! И я вам их и половины не описал. Мое письмо было бы бесконечно и все-таки не полно, если бы я вздумал описывать все подробности этого совершенства искусства.
Удовольствуйтесь на первый раз хоть этим прозаическим очерком в высшей степени поэтического произведения. Со временем пришлю вам контур с него, и вы тогда яснее увидите, что это за божественное произведение.
О чем же мне еще писать вам, мой незабвенный благодетель? Я так редко и так мало пишу вам, что мне совестно. Упреки ваши, что я ленив писать, не совсем справедливы. Я не ленив, а не мастер о обыденной жизни своей рассказывать увлекательно, как это другие умеют делать. Я недавно (собственно для писем) прочитал "Клариссу"[114], перевод Жюля Жанена, и мне понравилось одно предисловие переводчика. А письма такие сладкие, такие длинные, что из рук вон. И как это достало терпения у человека написать такие бесконечные письма? А письма из-за границы мне еще менее понравились: претензии много, а толку мало. Педантизм, и больше ничего. Я, признаюсь вам, имею сильное желание выучиться писать, да не знаю, как это сделать. Научите меня. Ваши письма так хороши, что я их наизусть выучиваю. А пока овладею вашим секретом, буду вам писать, как сердце продиктует. И моя простосердечная откровенность пускай пока заменит искусство.
Переночевавши у Карла Павловича, я часу в десятом весьма неохотно пошел к себе на квартиру. Михайлов уже был дома и наливал в стакан едва проснувшемуся мичману какое-то вино, а моя ветреная соседка как ни в чем не бывало выглядывала из моей комнаты и хохотала во все горло. Никакого самолюбия, ни тени скромности. Простая ли это, естественная наивность? Или это следствие уличного воспитания? Вопрос для меня неразрешимый. Неразрешимый потому, что я к ней безотчетно привязан, как к самому милому ребенку. И, как настоящего ребенка, я посадил ее за азбучку. По вечерам она твердит склады, а я что-нибудь черчу или с нее же портрет рисую. Головка просто прелесть. И замечательно что? С тех пор как она начала учиться, перестала хохотать. А мне смешно становится, когда я смотрю на ее серьезное детское личико. От нечего делать в продолжение зимы я думаю написать с нее этюд при огненном освещении. В таком точно положении, как она сидит, углубившись в азбучку с указкою в руке. Это будет очень миленькая картинка — а La Грез[115]. Не знаю, совладаю ли я с красками? В карандаше она порядочно выходит.
На днях я познакомился с ее тетушкой, и весьма оригинально. По обыкновению в одиннадцать часов утра возвращаюсь я из класса; в коридоре встречает меня Паша и именем тетеньки просит к себе на кофе. Меня это изумило. Я отказываюсь. Да и в самом деле, как войти в незнакомый дом и прямо на угощение? Она, однако ж, не дает мне выговорить слова, тащит меня за рукав к своим дверям, как упрямого теленка. Я, как теленок, упираюсь и уже чуть-чуть не освободил свою руку, как растворилася дверь и явилася на помощь сама тетенька. Не говоря ни слова, схватывает меня за другую руку, и втаскивают в комнату; двери на ключ — и просят быть как дома.
— Прошу покорно, без церемонии, — говорит запыхавшись хозяйка. — Не взыщите на простоте. Пашенька, что же ты рот разинула? Неси скорее кофей!
— Сейчас, тетя! — отозвалась Паша из другой комнаты и через минуту явилась с кофейником и чашками на подносе. Настоящая Геба[116]. Тетя тоже немного смахивала на Тучегонителя[117].
— Нам с вами давно хотелося познакомиться, — так начала гостеприимная хозяйка. — Да все как-то случаю не выпадало, а сегодня, слава богу, я таки поставила на своем. Уж вы нас извините за простоту. Не угодно ли чашечку кофею? Давно что-то нашей охтянки не видать. А в лавочке сливки такая дрянь, да что будешь делать? Ко мне Паша давно уже пристает, чтоб я познакомилася с вами, да вы-то такой нелюдим, настоящий затворник, и в коридор-то вы лишний раз не выглянете. Кушайте еще чашечку. Вы с нашей Пашенькой просто чудо сотворили. Мы ее просто не узнаем. С утра до ночи за книжкой, воды не замутит, так что даже любо. А вчера, вообразите наше удивление, достала с картинками книжку, ту самую, что ваш товарищ подарил ей, раскрыла и принялася читать, правда, еще не совсем бойко, но понимать совершенно все можно. Как бишь называется эта книга?
— "Векфильдский священник", — сказала Паша, выходя из-за перегородки.
— Да, да, священник. Как он, бедный, и в остроге сидел, как он и дочь свою беспутную отыскивал. Всю книжку, как есть, прочитала, куда и сон девался. "Кто это выучил тебя?" — спрашиваю я ее. Она говорит — вы. Вот уж, правду сказать, одолжили вы нас. Кирило Афанасьич мой если не в должности, так дома сидит за бумагами. Настанет вечер, мы и примемся за молчанку, и вечер тебе годом кажется. А теперь! Да я просто и не видала, как он пролетел! Не угодно ли еще чашечку?
Я отказался и хотел уйти. Не тут-то было. Самым нецеремонным образом хозяйка схватила мене за руку и усадила на свое место, приговаривая:
— Нет, у нас — не знаем, как у вас! — так не делают. Вошел и вышел. Нет, просим покорно побеседовать с нами да закусить чем бог послал.
От закуски и от беседы я, однако ж, отказался, ссылаясь на боль в животе и на колотье в боку, чего у меня, слава богу, никогда не бывало. А дело в том, что мне нужно было идти в класс, — первый час уже был в исходе. На честное слово я был отпущен до семи часов вечера. Верный данному слову, в семь часов вечера я явился к гостеприимной соседке. Самовар уже был на столе, и она меня встретила со стаканом чая в руках. После первого стакана чаю она отрекомендовала меня хозяину своему, как она выразилась, лысому в очках старичку, сидевшему в другой комнате за столиком над кипою бумаг. Он встал со стула, поправил очки и, протянувши мне руку, сказал:
— Прошу покорно, садитесь.
Я сел. А он снял с носа очки, протер их носовым платком, надел их опять на нос, сел молча на свое место и по-прежнему углубился в свои бумаги. Так прошло несколько минут. Я не знал, что мне делать. Положение мое становилось смешным. Хозяйка, спасибо, меня выручила.
— Не мешайте ему, — сказала она, выглядывая из другой комнаты. — Идите к нам. У нас веселее.
Я молча оставил трудолюбивого хозяина и перешел к хлопотунье хозяйке. Смиренница Паша сидела за "Векфильдским священником" и рассматривала картинки.
— Видели нашего хозяина? — сказала хозяйка. — Вот он всегда такой. Так он привык к этим бумагам, что минуты без них не проживет.
Я сказал какой-то комплимент трудолюбию и попросил Пашу, чтобы она читала вслух. Довольно медленно, но правильно и внятно прочитала она страницу из "Векфильдского священника" и была награждена от тетеньки стаканом чаю внакладку и панегириком, которого и на трех страницах не упишешь. А мне, как ментору, кроме бесконечной благодарности, предложено было рому с чаем. Но как он был еще у Фогта и Паша должна была за ним сбегать, то я отказался от рому и от чая, к немалому огорчению гостеприимной хозяйки.
В одиннадцатом часу поужинали, и я ушел, давши обещание навещать их ежедневно.
Не могу вам ясно определить, какое впечатление произвело на меня это новое знакомство. А первое впечатление, говорят, весьма важно в деле знакомства. Я доволен этим знакомством потому только, что знакомство мое с Пашей до сих пор казалось мне предосудительным, а теперь как бы все это устранилось и наша дружба как будто бы скреплялась этим нечаянно-новым знакомством.
Я стал бывать у них каждый день и через неделю был уже как старый знакомый или, лучше сказать, как свой семьянин. Они мне предложили у себя стол за ту самую цену, что и у мадам Юргенс. И я изменил доброй мадам Юргенс и не раскаиваюсь: мне наскучила беззаботная холостая компания, и я охотно принял предложение соседки. У них мне так хорошо, тихо, спокойно, все это по-домашнему, все это так в моем характере, так в гармонии с моею миролюбивою натурой. Пашу я называю сестрицей, а тетеньку ее своей тетенькой называю, а дяденьку никак не называю, потому что я его только и вижу за обедом. Он, кажется, и по праздникам ходит в должность. Мне так хорошо у них, что я почти никуда не выхожу, окроме Карла Павловича. У Йохима не помню когда и был, у Шмидта и Фицтума тоже. Сам вижу, что нехорошо я делаю, но что же делать: не умею врать перед добрыми людьми. Недостаток светского образования, ничего больше. В следующее воскресенье сделаю им всем визиты и вечер у Шмидта проведу, а то как бы и в самом деле не раззнакомиться. Все это ничего, все это как-нибудь уладится. А вот мое горе: не могу поладить с Михайловым, т. е. собственно не с Михайловым, а с его сердечным другом мичманом. Он почти каждую ночь ночует у нас. Это бы еще ничего, а то наведет с собою бог знает каких людей, и напролет всю ночь карты и пьянство. Не хотелось бы мне переменять квартиры, а, кажется, придется, если эти оргии не прекратятся. Хоть бы скорее весна настала, пускай бы себе ушел в море этот несносный мичман.
Начал я этюд с Паши красками при огне, очень миленькая выходит головка; жаль только, что проклятый мичман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое, да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой, да все как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую, с Паши же — «Весталку». Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди.
Паша начинает уже хорошо читать и полюбила чтение. Это мне чрезвычайно приятно. Но я затрудняюсь в выборе чтения для ее. Романы, говорят, нехорошо читать молодым девушкам. А я, право, не знаю, почему нехорошо. Хороший роман изощряет воображение и облагораживает сердце. А сухая какая-нибудь умная книга, кроме того, что ничему не научит, да, пожалуй, еще и поселит отвращение к книгам. Я ей на первый раз дал "Робинзона Крузо"[118], а после предложу путешествие Араго[119] или Дюмон-Дюрвиля, а там опять какой-нибудь роман, а потом Плутарха[120]. Жаль, что нет у нас переведенного Вазари, а то бы я ее познакомил и с знаменитостями нашего прекрасного искусства. Хорош ли мой план? Как вы находите? Если имеете что-нибудь сказать против его, то сообщите мне в следующем письме, и я вам буду сердечно благодарен. Меня она теперь занимает, как будто что-то близкое, родное. Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как художник на свою неоконченную картину. И великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения, или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать.
Я надоел вам своими соседками. Но что делать? По пословице: "У кого-что болит, тот о том и говорит".
А если правду сказать, то у меня теперь и говорить больше не о чем. Нигде не бываю и ничего не делаю. Не знаю, что-то мне судьба готовит будущего лета? А я его не без трепета ожидаю, да и можно ли его ожидать иначе. Будущее лето должно положить настоящий фундамент избранному мною, или, лучше сказать, вами, поприщу. Карл Павлович говорит, что вскоре после праздников будет объявлена программа на первую золотую медаль. Со мной чуть-чуть не делается обморок при одной мысли об этой роковой программе. Что, если мне удастся? Я с ума сойду. А вы? Неужели вы не приедете посмотреть трехгодовую выставку и взглянуть на мою одобренную программу и на смиренного творца ее, как на свое собственное создание? Я уверен, что вы приедете. Напишите мне о вашем приезде в следующем письме, И я буду иметь благовидный предлог отказать Михайлову от квартиры. Мичман, кажется, и ему уже надоел. Хорошо еще, что я имею приют у соседок. А то пришлось бы бегать собственной квартиры. Напишите, сделайте милость, что вы приедете. Тогда я все разом покончу.
Прощайте мой незабвенный благодетель. В следующем письме сообщу вам о дальнейших успехах моей ученицы и о следствиях предстоящего конкурса. Прощайте.
Р. S. Бедный Демский уже из комнаты не может выйти. Не пережить ему весны".
По получении этого письма я написал ему, что не к выставке, а, может быть, и к святой неделе приеду к нему в гости и что приеду к нему прямо на квартиру, как Штернберг приезжал. Я написал ему это для того собственно, чтобы избавить его от неотвязчивого мичмана. Я, правду сказать, опасался за его еще не установившийся молодой характер. Чего доброго, как раз может сделаться двойником беспардонного мичмана. Тогда прощай все — и гений, и искусство, и слава, и все очаровательное в жизни. Все это уляжется, как в могиле, на дне всепожирающей рюмочки. Примеры эти, к несчастию, весьма и весьма даже нередки, в особенности у нас в России. И что за причина? Неужели одно пьяное общество может умертвить всякий зародыш добра в молодом человеке? Или тут есть еще что-нибудь для нас непонятное? А впрочем, народная мудрость вывела одно заключение: "Скажи, с чем ты знаком? Я тебе скажу, кто ты таков". А Гоголь, вероятно, тоже не без основания заметил, что русский человек, коли хороший мастер, то непременно и пьяница. Что бы это значило? Ничего больше, я полагаю, как недостаток всеобщей цивилизации. Так, например, сельский или другой какой писарь в кругу честных безграмотных мужичков — все равно, что Сократ в Афинах. А посмотрите — самое безнравственное, беспросыпно пьяное животное, потому именно, что он мастер своего дела, что он один-единственный грамотей между сотнею простодушных мужичков, на счет которых он упивается и распутничает. А они только удивляются его досужеству и никак не могут себе растолковать, что бы такое значило, что такой умнейший человек и такой великий пьяница? А простакам и невдомек, что он один между ими мастер письменного или другого какого дела, что нет ему соперника, что давальцы его навсегда останутся ему верны, потому что кроме его не к кому обратиться. И он себе спустя рукава, кое-как делает свое дело, а легкие заработки пропивает.
Вот, по-моему, одна-единственная причина, что у нас коли мастер своего дела, то непременно и горький пьяница. А кроме этого, замечено, что и между цивилизованными нациями люди, выходящие из круга обыкновенных людей, одаренные высшими душевными качествами, всегда и везде более или менее были чтителями, а нередко и усердными поклонниками веселого бога Бахуса[121]. Это уже, должно быть, непременное свойство необыкновенных людей.
Я лично и хорошо знал гениального математика нашего Остроградского[122] (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его однажды: "Неужели вы вина никогда не пьете?" "В Харькове еще когда-то я выпил два погребка, да и забастовал", — ответил он мне простодушно.
Немногие, однако ж, кончают двумя погребками, а непременно принимаются за третий. Нередко и за четвертый, и на этом-то роковом четвертом кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую жизнь.
А он, т. е. мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся, с воображением горячим. (А это-то и есть злейший враг жизни самостоятельной, положительной. Хотя я и далеко не поклонник монотонной трезвой аккуратности и вседневно однообразной воловьей деятельности, но не скажу, чтобы и был я открытый враг положительной аккуратности. Вообще в жизни средняя дорога есть лучшая дорога. Но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной средняя дорога ни к чему, кроме безыменной могилы, не приводит).
В художнике моем хотелося бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни. Но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей.
Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить все вредно действующие на молодое воображение моего любимца, но как это сделать — не знаю. Мичмана я решительно боюся. Да и от соседки нельзя ожидать ничего доброго. Это ясно как день. Теперь еще это могло бы кончиться разлукой и слезами, как обыкновенно кончается первая пламенная любовь. Но при содействии тетушки, которая ему так понравилась с первого разу, кончится все это факелом Гименея и, дай бог мне ошибиться, развратом и нищетой.
Он мне прямо не говорит, что он влюблен по уши в свою ученицу. Да и какой юноша прямо откроет эту священную тайну? По одному слову своей обожаемой он бросится в огонь и в воду, прежде чем выговорит ей словами свое нежное чувство. Таков юноша, любящий искренно. А бывают ли юноши, любящие иначе?
Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от соседок, с умыслом не упоминая об них ни слова, я советовал ему посещать как можно чаще Шмидта, Фицтума и Йохима, как людей, необходимых для его внутреннего образования. Навещать старика Кольмана, которого добрые советы по части пейзажной живописи ему необходимы. И каждый божий день, как храм, как светильник прекраснейшего искусства, посещать мастерскую Карла Павловича. И во время этих посещений сделать для меня акварелью копию с "Бахчисарайского фонтана". А в заключение описал ему всю важность предстоящей программы, для которой он должен посвятить всего себя и все свои дни и ночи до самого дня экзамена, т. е. до октября месяца, — такой срок и такого рода занятие мне казались достаточными хотя немного охладить первую любовь, — и что, если мне нельзя будет на все лето остаться в столице, то к осени я непременно опять приеду собственно для его программы.
Письмо мое, как я и ожидал, имело свое доброе действие, но только вполовину: программа ему удалась, а соседки — увы! Но зачем прежде времени подымать завесу таинственной судьбы? Прочитаем еще одно и последнее его письмо.
"Волею или неволею, не знаю, а знаю только то, что вы меня жестоко обманули, мой незабвенный благодетель. Я дожидал вас, как самого дорогого моему сердцу гостя, а вы — бог вам судия… И зачем было обещать? А сколько было хлопот мне с моими жильцами, насилу выжил. Михайлов, правда, сейчас же согласился, но неугомонный мичман дотянул-таки до самой весны, т. е. до страстной недели, и на расставаньи мы чуть было с ним не поссорились. Он непременно хотел остаться и на святую неделю, но я решительно сказал ему, что это невозможно, потому, говорю ему, что я вас дожидаю.
— Эка важная фигура ваш родственник! И в трактире может поселиться! сказал он, покручивая свои глупые усы.
Меня это взбесило. И я готов уже был наделать бог знает каких дерзостей, да, спасибо, Михайлов остановил меня. Я не знаю, что ему особенно понравилось в нашей квартире, вероятно, только то, что она даровая, не нанятая. Зимой, бывало, Михайлов по нескольку ночей дома не ночует и днем изредка заглянет и сейчас же уйдет. А он только и выйдет пообедать да напиться пьяным и опять лежит на диване — или спит, или трубку курит. Последнее время он уже было и чемодан с бельем перетащил. И когда уже совсем я ему отказал от квартиры, так он все еще приходил несколько раз ночевать. Просто бессовестный. И еще одна странность. До самого его выезда в Николаев (он переведен в Черноморский флот) я его каждый вечер, возвращаясь из класса, встречал или в коридоре, или на лестнице, или у ворот. Не знаю, кому он делал вечерние визиты. Но бог с ним. Слава богу, что я его избавился.
Какие успехи сделала в продолжение зимы моя ученица! Просто чудо! Что, если бы начать ее учить в свое время, — из нее могла бы быть просто ученая. И какая она сделалась скромная, кроткая, просто прелесть. Детской игривости и наивности и тени не осталось.
Правду сказать, мне даже жаль, что грамотность — если это только грамотность — уничтожила в ней эту милую детскую резвость. Я рад, что хоть тень той милой наивности осталась у меня на картине. Картинка вышла очень миленькая. Огненное освещение, правда, не без труда, но удалось. Прево предлагает мне сто рублей серебром, на что я охотно соглашаюсь, только после выставки. Мне непременно хочется представить мою милую ученицу на суд публики. Я был бы совершенно счастлив, если б вы не обманули меня в другой раз и приехали к выставке. А она в нынешнем году особенно будет интересна. Многие художники — и наши, и иностранцы из-за границы — обещают прислать свои произведения, в том числе Орас Верне, Гюден и Штейбен[123]. Приезжайте ради самого Аполлона и девяти его прекрасных сестриц[124].
До сих пор моя программа идет тупо; не знаю, что дальше будет. Композицией Карл Павлович доволен, больше ничего не могу вам о ней сказать. С будущей недели примусь вплотную. А до сих пор я ее как будто бегаю. Не знаю, что это значит? Ученица моя и та уже начинает понукать меня. Ах, если б я вам мог рассказать, как мне нравится это простое, доброе семейство. Я у них как сын родной. Про тетушку и говорить нечего: она постоянно добрая и веселая. Нет, угрюмый и молчаливый дядюшка и тот иногда оставляет свои бумаги, садится с нами около шумящего самовара и исподтишка отпускает шуточки. Разумеется, самые незамысловатые. Я иногда позволяю себе роскошь, разумеется, когда лишняя копейка зазвенит в кармане: угощаю их ложей третьего яруса в Александрийском театре. И тогда всеобщее удовольствие безгранично, особенно если спектакль составлен из водевилей, а ученица и модель моя несколько дней после такого спектакля и во сне, кажется, поет водевильные куплеты. Я люблю, или, лучше сказать, обожаю, все прекрасное как в самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение ума и рук человека. Я в восхищении от светски образованной женщины и мужчины тоже. У них все, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию. У них во всех пульс, кажется, одинаково бьется. Дурак и умница, флегма и сангвиник — это редкие явления, да едва ли они и существуют между ими. И это мне бесконечно нравится. Ненадолго однако ж. Это, может быть, потому, что я родился и вырос не между ими, а грошовым воспитанием своим и подавно не могу равняться с ими. И потому-то мне, несмотря на всю очаровательную прелесть их жизни, мне больше нравится простых людей семейный быт, таких, например, как мои соседи. Между ними я совершенно спокойный, а там все чего-то как будто боишься. Последнее время я и у Шмидтов чувствую себя неловко. И не знаю, что бы это значило? Бываю я у них почти каждое воскресенье, но не засиживаюсь, как это прежде бывало. Может быть, это оттого, что нету милого незабвенного Штернберга между нами. А кстати, о Штернберге. Я недавно получил от него письмо из Рима. Да и чудак же он препорядочный! Вместо собственных впечатлений, какие произвел на него Вечный Город[125], он рекомендует мне — и кого же вы думаете? — Дюпати[126] и Пиранези[127]. Вот чудак! Пишет, что у Лепри видел он великий собор художников, в том числе и Иванова[128], автора будущей картины "Иоанн Предтеча проповедует в пустыне". Русские художники подтрунивают исподтишка над ним, говорят, что он совсем завяз в Понтийских болотах[129] и все-таки не нашел такого живописного сухого пня с открытыми корнями, который ему нужен для третьего плана своей картины. А немцы вообще в восторге от Иванова. Еще встретил он, в кафе Греко, безмерно расфранченного Гоголя, рассказывающего за обедом самые сальные малороссийские анекдоты. Но главное, что он встретил при въезде в Вечный Город, в виду купола св. Петра и в виду бессмертного великана Колизея[130], это качуча. Грациозная, страстная, такая, как она есть в самом народе, а не такая чопорная, нарумяненная, как ее видим на сцене. "Вообрази себе, — пишет он, — что знаменитая Тальони — копия с копии с того оригинала, который я видел бесплатно на римской улице!" Но для чего мне делать выписки, я пришлю вам его письмо в оригинале. Там вы и про себя кое-что небезынтересное прочитаете. Он, бедный, все еще вспоминает о Тарновской. Вы ее часто видите. Скажите, счастлива ли она со своим эскулапом? Если счастлива, то не говорите ей ничего про нашего друга. Не тревожьте пустым воспоминанием ее тихого семейного покоя. Если же кет, то скажите ей, что друг наш Штернберг, благороднейшее создание в мире, любит ее до сих пор так же искренно и нежно, как и прежде любил. Это усладит ее сердечную тоску. Как бы человек ни страдал, какие бы ни терпел испытания, но если он услышит одно приветливое, сердечное слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает гнетущее его горе хоть ненадолго, хотя на час, на минуту. Он совершенно счастлив. А минута полного счастия, говорят, заменяет бесконечные годы самых тяжелых испытаний!
Прочитывая эти строки, вы улыбнетесь, обожаемый мой друже. И, чего доброго, подумаете, не терплю ли и я какого-нибудь испытания, потому что так красно рассуждаю об испытании. Божусь вам, у меня никакого горя, а так что-то взгрустнулось. Я совершенно счастлив, да и может ли быть иначе, имея таких друзей, как вы и милый незабвенный Виля. Немногим из людей выпадает такая сладкая участь, как выпала на мою долю. И если бы не вы, пролетела бы мимо меня слепая богиня, но вы ее остановили над заброшенным бедным замарашкой. О боже мой! боже мой! я так счастлив, так беспредельно счастлив, что мне кажется, я задохнуся от этой полноты счастия, задохнуся и умру. Мне непременно нужно хоть какое-нибудь горе, хоть ничтожное. А то сами посудите: что бы я ни задумал, чего бы я ни пожелал, мне все удается. Все меня любят, все ласкают, начиная с нашего великого маэстро. А его любви, кажется, достаточно для совершенного счастия.
Он часто заходит ко мне на квартиру, иногда даже и обедает у меня. Скажите, мог ли я тогда думать о таком счастии, когда я в первый раз увидел его у вас, в этой самой квартире. Многие и весьма многие вельможи-царедворцы не удостоены такого великого счастия, каким я, неизвестный нищий, пользуюсь. Есть ли на свете такой человек, который не позавидовал бы мне в настоящее время?
На прошедшей неделе заходит ко мне в класс, взглянул на мой этюд, сделал наскоро кое-какие замечания и вызывает меня на пару слов в коридор. Я думал, что и бог знает какой секрет. И что же? Он предлагает мне ехать с ним вместе на дачу к Уваровым обедать. Мне не хотелося оставить класс. И я начал было отговариваться, но он мои резоны назвал школьничеством и неуместным прилежанием и сказал, что один класс ничего не значит пропустить. "А главное, — прибавил он, — я вам дорогою прочитаю такую лекцию, какой вы и от профессора эстетики никогда не услышите". Что я мог сказать на это? Убрал палитру и кисти, переоделся и поехал. Дорогой, однако ж, и помину не было об эстетике. За обедом, как обыкновенно, был общий веселый разговор, а после обеда уже началась лекция. Вот как было дело.
В гостиной, за чашкой кофе, старик Уваров завел речь о том, как быстро летят часы и как мы не дорожим этими алмазными часами. "Особенно юноши", прибавил старик, глядя на сыновей своих. "Да вот вам животрепещущий пример, — подхватил Карл Павлович, показывая на меня. — Он сегодня оставил класс, чтоб только побаклушничать на даче". Меня как кипятком обдало. А он, ничего не замечая, прочитал мне такую лекцию о всепожирающем быстролетящем времени, что я теперь только почувствовал и понял символическую статую Сатурна, пожирающего детей своих. Вся эта лекция была прочитана с такой любовью, с такой отцовской любовью, что я тут, в присутствии всех гостей, заплакал, как ребенок, уличенный в шалости.
После всего этого, скажите, чего мне еще недостает? Вас! Только одного вашего присутствия недостает мне. О! дождусь ли я той радостной великой минуты, в которую обниму вас, моего родного, моего искреннего друга? А знаете что? Не напишите вы мне, что вы приедете ко мне к святой, я непременно посетил бы вас прошедшею зимой. Но, видно, святые в небе позавидовали моему земному счастию и не допустили этого радостного свидания.
Несмотря, однако ж, на всю полноту моего счастия, мне иногда бывает так невыносимо грустно, что я не знаю, куда укрыться от этой гнетущей тоски. В эти страшно продолжительные минуты одна только очаровательная моя ученица имеет на меня благотворное влияние. И как бы мне хотелось тогда раскрыть ей мою страдающую душу! разлиться, растаять в слезах перед нею… Но это оскорбит ее девственную скромность. И я себе скорее лоб разобью о стену, чем позволю оскорбить какую бы то ни было женщину, тем более ее. Ее, прекрасную и пренепорочную отроковицу.
Я, кажется, писал вам прошедшей осенью о моем намерении написать с нее весталку в пандан прилежной ученицы. Но зимою трудно было достать лилии или белой розы, а главное, мне мешал несносный мичман. Теперь же эти препятствия устранены, и я думаю между делом, т. е. между программою, привести в исполнение мой задушевный проект. Тем более это возможно, что программа моя немногосложна, всего три фигуры. Это — Иосиф толкует сны[131] своим соузникам, виночерпию и хлебодару. Сюжет старый, избитый, и поэтому-то нужно хорошенько его обработать, т. е. сочинить, механической работы тут немного. А впереди еще с лишком три месяца времени. Вы мне пишете о важности моей, быть может, последней программы. И советуете как можно прилежнее изучить ее, или, как вы говорите, проникнуться ею. Все это прекрасно, и я совершенно убежден в необходимости всего этого. Но, единственный мой друже! Я боюся выговорить. «Весталка» меня более и постоянно занимает. А программа — это второй план «Весталки». И как я ни стараюсь поставить ее на первый план, — нет, не могу. Уходит, и что бы это значило — не знаю. Думаю прежде окончить «Весталку» (она у меня уже давно начата). Окончу, да и с рук долой, тогда свободнее примуся за программу.
Программа! Я что-то недоброе предчувствую с моею программой. И откуда берется это роковое предчувствие? Не отказаться ли мне от нее до следующего года? Но потерять год времени! Чем вознаградится эта потеря? Верным успехом. А кто поручится за этот успех? Не правда ли, я болен? Я действительно немножко как будто бы рехнулся. Я становлюсь похожим на «Метафизика» Хемницера[132]. Бога ради, приезжайте, восстановите мою падающую душу.
Какой же я бессовестный эгоист! На каком основании я почти требую вашего визита? Во имя какой разумной идеи вы должны оставить ваши занятия, ваши обязанности и ехать за тысячу верст для того только, чтобы увидеть какого-то полуидиота?
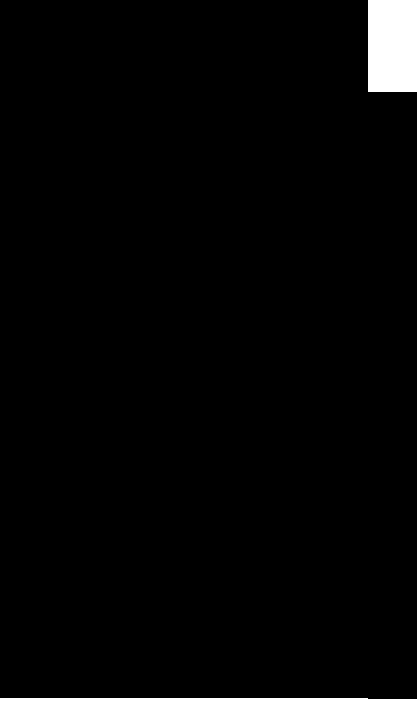 |
Прочь недостойное малодушие! Ребячество, ничего больше. А я уже, слава богу, допущен к программе на первую золотую медаль. Я уже человек кончающий… нет, нет, художник, начинающий свою, быть может великую, карьеру. Мне стыдно перед вами, мне стыдно самого себя. Если только не имеете крайней надобности, то, бога ради, не ездите в столицу, не приезжайте по крайней мере до тех пор, пока я не окончу мою программу и мою задушевную «Весталку». А тогда, если приедете, т. е. к выставке, о, тогда моя радость, мое счастие будет бесконечно.
Еще одно и странное, и постоянное мое желание: мне ужасно хочется, чтобы вы хоть мимоходом взглянули на модель моей «Весталки», т. е. на мою ученицу. Не правда ли, странное, смешное желание? Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие! Как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала ей какую-то особенную прелесть. Один маленький недостаток в ней, и это маленькое несовершенство недавно я заметил: она, как мне кажется, неохотно читает. А тетенька ее давно уже перестала восхищаться своей грамотницей Пашей. После праздников дал я ей прочитать "Робинзона Крузо". Что ж бы вы думали? Она в продолжение месяца едва-едва прочла до половины. Признаюсь вам, такое равнодушие меня сильно огорчило. Так огорчило, что я начал уже раскаиваться, что и читать ее выучил. Разумеется, я ей этого не сказал, а только подумал. Она же как будто подслушала мою думу. На другой же день дочитала книгу и ввечеру за чаем с таким непритворным увлечением и с такими подробностями рассказала бессмертное творение Дефо своей равнодушной тетеньке, что я готов был расцеловать свою умницу ученицу. В этом отношении я нахожу много общего между ей и мною. На меня иногда находит такое деревянное равнодушие, что я делаюся совершенно ни на что не способен. Но со мною, слава богу, эти припадки непродолжительны бывают, а она… И что для меня непонятно? С тех пор, как оставил меня неугомонный мичман, сделалась как-то особенно скромнее, задумчивее и равнодушнее к книге. Неужели она?.. Но я этого допустить не могу: мичман — создание чисто антипатическое, жесткое, и едва ли может он заинтересовать женщину самой грубой организации. Нет, это мысль нелепая. Она задумывается и впадает в апатию просто оттого, что ее возраст такой, как уверяют нас психологи.
Я вам надоедаю своею прекрасною моделью и ученицей. Вы, чего доброго, пожалуй, подумаете, что я к ней неравнодушен. Оно действительно на то похоже. Она мне чрезвычайно нравится, но нравится, как что-то самое близкое, родное. Нравится, как самая нежная сестра родная.
Но довольно о ней. А кроме ее в настоящее время мне и писать вам больше не о чем. О программе теперь писать еще нечего, она едва подмалевана. Да и по окончании ее я вам писать не буду. Мне хочется, чтобы вы о ней в газете прочитали. А больше всего мне хочется, чтобы сами ее увидали. Я говорю с такою самоуверенностью, как будто уже все кончено, остается только медаль взять из рук президента и туш на трубах прослушать.
Приезжайте, мой незабвенный, мой сердечный друг. Без вас мой триумф неполный будет. Потому неполный, что вы один-единственный виновник моего настоящего и будущего счастья.
Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не обещаю вам писать вскоре. Проищите!
Р. S. Бедный Демский и вскрытия Невы не дождался: умер, и умер, как истинный праведник, тихо, спокойно, как будто бы заснул. В больнице Марии Магдалины мне часто удавалося наблюдать за последними минутами угасающей жизни человека. Но такого спокойного, равнодушного расставанья с жизнью я не видел. За несколько часов перед кончиной я сидел у его кровати и читал вслух какую-то брошюру легкого содержания. Он слушал, закрывши глаза, и по временам едва заметно приподымались у него углы рта; это было что-то вроде улыбки. Чтение продолжалось недолго. Он раскрыл глаза и, обратя их на меня, едва слышно проговорил:
— И охота же вам на такие пустяки дорогое время тратить. — И, переведя дух, прибавил: — Лучше бы рисовали что-нибудь. Хоть с меня. — Со. мной по обыкновению была книжка, или так называемый альбом, и карандаш. Я начал очерчивать его сухой, резкий профиль. Он опять взглянул на меня и сказал, грустно улыбаясь: — Не правда ли, спокойная модель? — Я продолжал рисовать. Тихонько растворилася дверь, и в дверях, обернутое чем-то грязным, показалося грязное лицо квартирной хозяйки, но, увидя меня, спряталося, и дверь притворилась. Демский, не раскрывая глаз, улыбнулся и дал знак рукою, чтобы я наклонился, к нему. Я наклонился. Он долго молчал и, наконец, едва внятно, со вздрагиванием проговорил: — Заплатите ей, бога ради, за квартиру. Даст бог, сквитаемся. — Со мною не было денег, и я тотчас пошел на квартиру. Дома меня, не помню, что-то задержало. Тетушкин кофе или что-то в этом роде. Не помню. Пришел я к Демскому уже перед закатом солнца. Комнатка его была освещена ярко-оранжевым светом заходящего солнца. Так ярко, что я должен был на несколько минут глаза зажмурить. Когда я раскрыл глаза и подошел к кровати, то под одеялом уже остался только труп Демского, в таком точно положении, как я его оставил живым. Складки одеяла не сдвинулись с места, улыбка на пол-линии не изменилась, глаза закрыты, как у спящего. Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал к сонму праведников. Я сложил ему на груди полуостывшие руки, поцеловал его в холодное чело и прикрыл одеялом. Нашел хозяйку, отдал ей долг покойника, просил распорядиться похоронами на мой счет, а сам пошел к гробовщику. На третий день пригласил я священника из церкви св. Станислава, взял ломового извозчика, и с помощию дворника вынесли и поставили скромный гроб на роспуски и двинулися с Демским в далекую дорогу. За гробом шел я, патер Посяда и маленький причетник. Ни одна нищая не сопутствовала нам, а их немало встречалось дорогою. Но эти бедные тунеядцы, как голодные собаки, носом чуют милостыню. От нас они не предвидели подачи и не ошиблись. Ненавижу я этих отвратительных промышленников, спекулирующих именем Христовым. С кладбища пригласил я патера на квартиру покойника, не с тем, чтобы тризну править, а затем, чтобы показать ему скромную библиотеку Демского. Вся библиотека заключалась в небольшом, едва сколоченном ящике и состояла из 50-ти с чем-то томов, большею частию исторического и юридического содержания, на языках греческом, латинском, немецком и французском. Ученый патер весьма неравнодушно перелистывал греческих и римских классиков весьма скромного издания, а я откладывал книги только на французском языке. И странно, кроме Лелевеля, на польском языке только один крошечный томик Мицкевича[133] самого лубочного познанского издания. Больше ничего не было. Неужели он не любил своей родной литературы? Не может быть. Когда библиотека была разобрана, я взял себе французские книги, а все остальные предложил ученому патеру. Добросовестный патер никак не соглашался приобрести такое сокровище совершенно даром. И предложил на свой счет положить гранитную плиту над прахом Демского. Я с своей стороны предложил половину издержек. И мы тут же определили величину и форму плиты и надпись сочинили. Надпись самая нехитрая:
"Leonard Demski, mort. anno l8…"[134] Покончивши все это и взявши всякий свою долю наследства, мы рассталися, как давнишние приятели.
Странно, однако ж, неужели покойный Демский не приближал к себе и сам не приближался ни к кому, кроме меня? В квартире его я никогда никого не встречал. Но когда, выходили мы с ним на улицу, на улице часто встречались его знакомые, по-приятельски здоровались, а некоторые даже пожимали ему руку. И все это были люди порядочные. И то правда, так называемый порядочный человек посетит труженика бедняка в его мрачной лачуге? Грустно! Бедные порядочные люди!
Прощайте еще раз. Не забывайте меня, мой незабвенный благодетель".
Из этого пространного и пестрого письма я вычитал, во-первых, что художник мой, как и следует быть истинному. художнику, в высокой степени благородный и кроткий человек. Простые люди не могут так искренно, так бескорыстно прилепляться к таким горьким, всеми покинутым беднякам, каков был покойник Демский. В этой прекрасной, бескорыстной привязанности я ничего не вижу особенного; это обыкновенное следствие взаимного сочувствия ко всему великому и прекрасному в науке и в человеке. По своей природе и по завещанию нашего божественного учителя мы все должны быть таковы. Но, увы! весьма и весьма немногие из нас соблюли святую заповедь его и сохранили свою божественную природу в любви и целомудрии. Весьма немногие! И потому-то нам и кажется необыкновенным чем-то человек, любящий бескорыстно, человек истинно благородный. Мы, как на комету, смотрим на такого человека. И, насмотревшись досыта, и чтобы наше грязное, себялюбивое существо не так резко самим нам бросалось в глаза, начинаем и его, чистого, пачкать, сначала скрытой клеветой, потом явной, а когда и эта не взяла, обрекаем его на нищету и страдания. Это еще счастье, если запрем в дом умалишенных. А то просто вешаем, как самого гнусного злодея. Горькая, но, увы, истина!
Я, однако ж, некстати зарапортовался.
Второе, что я вычитал из нескладного письма моего возлюбленного художника, — это то, что он, сердечный, сам того не замечая, влюбился по уши в свою хорошенькую вертлявую ученицу. Это в порядке вещей. Это хорошо, это даже необходимо, тем более художнику, а иначе закоптится сердце над академическими этюдами. Любовь есть животворящий огонь в душе человека. И все, созданное человеком под влиянием этого божественного чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. Все это прекрасно, но только вот что. Эти, как называет их Либельт[135], огненные души удивительно как неразборчивы в деле любви. И часто случается, что истинному и самому восторженному поклоннику красоты выпадает на долю такой нравственно безобразный идол, что только дым кухонного очага ему впору, а он, простота, курит перед ним чистейший фимиам. Очень и очень немногим этим огненным душам сопутствовала гармония. От Сократа, Бергема и до наших дней одна и та же безобразная нескладица в обыденной жизни. И, к. большому горю, эти огненные души влюбляются совсем не по-кавалерийски, а хуже всякого самого мизерного пехотинца, т. е. на всю жизнь. Вот что для меня непонятно и чего я боюся в моем художнике. Пожалуй, и он, по примеру всемирных гениев, закабалит свою нежную, восприимчивую душу какому-нибудь сатане в юбке. И хорошо еще, если он, подобно Сократу и Пуссену, шуточкой отделается от домашней сатаны и пойдет своею дорогой, а в противном случае — _прощай, искусство и наука, прощай, поэзия и все очаровательное в жизни, прощай навеки. Сосуд разбит, драгоценное миро пролито и с грязью смешано, а лучезарный светильник мирной артистической жизни погас от ядовитого дыхания домашней медяницы. О, если бы могли эти светочи мира обойтись без семейного счастия, как бы прекрасно было! Сколько бы великих произведений не потонуло в этом домашнем омуте, а остались бы на земле в назидание и наслаждение человечеству. Но, увы! и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходим. Это, верно, потому, что для души, чувствующей и любящей все возвышенно-прекрасное в природе и в искусстве, после высокого наслаждения этой обаятельной гармонией необходим душевный отдых. А сладкий этот успокоитель утомленного сердца может существовать только в кругу детей и доброй, любящей жены. Блажен! стократ блажен тот человек и тот художник, чью так несправедливо называемую прозаическую жизнь осенила прекрасная муза гармонии. Его блаженство, как господний мир, необъятно.
В наблюдениях своих по делу семейного счастия я вот что заметил. Замечание мое относится вообще к людям, но в особенности к вдохновенным поклонникам всего благого и прекрасного в природе. Они-то, бедные, и бывают тяжкою жертвою своего обожаемого идола — красоты. И их винить нельзя, потому что красота вообще, а красота женщины в особенности, действует на них всесокрушительно. Иначе и быть не может. А это-то и есть мутный, всеотравляющий источник всего прекрасного и великого в жизни.
— Как так? — закричат неистовые юноши. — Красавица богом созданная для того только, чтоб услаждать нашу исполненную слез и треволнений жизнь.
Правда. Назначение ее от бога такое. Да она-то или, лучше сказать, мы ухитрилися изменить ее высокое божественное назначение. И сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство поглотило все другие прекрасные чувства. Это эгоизм, порожденный сознанием собственной всесокрушающей красоты. Мы еще в детстве дали ей почувствовать, что она будущая раздирательница и зажигательница сердец наших. Правда, мы ей только намекнули, но она так это быстро смекнула, так глубоко поняла и почувствовала эту будущую силу, что с того же рокового дня сделалася невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты; зеркало сделалося единственным спутником ее жалкой одинокой жизни. Ее не может переменить никакое воспитание в мире. Так глубоко упало случайно брошенное нами зерно себялюбия и неизлечимого кокетства.
Таков результат моих наблюдений над красавицами вообще, а над привилегированными красавицами в особенности. Привилегированная красавица ничем не может быть, кроме красавицы. Ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица, и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева.
Вот почему я и советую любоваться этими прекрасными статуями издали, но никак с ними не сближаться, а тем более не жениться, в особенности художникам и вообще людям, посвятившим себя науке или искусству. Если необходима красавица художнику для его любимого искусства, для этого есть натурщицы, танцовщицы и прочие мастерицы цеховые. А в доме ему, как и простому смертному, необходима добрая, любящая женщина, но никак не привилегированная красавица. Она, привилегированная красавица, на одно только мгновение осветит яркими, ослепительными лучами радости мирную обитель любимца божия; а потом, как от мелькнувшего метеора, так от этой мгновенной радости и следа не останется. Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и древний кумир, прекрасная мраморная статуя, и ничего больше.
"Не всякое слово в строку", — говорит наша пословица, бывают же исключения и между красавицами: природа бесконечно разнообразна. Я глубоко верую в это исключение, но верю, как в самое необыкновенное явление; потому я так осторожен, в своем веровании, что проживя уже между порядочными людьми с лишком полвека, а такого чудного явления не случилось мне видеть. А нельзя сказать, чтобы я принадлежал к числу мизантропов или к числу беспардонных хулителей всего прекрасного. Напротив, я самый неистовый поклонник прекрасного как в самой природе, так и в божественном искусстве.
Недавно со мною вот что случилось. Далеко, очень далеко от порядочного или цивилизованного общества, в захолустье, почти необитаемом, досталось мне случайно прозябать довольно не короткое время. И в это самое захолустье залетела, только не случайно, светская красавица, — такою, по крайней мере, она впоследствии сама себя называла. Вот я знакомлюсь, а я, нужно вам заметить, на знакомства не очень туг. Знакомлюсь, наблюдаю новую знакомку-красавицу, и — о чудо из чудес! Ни тени сходства с прежде виденными мною красавицами. "Не одичал ли я в этой пустыне?" — думаю себе. Нет, во всех отношениях прекрасная женщина. И умная, и скромная, и даже начитанная, и, что называется, ни тени кокетства. Мне совестно самому стало моей наблюдательности, и я всякую недоверчивость в сторону и делаюся не то что поклонником, — это ремесло мне не далось, — а делаюся добрым, искренним приятелем. Не знаю за что, но и я ей понравился, и мы сделались почти друзьями. Я не навосхищаюсь моим открытием, так даже, что в старом сердце пошевелилось больше обыкновенной простой привязанности: чуть-чуть было не сыграл роль водевильного старого дурака. Случай спас. И самый обыкновенный случай. Однажды поутру, — я был принят ими в доме как свой, так что они меня часто на утренний чай приглашали, — так однажды поутру я заметил у нее под самым затылком в мелкие косочки заплетенные волосы. Мне это открытие не понравилось. Я прежде думал, что у нее естественно завиваются волосы на затылке, а это вот что. И это-то самое открытие остановило меня к признанию в любви. Я снова стал простым добрым приятелем. Почти ежедневно разговаривая о литературе, музыке и прочих искусствах, с образованной женщиной совестно же сплетничать. В этих разговорах я заметил, и то уже на другой год, что она весьма поверхностна и о прекрасном в искусстве или в природе говорит довольно равнодушно. Это немного. поколебало мою веру. Далее. Нет на свете на немецком и русском языке такой книги, которой бы она не читала, и ни одной не помнит. Я спросил причину. Она сослалася на какую-то женскую болезнь, которая отшибла у нее память еще в девицах. Я простодушно поверил. Только замечаю: какие-нибудь пошленькие стишки, читанные ею еще в девицах, она и теперь читает наизусть. После этого мне стало совестно говорить с нею о литературе. А после этого вскоре я заметил, что у них ни одной книжки в доме, окроме памятной на текущий год. По вечерам зимою она играла в карты, если собиралась партия, но это из приличия, а того и не замечал, что она была ужасно не в духе, ежели ей не удавалось составить партию. У нее сейчас же начинала страшно голова болеть. Если же партия собиралась у мужа, то она как ни в чем не бывало садилась около стола и смотрела в карты игроков, как бы в свои собственные карты, и это милое занятие часто продолжалось у нее далеко за полночь. _Я,_ как только начиналась эта бездушная сцена, сейчас же уходил на улицу. Отвратительно видеть молодую прекрасную женщину за таким бесчувственным занятием. Я тогда совершенно разочаровывался; и она казалась мне тогда полипом, или, вернее, настоящей привилегированной красавицей.
И если бы продлилось ее уединение еще год-другой в этом темном углу без кровожадных обожателей, т. е. без львов и онагров, я уверен, что она бы одурела или сделалась бы настоящей идиоткой. Состояния полуидиотки она уже достигла. А я-то, я-то, простофиля! Вообразил себе, что вот, наконец, открыл Эльдорадо[136]. А это Эльдорадо — просто деревянная кукла, на которую я впоследствии не мог смотреть без отвращения.
Прочитывая эту грозную сентенцию красавицам, иной подумает, что я второй Буонарроти в этом роде. Ничего не бывало. Такой же самый поклонник, как и любой из леопардов, а может быть, еще и неукротимее. А дело в том, что люблю открывать мои убеждения во всей их наготе, несмотря на чин и звание. Притом же я это делаю теперь собственно для друга моего художника, а не с намерением печатать свое мнение о красавицах. Боже меня сохрани от этой глупости. Да меня тогда сестра родная готова б была повесить на первой осине, как Иуду-предателя. Впрочем, она не красавица, ее нечего опасаться.
Где же начало этого зла? А вот где: начало в воспитании. Если нежных родителей бог благословит красавицей дочечкой, они сами начинают ее портить, предпочитая ее другим детям. А о образовании своей любимицы они вот что думают и даже говорят: "Зачем напрасно убивать дитя над пустою книгою? Она и без книги и даже без приданого сделает себе блестящую карьеру". И красавица действительно делает блестящую карьеру. Предсказание родителей сбылось, чего же больше? Это начало зла. А продолжение (я, впрочем, не уверяю, а только предполагаю), продолжение вот где.
Наше любезное славянское племя хотя и причисляется к семейству кавказскому, но наружностию своею немногим взяло перед племенами финским и монгольским, Следовательно, у нас красавица — явление весьма редкое. И это редкое явление едва только из пеленок, мы начинаем его набивать своими нелепыми восторгами, себялюбием и прочею дрянью. И, наконец, делаем из нее деревянную куклу на шарнирах, наподобие той, какую живописцы употребляют для драпировок.
В странах, которые бог благословил породою прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами. А обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина.
К чему же это я развел такую длинную рацею о раздирательницах сердец человеческих, в том числе и моего? Кажется, в назидание моему другу. Но я думаю, что это наставление будет для него совершенно лишнее. Да и весталка его, сколько мог я заключить из его описаний, едва ли способна залезть поглубже в сердце художника, который так прекрасно чувствует и понимает все возвышенно-прекрасное в природе, как мой приятель. Это должна быть быстроглазая, курносенькая плутовка, вроде швеи или бойкой горничной. А подобные субъекты не редкость, и они совершенно безопасны.
А вот такие субъекты, как ее шелковая тетушка, они тоже нередки, но чрезвычайно опасны. Тетушка ее, хотя, и сладко он ее описывает, напоминает мне гоголевскую сваху, которая отвечает на вопрос искателя невесты, оженит ли она его? "Ох, оженю, голубчик! Да так ловко, что и не услышишь". Приятель мой, разумеется, не _имеет ничего общего с гоголевским героем, и в этом отношении я за него почти не опасаюсь. Огонь первой любви хотя и жарче, но зато и короче. Но опять, как подумаю, нельзя и не опасаться, потому что эти удивительные браки без услышанья очень часто случаются не только с умными, но даже с осторожными людьми.
А в друге моем я большой осторожности не предполагаю. Эта добродетель не художника. На всякий случай я написал ему письмо, разумеется, не назидательное (боже меня сохрани от этих назидательных посланий). Я написал ему дружески-откровенно, чего я опасаюсь и чего он должен опасаться. Указал ему без церемонии на милую тетеньку, как на самую главную и самую опасную западню. На письмо мое я не получил, однако ж, ответа: вероятно, оно ему не понравилось. А это худой знак. А впрочем, в продолжение лета он был занят программой, так немудрено, что мог и забыть о моем письме.
Прошло лето, прошел сентябрь и октябрь месяц, приятель мой ни слова. Читаю в "Пчеле"[137] разбор выставки, бойко написанный, должно быть, Кукольником. «Весталку» моего друга превозносят до небес, а о программе ни слова. Что бы это значило.? Неужели она ему не удалась? Я написал ему еще письмо, прося его объяснить мне свое упорное молчание, о программе и вообще о его занятиях не упоминая ни слова, зная из опыта, как неприятно отвечать на приятельский вопрос: каково идет работа? — когда работа идет скверно. Через месяца два получил я на письмо мое ответ. Ответ лаконический и крайне бестолковый. Он как бы стыдился или боялся высказать мне откровенно то, что его терзало, а его что-то ужасно терзало. Между прочим, в письме своем он намекает на какую-то неудачу (вероятно, на программу), которая его чуть в гроб не свела. И если он существует на свете, то существованием своим он обязан добрым своим соседям, которые в нем приняли самое живое, самое искреннее участие; что он теперь почти ничего не работает, страдает и душевно, и физически и не знает, чем все это кончится.
На все это я смотрел, — разумеется, как на преувеличение. Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из мухи слона. Мне хотелося узнать что-нибудь обстоятельнее о его положении. Меня что-то беспокоило. Но как, от кого? От самого его я толку не добьюся. Я обратился к Михайлову, прося его написать мне все, что он знает о моем друге. Обязательный Михайлов не заставил долго ждать своего оригинального и откровенного послания. Вот что написал мне Михайлов:
"Друг твой, брат, дурак. Да еще какой дурак. От сотворения мира не было еще такого необыкновенного дурака. Ему, видишь ли, не удалась программа; что же он сделал с отчаяния? Вот уже не отгадаешь: женился. Ей-богу, женился. И знаешь на ком? На своей весталке! Да еще на беременной. Вот потеха! Беременная весталка. И, как он сам говорит, беременность именно и заставила его жениться. Но не думай, чтобы он сам был причиной этого греха. Ничего не бывало. Это бестия мичман напакостил. Она сама созналась. Молодец мичман! Накуралесил да и уехал себе в Николаев как ни в чем не бывало. А твой-то великодушный дурак и — бух, как кур во щи. Куда, говорит, она теперь денется? Кто ее приютит теперь, бедную, когда родная тетка выгоняет из дому? Взял да и приютил. Ну, скажи сам, видал ли ты подобного дурака на белом свете? Верно, и не слыхал даже. Правду сказать, беспримерное великодушие. Или, вернее, беспримерная глупость. Это все еще ничего. А вот что до бесконечности смешно. Он написал с нее свою «Весталку», с беременной. Да как написал! Просто прелесть. Такого, такой наивно-невинной прелести я еще не видывал ни на картине, ни в природе. На выставке толпа от нее не отходила. Она сделала в публике такой шум, как, помнишь, когда-то сделала "Девушка с тамбурином" Тыранова[138]. Превосходная вещь! Сам Карл Павлович перед нею много раз останавливался. А это что-нибудь да значит. Ее купил какой-то богатый вельможа и хорошо заплатил. Копий и литографий с нее — во всех лавках и на всех перекрестках. Одним словом, успех полный. А он, дурак, женился. На днях я заходил к нему и нашел в нем какую-то неприятную перемену. Тетушка, кажется, его прибрала к рукам. У Карла Павловича он никогда не бывает. Вероятно, стыдится. Начал он с своей жены и не с своего дитяти мадонну с предвечным младенцем. И если он кончит так хорошо, как начал, то это превзойдет «Весталку». Экспрессия младенца и матери удивительно хороша. Как это ему не удалась программа, я удивляюсь. Не знаю, допустят ли его, как женатого, будущий год к конкурсу. Кажется, нет. Вот все, что я могу тебе сообщить о твоем бестолковом друге. Прощай. Карл Павлович наш не совсем здоров; весною думает начать работать в Исакиевском соборе.
Твой М."_
Невыразимая грусть овладела мною по прочтении этого простого приятельского письма. Блестящую будущность моего любимца, моего друга я видел уже оконченною, оконченною на самом рассвете лучезарной славы. Но помочь горю уже было невозможно. Как человек, он поступил неблагоразумно, но в высокой степени благородно. Будь он простой живописец-ремесленник, это событие не имело бы на его занятия никакого влияния. Но на него, на художника, на художника истинно пламенного, это может иметь самое гибельное влияние. Потерять надежду быть посланным за границу на казенный счет — этого одного достаточно, чтобы уничтожить самую сильную энергию. На свой счет побывать за границей — об этом ему теперь и думать нечего. Если усиленный труд и даст ему средства, то жена и дети отнимут у него эти бедные средства прежде, нежели он подумает о Риме и его бессмертных чудесах.
Итак,
Италия, счастливый край,
Куда в волшебном упоеньи
Летит младое вдохновенье
Узреть мечтательный свой рай,
этот счастливый, очаровательный край закрылся для моего друга навсегда. Разве какой необыкновенный случай раскроет ему двери этого не мечтательного рая. Но эти случаи весьма и весьма даже редки. У нас перевелися те истинные покровители, которые давали художнику деньги, чтобы он ехал за границу и учился. У нас теперь если и рискнет какой-нибудь богач на подобную роскошь, то из одного только детского тщеславия. Он берет художника с собою вместе за границу, платит ему жалованье, как наемному лакею, и обращается с ним, как с лакеем, заставляет его рисовать отель, где он остановился, или морской берег, где жена его принимает морские ванны, и тому подобные весьма нехудожественные предметы. А простофили барабанят: "Вот истинный любитель и знаток изящного, художника с собою возил за границу!" Бедный художник! Что в твоей кроткой душе совершается при этих неистовых глупых возгласах? Не завидую тебе, бедный поклонник прекрасного в природе и искусстве. Ты, как говорится, был в Риме и папы не видал. И слава, что ты был за границею, тебе должна казаться жесточайшим упреком. Нет, лучше с котомкой идти за границу, нежели с барином ехать в карете. Или вовсе отказаться видеть
Мечтательный свой рай,
а приютиться где-нибудь в уголку своего прозаического отечества и втихомолку поклоняться божественному кумиру Аполлона.
Глупо, удивительно как глупо распорядился своею будущностию мой приятель. Вот уже недели две, как я ежедневно прочитываю откровенное письмо Михайлова и все-таки не могу убедиться в истине этой непростительной глупости. До того не верится, что мне приходит иногда мысль побывать самому в Петербурге и собственными глазами увидеть эту отвратительную истину. Если бы это было каникулярное время, я и не задумался бы. Но, к несчастию, теперь учебные месяцы. Следовательно, отлучка если и возможна, то только двадцативосьмидневная. А в половину этих дней что я могу сделать для него? Ровно ничего, увижу разве только то, чего бы не желал и во сне видеть. Подумавши хорошенько и оправившись от первого впечатления, я решился ждать, что скажет старый Сатурн[139]. А между тем завести постоянную переписку с Михайловым. На его письма я потерял надежду. А надежда на письма Михайлова совершенно не сбылася. Рассчитывая на Михайлова, я упустил из виду, что этот человек менее всего способен к постоянной переписке. И если я получил от него ответ на мое письмо, и так скоро, как и не ожидал, то я должен был считать это осьмым чудом. И по одному письму никак не должно было рассчитывать на постоянную переписку. Делать нечего, ошибся. Да и кто же не ошибается? Сгоряча я написал ему несколько писем. И в ответ не получил ни одного. Это меня не остановило. Я — еще, и чем далее, тем чувствительнее. В ответ ни слова. Наконец я вышел из себя и написал ему грубое и самое недлинное письмо. Это подействовало на Михайлова, и он прислал мне ответ такого содержания:
"Удивляюся, как у тебя хватает терпения, время и, наконец, бумаги на твои уморительные, чтоб не сказать глупые, письма. И о ком ты пишешь? О дураке. Стоит ли он того, чтобы о нем думать, не только писать, да еще такие уморительные письма, как ты пишешь? Плюнь ты на него, — пропавший человек, ничего больше. А чтобы тебя утешить, то я вот еще что прибавлю. Он вместе с женою и мамашею, как он ее величает, начал тянуть проволоку, т. е. принялся за сивуху. Сначала он повторял все свою «Весталку», и повторял до того, что и на толкучем перестали брать его копии. Потом принялся раскрашивать литографии для магазинов, а теперь не знаю, что он делает. Вероятно, пишет портреты по цалковому с рыла. Его никто не видит. Забился где-то в Двадцатую линию. В угоду твою я пошел его отыскивать на прошлой неделе. Насилу нашел его квартиру у самого Смоленского кладбища. Самого его не застал дома. Жена сказала, что на сеанс ушел к какому-то чиновнику. Полюбовался его неоконченной «Мадонной». И знаешь ли, мне как-то грустно стало. За что, подумаешь, пропал человек? Не дождавшися его самого, я ушел и с хозяйкой не простился — мне она показалась отвратительною.
Карл Павлович, несмотря на болезнь, начал работать в Исакиевском соборе. Доктора советуют ему оставить работу до будущего года и уехать на лето за границу. Но ему не хочется расставаться с начатой работой. Что ты не приедешь хоть на короткое время в Питер, хоть только взглянуть на чудеса нашего чудотворца Карла Павловича? Да и своим бы дураком полюбовался. Ты, кажется, тоже женился, только не признаешься. Не пиши ко мне, отвечать не буду. Прощай.
Твой М."_
Боже мой! Неужели одна-единственная причина, эта несчастная женитьба, могла так внезапно, так быстро уничтожить гениального юношу! Другой причины не было. Печальная женитьба!
С нетерпением ожидал я каникул. Наконец экзамены кончились. Я взял отпуск и марш в Петербург. Карла Павловича я уже не застал в Петербурге. Он, по совету врачей, оставил работу и уехал на остров Мадеру[140]. С большим трудом нашел я Михайлова. Этот оригинал никогда не имел своей постоянной квартиры, а жил как птица небесная. Я встретил его на улице об руку с удалым мичманом, теперь уже лейтенантом. Не знаю, каким родом он очутился снова в Петербурге. Я не мог смотреть на этого человека. Поздоровавшись с Михайловым, я отвел его в сторону и начал спрашивать адрес моего приятеля. Михайлов сначала захохотал, а потом, едва удерживая смех, он обратился к мичману и сказал: "Знаешь ли, чью квартиру он спрашивает? Своего любимца N. N.". И Михайлов снова захохотал. Мичман ему вторил, но неискренно. Михайлов бесил меня своим неуместным смехом. Наконец он опомнился и сказал мне: "Твой друг живет теперь в самой теплой квартире. На седьмой версте. Его, видишь ли. не допустили к конкурсу, так он, недолго думавши, спятил с ума, да и марш в теплое место. Не знаю, жив ли он теперь? "
Я, не простясь с Михайловым, взял извозчика и отправился в больницу Всех скорбящих. Меня к больному не пустили, потому что он был в припадке бешенства. На другой день я его увидел, и если б не сказал мне смотритель, что N такой-то — художник N. N., то сам бы я никогда его не узнал. Так страшно изменило его безумие. Он меня, разумеется, тоже не узнал. Принял меня за какого-то римлянина с рисунка Пинелли[141]. Захохотал и отошел от решетчатых дверей.
Боже мой, какое грустное явление — обезображенный безумием человек! Я не мог и несколько минут пробыть зрителем этого печального образа. Простился с смотрителем и возвратился в город. Но несчастный друг мой не давал мне нигде покоя. Ни в Академии, ни в Эрмитаже, ни в театре, словом, нигде. Его страшный образ везде преследовал меня. И только ежедневное посещение больницы Всех скорбящих мало-помалу уничтожило первое ужасное впечатление.
Бешенство его с каждым днем становилось слабее и слабее. Зато и силы физические быстро исчезали. Наконец он уже не мог подняться с кровати, и я свободно мог входить к нему в комнату. По временам он как будто приходил в себя, но все еще меня не узнавал. Однажды я приехал поутру рано. Утренние часы были для него легче. Застал я его совершенно спокойного, но так слабого, что он не мог рукою пошевелить. Долго он смотрел на меня, как будто что-то припоминая. После долгого задумчивого, умного взгляда он едва слышно произнес мое имя. И слезы ручьями хлынули из его просветлевших очей. Тихий плач перешел в рыдание, в такое душу терзающее рыдание, что я и не видел, и дай господи не видеть никогда так страшно рыдающего человека.
Я хотел его оставить, но он знаками остановил меня. Я остался. Он протянул руку; я взял его за руку и сел около него. Рыдания мало-помалу утихли, катилися одни крупные слезы из-под опущенных ресниц. Еще несколько минут — и он совершенно успокоился и задремал. Я потихоньку освободил свою руку и вышел из комнаты в полной надежде на его выздоровление. На другой день, также рано поутру, приезжай я в больницу и спрашиваю попавшегося мне навстречу его сторожа:
— Каков мой больной?
И сторож мне ответил:
— Больной ваш, ваше благородие, уже в покойницкой. Вчера как уснул поутру, так и не проснулся.
После похорон я оставался несколько дней в Петербурге, сам не знаю для чего. В один из этих дней встретился мне Михайлов. После рассказа о том, как он провожал вчера мичмана в Николаев и как они кутнули на Средней рогатке, речь зашла о покойнике, о его вдове и, наконец, о его неоконченной «Мадонне». Я просил Михайлова проводить меня на квартиру \вдовы, на что он охотно согласился, потому что ему самому хотелося еще раз посмотреть на неоконченную «Мадонну». В квартире покойника мы ничего не встретили, что бы свидетельствовало о пребывании здесь когда-то художника, окроме палитры с засохшими красками, которая теперь заменяла разбитое стекло. Я спросил о «Мадонне». Хозяйка не поняла меня. Михайлов растолковал ей, чтобы она показала нам ту картину, которую когда-то смотрел он у них. Она ввела нас в другую комнату, и мы увидели «Мадонну», служившую заплатой старым ширмам. Я предложил ей десять рублей за картину. Она охотно согласилась. Я свернул в трубку свое драгоценное приобретение, и мы оставили утешенную десятью рублями вдову.
На другой день я простился с моими знакомыми и, кажется, навсегда оставил Северную Пальмиру. Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме[142].
4 октября 1856
НАЙМИЧКА
Повесть написана в 1851–1852 годах в Новопетровском укреплении. Авторская дата — «25 февраля 1844. Переяслав» поставлена для того, чтобы ввести в заблуждение царскую цензуру.
Ч е п и г а — украинское народное название созвездия Орион.
Волосожар — украинское народное название созвездия Плеяд; состоит из шести ярких звезд и 200 более слабых.
Ромодановский Григорий Григорьевич (умер в 1682 г.) — боярин, в 1654–1656 гг. — воевода русских войск, посланных для поддержки левобережных гетманов. В повести дата похода не точна.
Дорошенко — гетман Правобережной Украины, деятельность которого была враждебна интересам украинского народа.
Ходаковский — Зориан Доленга-Ходаковский (настоящее имя Адам Черноцкий, 1784–1825), польский демократический деятель, этнограф, археолог, фольклорист, активно собирал украинский фольклор, в частности — песни.
Церера — в древнеримской мифологии — богиня, покровительница земледелия.
Мария Египетская — библейский персонаж, раскаявшаяся грешница, которая стала приверженицей христианского вероучения.
Бель ф а м
Патефруа
«И с а и я, ликуй» — песня, исполнявшаяся во время церковного венчания.
Сердечная О к с а н а — героиня повести «Сердешна Оксана» Г. Ф. Квитки-Основьяненко (1778–1843).
Кобыла — скамья, на которой пороли людей.
Мать Энея — Венера, богиня любви и красоты в древнеримской мифологии.
Богиня Пафоса — Венера, храм которой находился в городе Пафосе на острове Кипр.
Фортуна коловратная — случай, удача или неудача.
Кесарево кесареви — здесь старинная пословица императорово — императору употреблена иносказательно — т. е. будем заниматься обычными делами.
МУЗЫКАНТ
Повесть написана в 1854–1855 годах в Новопетровском укреплении. Первое прозаическое произведение, в котором Шевченко обратился к теме крепостного интеллигента. Судьба главного героя Тараса была особенно близка автору, в ней отразились его личные переживания.
Киевская археографическая комиссия — занималась собиранием и публикацией старинных документов и археологическими исследованиями. В конце 1845 года Т. Г. Шевченко начал работать в комиссии, по ее поручению ездил по Украине и рисовал памятники старины.
Штернберг Василий Иванович (1818–1845) — художник, друг Шевченко.
Бельведер
Амазонки и амазоны — в повести Шевченко это всадницы и всадники.
Виргилий — римский поэт, герой «Божественной комедии» Данте; Шевченко называет этим именем своего героя, сопровождающего его в поездке.
Марш из «Вильгельма Теля» — опера итальянского композитора Россини (1792–1862).
Сенклерское аббатство — место действия романа «Лес, или Сен-Клерское аббатство» английской писательницы Анны Радклиф (1764–1823).
Икона иржавецкой божьей матери — казацкая икона,
считавшаяся «чудотворной», хранилась в селе Иржавец.
Золотаренко Иван Никифоров и ч (умер в 1655 г.) — нежинский полковник, соратник Богдана Хмельницкого; в 1654–1655 гг. — наказной (походный) гетман казацкого войска.
Персия — древнее название Ирана. Персепол (Персеполис) — древняя столица Персии.
Амфитрион — персонаж древнегреческой мифологии, в переносном значении — гостеприимный хозяин.
Гроссфатер
Гольбейн Ганс (1465–1543) — немецкий художник.
Нимфы — в древнегреческой мифологии — второстепенные богини, олицетворяющие силы природы.
А к т е о н — пастух — персонаж древнегреческой мифологии; был превращен богиней Артемидой в оленя.
П р о с п е р о — персонаж пьесы «Буря» Шекспира (1564–1616).
Шпор Людвиг (1784–1859) — немецкий композитор.
Мендельсон Б а р то л ьд и — Ф ел и кс (1809–1847) — немецкий композитор.
Серве Андриен-Франсуа (1807–1866) — виолончелист и композитор. Шевченко слушал его игру в Петербурге.
Вебер Карл-Мария (1786–1826) — немецкий композитор. «Пре- циоза» — одна из его опер.
Миннезингеры — немецкие ііридворньїе поэты-певцы в эпоху средневековья.
«Н о р м а» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835).
Орфей — мифический древнегреческий певец.
Качуча — испанский народный танец.
Томагаук — оружие индейцев Северной Америки.
Соломон — еврейский царь X столетия до нашей эры. Легенды приписывают ему особую мудрость.
Меценат — имя древнеримского вельможи; сделалось нарицательным для богатых покровителей искусств.
Автомедон — образ античной мифологии, проводник, кучер.
Буонарроти Микеланджело (1475–1564) — великий итальянский художник, скульптор и архитектор.
Одалиска — рабыня или прислужница.
Лист Ференц (1811–1886) — венгерский композитор и пианист. Гастролировал в России. Шевченко, вероятно, был на его концертах.
Плакатные билеты — паспорта, которые выдавались крепостным, отпускаемым на заработки.
Гайдн Иосиф — (1732–1809) — австрийский композитор.
Литовский замок — тюрьма в Петербурге.
Феб — в древнегреческой мифологии бог солнца.
Фетида — в античной мифологии богиня моря.
Bene, benissimo (лаг.) — хорошо, очень хорошо.
Фронтиспис — рисунок, отражающий наиболее характерные моменты содержания и помещенный на одном развороте с титульным листом.
Прометей — в древнегреческой мифологии — титан, подаривший людям огонь; герой поэмы Шевченко «Кавказ».
Семирамида — легендарная царица Ассирии, известна как устроительница «висячих садов» в Вавилоне и Мидии.
Клеопатра (69–30 гг. до нашей эры) — последняя царица из династии Птоломеев в Египте. Ее образ нашел широкое отражение в литературе и искусстве.
Партитура Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь»- вступление к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
БЛИЗНЕЦЫ
Повесть написана в Новопетровском укреплении в 1855 году. Основная тема — роль общественной среды для формирования сознания человека, начиная с детских лет. Ряд эпизодов и картин имеют автобиографическую основу; жизнь Савватия Сокиры в Оренбурге, его путешествие в Орскую крепость и Раим, описание пожара в степи и др.
Письмовник знаменитого Курганова — «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка…». Курганов Николай Гаврилович (1726–1796) — русский просветитель, педагог. В «Письмовнике», кроме грамматики русского языка, содержались поговорки, притчи, стихи.
Учение Зороастрово — Зороастр, пророк и реформатор древнеперсидской религии, более известен как Заратуштра.
М и т а в а — современное название Елгавы — город в Латвии.
Киевский «Каноникgt; — книжка богослужебных канонов (правил), установленных высшей церковной православной властью.
Святополк (прибл. 980—1019) — старший сын великого князя Владимира Святославовича. Став киевским князем, приказал убить своих
младших братьев Бориса и Глеба.
Конисский — речь идет о книге «История руссов», автором которой Т. Шевченко, как и другие его современники, ошибочно считали Георгия Конисского, украинского писателя и церковного деятеля (1717–1795).
Тарасова ночь — ночь разгрома войск польской шляхты восставшими крестьянами и казаками во главе с Тарасом Федоровичем 25 мая 1630 года. Эту победу Т. Шевченко воспел в поэме «Тарасова ніч». Год битвы указан в повести неточно.
Читал Давида, Гомера и Гораци я… — т. е. знал языки древнееврейский, греческий и латынь.
Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) — украинский и русский композитор, автор опер, духовных композиций, камерно-вокальных и др. произведений. Шевченко ошибочно считал его воспитанником Киевской духовной академии.
Охочекомонное и охочепешее ополчение — добровольцы кавалеристы и пехотинцы.
Зубастый французский зверь — Наполеон I.
«Г е о р г и к и» — поэма римского поэта Вергилия (70–19 гг. до нашей эры), автора «Энеиды»..
«Украинский в е с т н и к» — журнал, издававшийся с 1816 по 1819 год в Харькове. Ода Горация в свободном переложении П. П. Гулака- Артемовского «До Пархома» была опубликована позже.
Диоген (404–323 до н. э.) — древнегреческий философ, который пренебрегал удобствами быта и жил в бочке.
Шаховской Александр Александрович — русский писатель, автор пьесы «Казак-стихотворец», в которой герои разговаривают на ломаном украинском языке.
Ессе homo!
Шиллер Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт и драматург.
Коцебу Август-Фридрих (1761–1819) — немецкий реакционный драматург.
Тит Ли вий — древнеримский историк (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.).
Матах
Чека
Грозный пугач — Пугачев Емельян.
«Содом и Г о м о р а» Мартена — иллюстрация к библии английского художника.
Аксакалы
К а м е д у л
Кантонисты — солдатские дети, которых чаще всего также отдавали в солдаты.
«Письма из-за границы» («Письма русского путешественника») Николая Михайловича Карамзина (1766–1826).
Геродот — древнегреческий историк V ст. до нашей эры.
«Киевский патерик» — сборник житий святых, составленный в XIII веке в Киево-Печерской лавре.
Один — бог древних германцев.
Гайдн Йозеф (1732–1809) — австрийский композитор.
(Давид Копперфильд» — роман английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870).
«Современник» — журнал, основанный в 1836 году А. С. Пушкиным, позже его редакторами были Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский.
ПРИМIТКИ
1. _Усатое сословие — _вiйськовi. В часи Миколи I цивiльним чиновникам вуси носити було заборонено.
2. _"Письмовник" знаменитого Курганова — _популярний у XVIII столiттi збiрник правил усної i письмової мови, анекдотiв, оповiдань i т. п., складений Миколою Гавриловичем Курганови. м (1726 — 1796).
3. _Учение Зороастрово — _Зороастр (Заратустра) — мiфiчний пророк, реформатор релiгiї стародавнiх персiв.
4 _"К. люч к таинствам природы" Эккартсгаузена — _мiстичний твiр нiмецького автора Карла Еккартсгаузена (1752 — 1803).
5. _Егоров, Алексей Егорович_ (1776 — 1851) — художник-академiк, чудовий педагог.
6. _Гребенка — _Гребiнка, Євген Павлович (1812 — 1848) — український письменник, близький знайомий Шевченка.
7. _Сказка о Еруслане Лазаревиче — _популярна лубочна казка.
8. _Каноник — _тут церковна книга.
9. _Дюма_ — Дюма Олександр (1803 — 1870), французький письменник, автор популярних романiв "Три мушкетери", "Граф Монте-Крiсто" та iн.
10. _Тарасова ночь — _розгром вiйськ польської шляхти гетьмана Конєцпольського 22 травня 1630 року повстанцями-селянами Приднiпров'я, на чолi з гетьманом Тарасом Федоровичем.
11. _Геральдический дуб — _т. зв. "родословие дерево", родовiд.
12. _Император Петр III — _царював в Росiї в pp. 1761 — 1762; походженням був нiмець iз Голштiнiї.
13. _Портупей-майор — _старовинний вiйськовий чин.
14. _Иван Леванда — _церковний оратор (1736 — 1814).
15. _Великий Запорожский Луг — _низина лiвобережжя Днiпра, нижче порогiв, вкрита озерами та чагарниками; тут запорожцi рибалили й полювали.
16. _Генерал Текелий — _генерал, пiд керуванням якого вiйсько Катерини II захопило Запорозьку Сiч в 1775 р.
17. _Читал Давида, Гомера и Горация — _тобто знав мови староєврейську, класичну грецьку i латинську. Давидовi приписувалося складання так званого «Псалтиря»; Гомеровi — епiчнi поеми «Iлiада» i «Одiссея». Горацiй (65 — 8 pp. до н. е.) — римський поет, вiдомий своїми одами.
18_. Бортнянский, Дмитрий Степанович_ (1751 — 1825) — композитор. З 1779 року був "директором вокальної музики i управителем придворної царської капели". Автор багатьох церковним музичних творiв i деяких свiтських опер.
19. _Охочекомонное и охочепешее ополчение — _ополчення, що складалося з добровольцiв — кавалеристiв i пiхотинцiв.
20. _На супротивного галла — _проти французiв, мобiлiзованих Наполеоном для доходу на Росiю.
21. _Зубастого французского зверя… — _мова йде про Наполеона I.
22. _А песен-то, песен каких восхитительных. — _Далi перераховуються сентиментальнi пiснi, що були в модi на початку XIX столiття: "Стонет сизый голубочек" (слова I. Дмитрiєва, 1760 — 1837) "Среди долины ровныя" (слова О. Мерзлякова, 1778 — 1830) i iн.
23. _Прокопович, Петр Иванович_ (1775 — 1850) — органiзатор першої в Росiї школи бджiльництва, автор книги "Школа пчеловождения" та iн.
24. _Виргилиевы «Георгики» — _поема про сiльське господарство римського поета Вiргiлiя (70 — 19 pp. до_ _н. е. _),_ автора "Енеїди".
25. _Биронов брат — _брат временщика за царювання Анни Iоаннiвни (1730 — 1740), нiмця Бiрона — генерала росiйської армiї. Карл Бiрон вiдзначався своєю жорстокiстю.
26. _"Украинский вестник" — _журнал, що видавався з 1816 по 1819 р. у Харковi.
27 _Гулак-Артемовский, Петр Петрович_ (1790 — 1865) — український поет, вiдомий також переробками од римського поета Горацiя ("Гараськовi оди", "До Пархома" I i II).
28. _Эллиниста и гебраиста — _знавця мов грецької та староєврейської.
29. _Диоген наших дней — _Дiоген (404 — 323 pp. до н. е.) старогрецький фiлософ, який нехтував вигодами життя. Жив у бочцi.
30. _Князь Шаховской, Александр Александрович_ (1777 — 1846) росiйський письменник початку XIX ст., автор п'єси «Казак-стихотворец» (1817), в якiй дiйовi особи говорять ламаною українською мовою.
31. _В знамение взятия Азова — _1696 року росiйське вiйсько, до складу якого входили i українськi частини, здобуло у туркiв Азов.
32. _Матвеев. Андрей Моисеевич_ (1701 — 1739) — росiйський художник-портретист.
33. _Разрушенный Батурин — _1708 року росiйське вiйсько пiд керуванням Меншикова здобуло i зруйнувало столицю Мазепи Батурин.
34. _Кой что из Шиллера — _Шiллер, Фрiдрiх (1769 — 1805) — нiмецький поет.
35. _Коцебу, Август-Фридрих_ (1761 — 1819) — другорядний нiмецький письменник-драматург.
36. _"Жизнь коротка, а наука вечна" — _дещо змiненi слова Мефiстофеля з росiйського перекладу трагедiї «Фауст» Гете (1749 — 1S32), зробленого Е. Губером (1814 — 1847).
37. _Тит Ливий — _староримський iсторик (59 р. до н. е. — 17 р. н. _ _е_.), _ автор великої працi про iсторiю Рима.
38. _Феодальный дукат — _герцог або iнша знатна особа рицарського стану.
39. _Знаменитый пьяница Радзивилл — _Шевченко має на увазi князя Карла Станiслава Радзiвiлла (1734 — 1790), одного з литовсько-польських магнатiв.
40. _Козак вельможа Трощинский, Дмитрий Прокопьевич _(1754 — 1829) сенатор, мiнiстр юстицiї, український помiщик.
41. _"Малороссийская Сафо" — _оповiдання кн. Шаховського, головною дiйовою особою якого є легендарна складальниця пiсень — Маруся Шурай.
42. _Великий грамматик наш Н. И. Греч_ (1787 — 1867) — росiйський реакцiйний журналiст i словесник. «Великим» Шевченко називає Греча iронiчно.
43. _Козак Климовский — _вигаданий складач пiсень у XVIII ст. (йому приписується пiсня "їхав козак за Дунай"). Саме його i зображує Шаховський в «Козаке-стихотворце».
44. _Ессе homo!_ (латин.) — Ось людина!
45. _Мажанди — _Франсуа Мажандi (1783 — 1855), французький учений-фiзiолог.
46. _Эстамп — _тут репродукцiя.
47. _"Последний день Помпеи" — _картина видатного росiйського художника К. П. Брюллова (знаходиться в Ленiнградському росiйському музеї), яка змальовує загибель мiста Помпеї (бiля Неаполя) пiд час виверження вулкана Везувiя в 79 р. н. е.
48. _"Тень Наполеона на острове св. Елены" — _лубочна картина.
49. _".Библиотека для чтения" — _журнал, що видавався з 1838 по 1865 р.
50. _"Никлас — Медвежья Лапа" — _напiвлубочний роман письменника Р. М. Зотова (1795 — 1871) "Никлас — Медвежья Лапа, атаман контрабандистов, или некоторые черты из жизни Фридриха II".
51. _"Повесть о капитане Копейкине" — _вставне оповiдання в кiнцi першої частини "Мертвых душ" Гоголя.
52. _"Сен-Жорж" — _назва ресторану за iм'я власника-француза.
53. _Тальони, Мария_ (1804 — 1884) — iталiйська балерина, що наприкiнцi 30-х рокiв з великим успiхом гастролювала в Петербурзi.
54. _Марцинкевич — _власник "увеселительного заведения" — штучних мiнеральних вод в Петербурзi з залою для танцiв.
55. _"Эда" Баратынского — _поема вiдомого росiйського поета Баратинського (1800 — 1844), подiбно до «Катерини», поеми Шевченка, i "Сердешної Оксани", повiстi Квiтки-Основ'яненка, малює сумну долю дiвчини, спокушеної, а потiм покинутої гусаром.
56. _Эллин — _грек.
57. _Вариации Липинского — _Карл Липинський (1790 — 1861) — польський скрипач, композитор i збирач народних пiсень.
58. _Оссиан — _легендарний шотландський спiвець, пiд_ _iм'ям_ _якого були виданi в Англiї в кiнцi XVIII столiття Джемсом Мак-ферсоном переробки зiбраних ним народних пiсень ("Поеми_ _Оссiана"),
59 _Мартын Пушкарь — _полковник полтавський, один з помiчникiв Богдана Хмельницького.
60. _Пенелопа — _дружина Одiссея, героя знаменитих епiчних поем античного свiту «Iлiади» й "Одiссеї" Гомера.
61. _После бесчисленных якшиолов — _якщi-ол (киргизьке) _- _вигук на бенкетi, що означає — "хай живе".
62. _Чека_ (вiрменське) — нi.
63. _У Ефрема Сирина или же у Иустина Философа — _церковнi письменники, перший — четвертого, другий — другого столiття н. е.
64. _Татищева крепость — _фортеця, пiд якою зазнало поразки вiйсько Пугачова в 1774 роцi.
65. _Грозный Пугач — _Пугачев Ємельян, керiвник повстання проти царизму селян i козакiв на Поволжi та Приураллi а 1773 — 1775 pp.
66 _Брюллов, Александр Павлович_ (1798 — 1877) — професор архiтектури, брат Карла Брюллова.
67. _"Полтавская Муха" — _очевидно, назва рукописного сатиричного журналу I. П. Котляревського.
68. _У "П. И. Вькжигина" — _"Петр Иванович Выжигин" — роман реакцiйного письменника Ф. Булгарiна (1789 — 1859), виданий в 1831 роцi.
69. До _"Четырех стран света" — _точнiше "Три страны света" — роман М. Некрасова i Станицького (псевдонiм А. Я. Панаєвої, 1819 — 1893).
_74. Подвысь! — _пiдiйми шлагбаум.
71. _Титан Флаксмана — _Джон Флаксман (1755 — 1826), англiйський художник, iлюстратор «Iлiади» й "Одiссеї" Гомера. «Титан» — назва однiєї_ _iз його картин.
72 _"Содом и Гоморра" Мартена — _Джон Мартен (1789 — 1854), англiйський художник.
73. _Аксакалы_ (казахське) — дослiвно: бiлi бороди, тут у розумiннi старiйшини, найстарiшi в роду.
74. _Камедул_ (польське) — монах.
75. _Кантонисты — _сини солдатiв, якi з дня народження прикрiплялися до вiйськового вiдомства i яких готували до вiйськової служби в спецiальних нижчих вiйськових школах, так званих шкапах кантонiстiв.
_76. Мурчисон — _англiйський геолог Родерiк Мурчiсои _(1792 — _1871), автор великої працi з геологiї європейської частини Роси.
77. _"Письма из-за границы" законодателя русского слова — _"Письма русского путешественника" Миколи Михайловича Карамзiна.
78. _"Письма из Финляндии" — _твiр росiйського поета Костянтина Миколайовича Батюшкова (1787 — 1855).
79. _Геродот — _грецький iсторик V_ _ст_._ до н. е.
80. _Богородица Одигитрия — _назва iкони (Одигитрия — грецьке слово, означає — "указывающая путь").
81. _Киевский Патерик — _збiрка легенд про київських святих, так званий "Киево-печерский Патерик", складений в ХШ столiттi, багато разiв перероблюваний i доповнюваний пiзнiше.
82. _"Юный отрок князя Бориса" — _очевидно, Мойсей Угрин, про непохитну цнотливiсть якого розповiдає легенда «Патерика».
83. _Хавтуры — _попiвськi побори.
84. _Один. — _за мiфологiєю скандiнавських народiв — бог вiйни.
85. _"Отечественные записки" — _лiтературний журнал, що виходив з 1820 по 1884 рiк.
86. _"Давид Копперфильд" — _роман видатного англiйського письменника-реалiста Чарльза Дiккенса (1812 — 1870).
87. _"Современник" — _лiтературний журнал, що був заснований в 1836 роцi О. С. Пушкiним. У 1847 роцi перейшов до М. О. Некрасова, I. I. Панаева, а з 1856 року редагувався i М. Г. Чернишевським за найближчою участю М. О. Добролюбова.
ХУДОЖНИК
Повесть написана в 1856 году в Новопетровском укреплении. В образе художника-крепостного есть совпадения с биографией поэта. В образе рассказчика выступает художник И. Сошенко, который одним из первых обратил внимание на одаренность Шевченко, познакомил его с русскими писателями и художниками, выкупившими поэта из крепостной зависимости.
[1] Торвальдсен Бертель (1768 — 1844) — датський скульптор.
[2] Тритони — мiфiчнi морськi iстоти з тулубом людина i риб'ячим хвостом.
[3] Остаде — брати Адрiан ван Остаде (1610 — 1685) та Iсаак ван Остаде (1621 — 1649) — голландськi художники.
[4] Бергем — Берхем Клас (1620 — 1683), голландський художник.
[5] Теньєр — Тенiрс Давид Молодший (1610 — 1690) — фламандський художник, вiдомий реалiстичними картинами з народного побуту.
[6] Рубенс Пiтер-Пауль (1577 — 1640) — фламандський художник, автор портретiв, картин на мiфологiчнi та релiгiйнi теми.
[7] Ван-Дейк Антонiс (1599 — 1641) — художник-портретист фламандської школи.
[8] Вазарi Джорджо (1511 — 1574) — iталiйський художник, архiтектор, iсторик мистецтва, автор книги "Життєписи найславетнiших художникiв, скульпторiв та архiтекторiв".
[9]…еретического учения Виклефа и Гуса… — _Вiклеф Джон (1320 1384) — англiйський церковний реформатор. Гус Ян — див. прим. 1 до поеми "Єретик".
[10] Лютер Мартiн (1483 — 1546) — нiмецький церковний реформатор, засновник лютеранства.
[11] Лев Х, Леон II — римськi папи початку XVI ст.
[12] Корреджiо-Антонiо Аллегрi (бл. 1489 — 1534) i Доменiкiно Цампiєрi (1581 — 1641) — iталiйськi художники.
[13] Щедрiн Сильвестр Феодосiйович(1791 — 1830) — росiйський художник-пейзажист XIX ст., вiдомий своїми краєвидами рiзних мiсць Iталiї.
[14] Сатурн — у римськiй мiфологiї один з найстарших богiв; боячись зазiхання на свою владу з боку власних дiтей, вiн з'їдав їх живцем.
[15] Михайловський замок — один з петербурзьких палацiв.
[16] Ширяев Василь Григорович — художник, хазяїн артiлi живописцiв-альфрейникiв, у якiй працював Шевченко.
[17] Аполлон Бельведерський — антична статуя бога Аполлона, яка вважалась найдосконалiшим зразком чоловiчої краси.
[18] Веласкес Дiєго (1599 — 1660) — iспанський художник. Його картина «Старий» знаходилась у 30-х роках в картиннiй галереї графа Строганова.
[19] Фраклiт i Гераклiт — статуї, назви яких Шевченко наводить по пам'ятi. Друга зображувала грецького фiлософа Гераклiта; кого саме зображала перша — невiдомо, тому що грецького iменi Фраклiт нема. Можна гадати, що перший — Демокрiт, фiлософ, якого часто протиставляють Гераклiтовi.
[20] Йдеться про роман Чарлза Дiккенса "Життя й пригоди Нiколаса Нiклбi" (1840 р. друкувався в журналi "Библиотека для чтения").
[21] Пименов Микола Степанович (1812 — _1864) — скульптор, вихованець Академiї мистецтв.
[22] Венецiанов Олексiй Гаврилович (1780 — 1847) — росiйський художник, один з перших зображав у своїх картинах сцени з життя росiйського селянства.
[23] Слюджинський Франц Йосипович (пом. 1864) — гравер. Зав'ялов Федiр Семенович (1810 — 1856) — художник, вихованець Академiї мистецтв; згадана його робота — малюнок статуї старогрецького мiфiчного героя Геркулеса, яка знаходиться у Фарнезькому палацi в Римi (звiдси — Фарнезький).
[24] Лосенко Антон Павлович (1737 — 1773) — художник, професор Академiї мистецтв.
[25] Кавос Альберт Катеринович (1801 — 1863) — архiтектор, зодчий iмператорських театрiв Росiї (Марiїнського i Михайловського в Петербурзi та iн.).
[26] О д р а н — прiзвище кiлькох французьких граверiв XVII–XVIII ст.
[27] Вольпато Джованнi (1738–1803) — iталiйський гравер.
[28] "Путешествие Анахарсиса Младшего" — _ твiр французького письменника i археолога Жан-Жака Бартелемi про старогрецьку культуру й мистецтво.
[29] Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — росiйський художник, учитель Шевченка, друг росiйського поета Жуковського В. А.; обидва брали активну участь у викупi Шевченка з крiпацької неволi.
[30] «Xiтана» — «Циганка», назва балету.
[31] Пальмiра — столиця стародавнього царства в Сiрiї. В 20-З0 х роках XIX ст. поети i прозаїки нерiдко називали росiйську столицю Петербург Пiвнiчною Пальмiрою.
[32] Болезнь св. Витта — _ нервове посмикування тiла.
[33] Губер Едуард Iванович (1814 — 1847) — поет, перший перекладач трагедiї Гете «Фауст» на росiйську мову.
[34] Меркурiй — у староримськiй мiфологiї бог, який провiщає волю верховного бога Юпiтера; тут це iм'я вжито у значеннi посланець.
[35] Барбаризм — варварство.
[36] Я показал ему маску Лаокоона… и следок Микеланджело… — _ Йдеться про малюнок голови Лаокоона з античної скульптурної групи, що зображає жерця Лаокоона i двох його синiв, яких душать змiї, та гiпсовий злiпок iз ступнi фiгури, вирiзьбленої Мiкеланджело.
[37] Терпсiхора — в античнiй мiфологiї муза, покровителька мистецтва танцiв.
[38] Стофатто — м'ясне блюдо (штуфат).
[39] Лакрима-крiстi — iталiйське червоне вино.
[40] Плафон — розписана стеля.
[41] Dа саро (iтал.) — _ спочатку, знову, бiс.
[42] Антiной — вродливий юнак, що, як втiлення чоловiчої краси, часто зображувався античними скульпторами.
[43] Люцiй Вер — спiвправитель римського iмператора Марка Аврелiя (II ст.).
[44] Канова Антонiо (1757–1822) — iталiйський скульптор.
[45] Бельведерский торс — _ частина статуї, яка зображувала Геркулеса, що вiдпочиває.
[46] "Страшний суд" — велика фреска (стiнна картина) Мiкеланджело в однiй з церков Рима.
[47] Рафаель Сантi (1483–1520) — iталiйський художник епохи Вiдродження, який, крiм картин на полотнi, створив ще ряд стiнних картин (фресок) у Ватiканi, палацi римських пап.
[48] Рисунок Германика и танцующего фавна — _ рисунок з гiпсових копiй античних статуй, якi зображують римського полководця Германiка (I ст.) i фавна (лiсовика i польовика).
[49] Свинья в торжевских туфлях — _ помiщик Шевченка П. В. Енгельгардт у туфлях, якi тодi робили в мiстi Торжку, що славилося сап'яновими та оксамитовими виробами.
[50] Озеров Владислав Олександрович (1769–1816) — росiйський письменник.
[51] Гiлiс Джон (1747–1836) — англiйський iсторик.
[52] Аглицкий клуб — _ клуб, при якому були зали для _гри в карти.
[53] Мокрицький Аполлон Миколайович (1810–1870) — художник, товариш Шевченка.
[54] Клодт Петро Карлович (1805–1867) — скульптор, професор Академiї мистецтв, вiдомий статуями коней на Анiчковому мосту в Ленiнградi та iн. творами.
[55] Зауервейд Олександр Iванович (1783–1844) — художник-баталiст, професор Академiї мистецтв.
[56] Басiн Петро Васильович (1793–1877 — художник, професор Академiї мистецтв.
[57]…статую повешенного Аполлоном Мидаса. — _Йдеться, очевидно, про персонажа давньогрецького мiфа — Мiдаса, який, навчившись грати на флейтi, викликав на змагання бога музики Аполлона, але був переможений ним i повiшений.
[58] Петровський Петро Степанович (1814–1842) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка по Академiї мистецтв.
[59] Дюме, Сен-Жорж — прiзвища вiдомих у Петербурзi 30-х рокiв рестораторiв.
[60] Фокс — петербурзький виноторговець.
[61] Джаксон, медок — вина.
[62] Корнелiус Петер (1783–1867) — нiмецький художник т. зв. "назарейськоi школи", що об'єднувала прибiчникiв вiдродження середньовiчного релiгiйного мистецтва.
[63] Гесс Петер (1792–1871) — нiмецький художник, баталiст i жанрист.
[64] Кленц. Валгалла, Пинакотека и вообще Мюнхен… — _ Мова йде про т. зв. "мюнхенську школу" нiмецького мистецтва XIX ст. Кленце Лео (1784–1864) — архiтектор, автор проекту будинку Ермiтажу; на замовлення баварського короля Людвiга I спорудив на березi Дунаю, поблизу Регенсбурга, Валгаллу круглий будинок з мармуру у виглядi храму (Валгаллою у старонiмецькiй мiфологiї називається мiсце, де пiсля смертi нiбито живуть душi витязiв, що загинули з славою в бою). Пiнакотека — картинна галерея в Мюнхенi, проект якої також належить Кленце.
[65] Дюрер Альбрехт (1471–1528) — нiмецький художник i гравер, автор теоретичних праць, з яких найбiльш вiдомi "Чотири книги про людськi пропорцiї" (1528) — "Пiдручник до вимiрювання" (або «Перспектива», про яку i згадує Шевченко).
[66] На набережнiй Неви в Петербурзi, бiля Академiї мистецтв, поставленi були 1834 р. два кам'янi сфiнкси, привезенi з Єгипту.
[67] "Дети, овсяный кисель на столе…" — _ початок вiрша нiмецького поета Гебеля "Вiвсяний кисiль" у перекладi В. А. Жуковського.
[68] Всемирная столица, увенчанная куполом Буонарроти. — _Рим, куди в той час посилали для удосконалення кращих учнiв Академiї мистецтв пiсля закiнчення ними курсу. Купол Буонарротi — купол собору Петра в Римi, побудований за проектом Мiкеланджело Буонарротi.
[69] Михайлов Григорiй Карпович (1814–1867) — художник, учень К. Брюллова, товариш Т. Шевченка.
[70] Тут, очевидно, йдеться про картину французького художника Нiкола Пуссена (1594–1665) "Зняття з хреста", що зберiгається в Ермiтажi.
[71] Просто суздольщина-_в розумiннi: грубий ремiсницький вирiб (в м. Суздалi працювали ремiсники iконописцi).
[72] Мартiн Джон (1789–1854) — англiйський художник.
[73] Гревiдон _П'єр (1776–1860) французьский художник i лiтограф.
[74] Смiрдiн Олександр Пилипович (1795–1857) — видавець i книготорговець.
[75] Мiшо Жозеф-Франсуа (1767–1839) — французький iсторик.
[76] Петро Пустинник — чернець, якому приписують органiзацiю першого хрестового походу (походу європейських феодалiв на Схiд для завоювання в арабiв Палестини).
[77] Брянський Якiв Григорович (1790–1853) — росiйський актор.
[78] Каратигiн Василь Андрiйович (1802–1853) — росiйський актор.
[79] "Тридцять рокiв, або Життя картяра" — п'єса французького драматурга i романiста Вiктора Дюканжа (1783–1833).
[80] Елькан Олександр Львович (у Т. Г. Шевченка помилково Лев Олександрович) (1819–1869) — театральний критик i фейлетонiст. «Вездесущего» i «всесведущего» Елькана Шевченко не раз згадує i в «Щоденнику», i в листах до знайомих та друзiв, ставлячись до нього iронiчно.
[81] "Зачарований будинок" — п'єса нiмецького драматурга Й. Ауфенберга (1798–1857).
[82] 82. Брати Чернецови — Григорiй (1801–1865) i Никанор (1804–1879) — художники-пейзажисти i побутописцi.
[83] «Роберт», "Фенелла" — йдеться про опери французьких композиторiв Джакомо Мейєрбера (1791–1864) «Роберт-диявол» i Данiеля Обера (1782–1871) — «Фенелла».
[84] Деларош Поль (1797–1856) — французький художник.
[85] Тарновськi — сiм'я українських помiщикiв.
[86] Бем Франц (1788–1846) — росiйський скрипаль-вiртуоз, австрiєць за походженням.
[87] Кастор i Поллукс — в античнiй мiфологiї брати-близнюки, сини Зевса; iмена, що стали уособленням вiрної дружби.
[88] Соколов Петро Федорович (1791–1848) — росiйський художник, вiдомий своїми акварельними портретами.
[89] Гау Володимир Iванович (1816–1895) — живописець-акварелiст.
[90] Гiббон Эдуард (1737–1794) — англiйський iсторик, автор шеститомної працi "Iсторiя занепаду i руйнування Римської iмперiї".
[91] Клiко — французьке вино.
[92] "Квентiн Дорвард" — роман англiйського письменника Вальтера Скотта (1771–1832).
[93] Кiпренський Орест Адамович (1782–1836) — росiйський художник-портретист. Намальований ним 1827 р. портрет О. Пушкiна знаходиться зараз у Третьяковськiй галереї в Москвi.
[94] Даль Володимир Iванович (1801–1872) — росiйський письменник, мовознавець, фольклорист, автор вiдомого "Толкового словаря живого великорусского языка"
[95] Кольман Карл Iванович (1786–1846) — росiйський художник-акварелiст, що змальовував мiськi вуличнi сцени i селянський побут.
[96] Мусiн-Пушкiн — Брюс Василь Валентинович (1775–1836) — один iз засновникiв Товариства заохочення художникiв.
[97] Голiцин Олександр Миколайович — князь, мiнiстр епохи Олександра I i Миколи I.
[98] Рамазанов Микола Олександрович (1817–1867) i Ставассер Петро Андрiйович (1816–1850) — художники-скульптори.
[99] Куторга Степан Семенович (1805–1861) — професор зоологiї Петербурзького унiверситету.
[100] Поль Шарль де Кок (1794–1871) — французький письменник-романiст.
[101] "Векфiльдський священик" — сентиментально-моралiстичний роман англiйського письменника Олiвера Голдсмiта (1728–1774).
[102] Пiнеттi — фокусник-iлюзiонiст.
[103] Андромаха над телом Патрокла, — _ Андромаха в старогрецькiй поемi «Iлiада» — дружина троянського царевича Гектора, вбитого Ахiллом, одним з вождiв грецького вiйська, що облягло Трою. Шевченко помилково замiсть iменi Гектора поставив iм'я Патрокла — друга Ахiлла.
[104] Овидиево превращение — _ жартiвливий натяк на поета Овiдiя Назона (43 р. до н. е.-_17 р. н. е.) i його твiр «Метаморфози», де розповiдаються мiфи про чародiйнi перетворення людей.
[105] Айвазовський Iван Костянтинович (1817–1900) — росiйський художник-маринiст.
[106] Как тени у Харонова перевоза… — _ Харон — в античнiй мiфологiї перевiзник тiней померлих в загробне царство через пiдземну рiчку Стiкс.
[107] Лелевель Iоахiм (1786–1861) — польський iсторик, активний учасник польського повстання 1830–1831 pp.
[108] Вашiнгтон Iрвiнг (1783–1859) — американський письменник, автор книжки "Iсторiя життя i мандрiвок Христофора Колумба".
[109] "Афiнський вечiр" — малюнок Брюллова, зображує Елладу (Стародавню Грецiю) V ст. до н. е. та її культурний центр — Афiни. Парфенон — храм богинi Афiни Паллади в Афiнськiй фортецi; Фiдiй (поч. V ст. до н. е. — бл. 432 або. 431 р. до н. е.) — давньогрецький скульптор, який робив статуї iз золота i срiбла. З цим малюнком Шевченко зiставляє "Афiнську школу" фреску Рафаеля у Ватiканi.
[110] Перiкл i Аспазiя. — Перiкл — видатний державний дiяч стародавнiх Афiн (V ст. до н. е.). Аспазiя — його дружина, що вiдзначалася своїм розумом i красою.
[111] Ксантiппа — iм'я сварливої дружини фiлософа Сократа.
[112] «Гугеноти» — опера Джакомо Мейєрбера.
[113] Йдеться про незакiнчену картину Брюллова на iсторичну тему облога мiста Пскова польсько-литовськими вiйськами Стефана Баторiя в 1581–1582 pp.
[114] «Кларисса» — роман в листах англiйського письменника XVIII ст. Самуеля Рiчардсона (1689–1761).
[115] Грьоз Жан-Батiст (1725–1805) — французький художник.
[116] Геба — в античнiй мiфологiї богиня молодостi i краси, прислужниця старших богiв.
[117] Тучегонитель — античний бог грому й. _ блискавки (у грекiв — Зевс, у римлян — Юпiтер).
[118] "Робiнзон Крузо" — роман англiйського письменника Данiєля Дефо (1661–1731).
[119] Араго Жак (1790–1855) i Дюмон-Дюрвiль (1790–1842) — французькi мандрiвники, що залишили описи своїх кругосвiтнiх подорожей.
[120] Плутарх (бл. 46-126) — старогрецький письменник, автор бiографiй видатних грецьких i римських дiячiв.
[121] Бахус — в античнiй мiфологiї бог вина i виноробства.
[122] Остроградський Михайло Васильович (1801–1862) — росiйський математик.
[123] Верне Орас (1789–1863) — художник-баталiст; Гюден Теодор (1802–1880) — маринiст; Штейбен Шарль (1788–1856) — автор картин на iсторичнi теми.
[124] Аполлон и девять его сестриц. Аполлон — бог сонця, покровитель поетiв i взагалi дiячiв мистецтва. Сестрами _його _Шевченко називає муз, яких стародавнi греки вважали покровительками окремих мистецтв i наук.
[125] Вечный Город — _ Рим.
[126] Дюпатi Шарль (1746–1788) — французький письменник, автор "Листiв про Iталiю" (1785).
[127] Пiранезi Джованнi-Баттiста (1720–1778) — iталiйський гравер, художник та архiтектор, автор гравюр, в яких зобразив пам'ятники Стародавнього Риму.
[128] Iванов Олександр Андрiйович (1806–1858) — росiйський художник, що довго працював в Iталiї над картиною "Явлення Христа народу".
[129] Понтiйськi болота — болота навколо Рима.
[130] Колiзей — величезний цирк у стародавньому Римi (на 80 тис. глядачiв).
[131] Иосиф толкует сны… — _ традицiйний академiчний сюжет про легендарного бiблiйного Иосифа в темницi, який вдало пояснює сни двох ув'язнених разом з ним царедворцiв єгипетського фараона (царя) придворного виночерпiя i придворного хлiбодара. Картину на цю тему 1827 р. створив О. А. Iванов.
[132] «Метафiзик» — байка Iвана Iвановича Хемнiцера (1745–1784), яка висмiює любителiв пофiлософствувати з усякого приводу.
[133] Мiцкевич Адам (1798–1855) — польський поет, автор "Пана Тадеуша" та iнших творiв.
[134] "Leonard Demski, mort, anno 18…" (лат.) — _помер року 18…
[135] Лiбельт Кароль (1807–1875) — польський фiлософ-iдвалiст i теоретик мистецтва, лiберально-буржуазний дiяч.
[136] Ельдорадо — за iспанськими легендами i казками, фантастична золота країна; у переносному значеннi — земний — рай.
[137] "Северная пчела" — щоденна петербурзька газета, яку видавали реакцiйнi журналiсти i письменники Ф. В. Булгарiн та М. I. Греч.
[138] Тиранов Олексiй Васильович (1808–1859) — художник, учень Брюллова.
[139] Сатурн — тут уособлення часу (образ античної мiфологiї).
[140] Мадейра — острiв в Атлантичному океанi, клiматична станцiя для хворих на легенi i серце.
[141] Пiнеллi Вартоломео (1781–1835) — iталiйський художник i гравер.
[142] К. Брюллов помер у мiстечку Марцiано, неподалеку Рима, 23 червня 1852 р.
НАЙМИЧКА 13
МУЗЫКАНТ 79
БЛИЗНЕЦЫ 143
ХУДОЖНИК 257
Примечания 352
Шевченко Т. Г. Ш37 Повести. Для сред, и ст. школ, возраста./ [Предисл. Е. П. Кирилюка; Сост. и примеч. С. М. Шаховского]; Ил. В. В. Василенко; [Худож. оформ. В. И. Юрчишина].— К.: Веселка, 1984.— 359 е., ил.
В книге представлены повести «Наймычка», «Музыкант», «Близнецы, «Художник», в которых Шевченко-прозаик с большой теплотой вывел положительные характеры трудовых людей, отразил их благородные негуманные наеалы, стремление к просвещению. В повестях много автобиографических материалов.
У1
щ 4803010200-097 ^ М206(04)—84
Тарас Григорьевич Шевченко
ПОВЕСТИ
Для среднего и старшего школьного возраста
Предисловие члена-корреспондента АН УССР Евгения Прохоровича Кирилюка
Составление и примечания доктора филологических наук Семена Михайловича Шаховского
Иллюстрации Владимира Викторовича Василенко
Художественное оформление Владимира Ивановича Юрчишина
Редактор
Корректоры
Информ. бланк. № 2086.
Сдано на производство 25.11.83. Подписано в печать 07.05.84. Формат 84х108 /з;!. Бумага типографская № 2. Гарнитура тайме. Печать высокая. Усл. печ. л. 18.9. Усл. кр. — отт. 19, 32. Уч. — изд. л. 21,55. Тираж 400 000 экз. (I з-д 1 — 150 000 экз). Заказ № 3—3155. Цена 85 к. Ордена Дружбы народов издательство «Веселка», 252050, Киев-50, Мельникова, 63. Головное предприятие республиканского производственного об ьединения «Полиграф-книга». 252057, Киев-57, Довженко, 3.
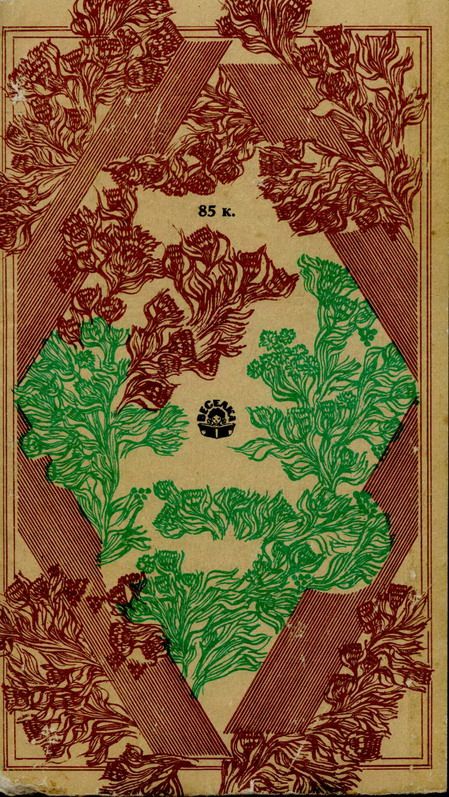 |
 |
(support [a t] reallib.org)