"Здравстуй товарищ !" - читать интересную книгу автора (Стрехнин Юрий Федорович)
Глава шестая СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
Светало. Федьков, сменивший Опанасенко, но не считавший себя, как тот, по всей форме часовым, которому положено быть всё время на ногах, сидел на ступенях крыльца, положив на колени карабин. Он посматривал на пустой двор и размышлял: сколько от Одессы досюда? Далеко! А сколько ещё придется идти? Наверняка через всю Европу. Пожалуй, на долю Федькова ещё хватит боевого дела. Вот нагонят они не сегодня-завтра полк и пойдут с ним освобождать прочие страны… Проехать бы по какому-нибудь французскому городу с таким форсом, как он весной въезжал в первый румынский городок! Да написать в письме: «Привет из освобожденного Парижа!» Только не ей адресовать письмо… «Тряпка ты! — ругнул себя. — Никак из сердца не вышибешь!..» — со злостью сплюнул.
Медленно розовело небо. Где-то за горами уже, наверное, взошло солнце.
Лежавший на повозке под шинелью Опанасенко проснулся ещё до того, как рассвело: потянуло холодком, и этот холодок, словно гладивший щеки прохладной ладонью, прогнал сон. По многолетней крестьянской привычке Опанасенко всегда подымался рано. Вот и сейчас он уже не смог бы вновь уснуть. Но вылезать из-под пригретой шинели не хотелось.
Опанасенко находился под впечатлением только что прерванного сна. Лежит он на возу, возвращаясь с колхозными подводами со станции, куда возили сдавать хлеб. Сытые кони легко и ровно тянут бричку. Кругом неоглядная, ставшая после жнитва просторнее, рыжевато-желтая, осенняя степь. Над нею небо — беловато-голубое, словно выцветшее за долгое лето. Солнце, полускрытое реденькими, будто марлевыми, облачками, светит лениво, не так, как в страду: его тепло на лице чувствуется чуть-чуть… Сжатые поля, топырясь ровными рядами желтого жнивья, уходят от дороги до самого горизонта. Большие, как дома, скирды высятся целыми кварталами… Впереди, неподалеку от дороги, виден выкрашенный в веселую яркоголубую краску вагончик тракторной бригады. Белеет в окошечке занавеска: наверно, притащили из дому девчата-трактористки, желая украсить свое походное жилье. Около вагончика аккуратно сложены бочки, повариха в белом халате разжигает костер, от него под свежим осенним ветерком стелется по земле голубоватый реденький клочкастый дымок. От самого вагончика в степь тянется густочерная полоса свежевспаханной земли. Трактора не видать: он где-то на противоположном краю поля. Доносится ровное, спокойное, какое-то доброе урчание сильного мотора. По жнивью важно вышагивает целая артель журавлей. Они что-то высматривают на земле, согнув длинные шеи. На подводы, проезжающие мимо, журавли не обращают особенного внимания: остановятся, подымут голову, посмотрят и снова вышагивают степенно и неторопливо… От дороги, прямо по стерне, проложены глубокие черные колеи: недавно прошли дожди, земля размякла. Колеи разные: широкие, рубчатые — следы автомашин и узкие, оставленные колесами повозок. Они ведут далеко в поле. Там, возле скирд, взлетает легкое, желтоватое облачко мякинной пыли, бойко стучит молотилка, движутся маленькие фигурки людей, белыми пятнышками мелькают платочки. Навстречу подводам, по дороге, идут две дивчины в ватниках, коротких юбках, больших сапогах. Вот им с переднего воза кто-то крикнул шутливое слово. Девчата не замешкались, скороговоркой ответили, засмеялись, белозубые, краснощекие… И снова медленно движутся подводы по степи, а над ними, высоко в небе, плавно летит косяк журавлей — уж не те ли, которые только что вышагивали по полю? «Эх, хорошо! — радуется Опанасенко. — Приволье-то какое!..» На противоположном конце поля показывается трактор — сизая точка на необъятном желтом пространстве. Точка растет, растет, а за ней тянется черная полоска пахоты. Трактор всё ближе и ближе, мотор его всё слышнее и слышнее, и сердце Трофима Сидоровича охватывает непонятная тревога. Он всматривается: да это ведь не трактор! По полю, наперерез дороге, увеличиваясь с каждой секундой, с угрожающим ревом идет немецкий танк. Вот уже и башню видно, и длинный ствол орудия с уродливым утолщением на конце. «Да что же это я на возу лежу? — спохватывается он. — Где моя противотанковая граната?» — Он шарит на поясе, но там почему-то гранаты нет. Спешит свернуть повозку с дороги — но руки почему-то не находят вожжей. Он хочет соскочить с повозки, — и сон прерывается…
— И пригрезится же! — вздыхает Опанасенко. — Когда ж то поле наяву побачу? Скорийше бы отвоеваться…
Уже совсем рассвело. По ближним дворам начали утреннюю перекличку петухи.
Опанасенко выбрался из-под шинели, покашлял, слез с повозки. Подошел к Федькову:
— Ну як оно?
— Тишина и порядок, Трофим Сидорыч. А ты что поднялся?
— Пора коней годувать…
Он удалился в сарай, к лошадям.
Кто-то с улицы шевельнул калитку. Федьков шагнул к ней.
Из калитки во двор несмело заглянула очень молодая женщина в сером балахоне странного покроя, в белом платочке, аккуратно повязанном на голове, и в сыромятных постолах. На её лице сквозь загар проступала бледность, темнели большие, опушенные густыми черными ресницами глаза, с немым вопросом обращенные к встретившему её. На руках она держала спящего ребенка, тщательно укутанного.
«С пацаном!» — удивился Федьков.
— Здравствуйте, товарищ! — вошедшая произнесла эти слова на чистом русском языке. Федькову стало ясно: «Та самая, с хутора!»
— Вы советские? — она настороженно смотрела на погоны Федькова.
— А вам каких надо? — важно сказал он, уже решив: «Наверняка — из «таких», как Клавдия. Прижила фрицёнка…» — И, окинув вошедшую недобрым взглядом, спросил:
— Что надо? Посторонним здесь не положено!
— Я… — голос ее дрогнул. — Хотела узнать, как мне вернуться на родину.
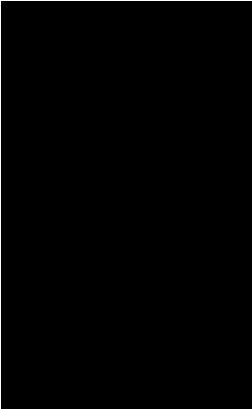 |
— А где ваша родина? — прищурился Федьков.
— Как — где? Моя родина — Советский Союз! Я из Полтавской области.
— Из Полтавской? А где же, извиняюсь, отец вашего ребенка? Он, вероятно, отбыл в западном направлении?
— Да как вы можете так говорить! — В голосе вошедшей зазвучала обида.
Федьков вздернул нос:
— Нечего сырость разводить. — Он считал, что с этой особой вежливость излишня. Бросил зло:
— Сами виноваты!
— Перед Родиной я ни в чём не виновата.
— Ладно, потом оправдываться будешь! — без церемоний перешел Федьков на «ты». — Мало ли вас таких… — Он посмотрел на её ношу.
Она поняла его взгляд.
— Не мой это ребенок.
— От своего отказываешься?
Глаза женщины сверкнули гневом. Запахнув ребенка полой своего балахона, она крепче прижала его к себе.
— Я вижу — с вами бесполезно разговаривать! — отчеканила она, хотя, чувствовалось по голосу, ей хотелось плакать. — Есть у вас старший?
Федьков несколько смутился: «Чудно — гордая какая!»
— Старший спит ещё. Обождите на скамейке у ворот, — сказал он строго официальным голосом. — Здесь посторонним находиться не положено!
Ничего не ответив, она медленно вышла за ворота. Федьков смотрел вслед: «Уйдет или нет?»
Из сарая выглянул Опанасенко.
— С кем балакал?
— Да тут одна фрау старшего спрашивает. Русская, говорит.
— Наша дивчина?
— Какая там дивчина! С пополнением.
— А видкиля она?
— Кажись — полтавская. До Берлина не доехала, раздумала. Теперь обратно захотела.
— Да де же вона?
— Я ей за воротами велел ждать, пока старший лейтенант выйдет…
С необычной для него резвостью Опанасенко выбежал за калитку. На скамье, спиной к нему, сидела женщина, низко склонившись к ребенку, которого держала на коленях. Ещё не видя её лица, Опанасенко во всех очертаниях фигуры почувствовал знакомое, родное…
«Яринко, дочка!» — хотел крикнуть он, но в этот миг женщина, заслышав его шаги, обернулась, и Опанасенко увидел незнакомое лицо. Слова застряли у него в горле…
— Вы старший? — спросила она.
— Ни! — улыбнулся Опанасенко. — Я старый, да не старший. Но я вас проведу до нашего старшего лейтенанта, як он проснется. А вы сами видкиля?
— Оттуда, — улыбнулась женщина, легким поворотом головы показывая в сторону гор, зеленой стеной стоявших над Мэркулешти. Её сразу расположил к себе этот пожилой усатый солдат с добрыми глазами и мягким украинским говором. Не то, что тот, на дворе… ершистый.
Через две-три минуты она, покачивая на коленях ребенка, уже как со своим беседовала с Опанасенко, присевшим на скамью рядом. Зовут её Наташей, она действительно его землячка, полтавская, но из другого района. Училась в Москве.
— В сорок первом году приехала домой на каникулы, а через два дня — война! — охотно рассказывала Наташа; радостно было ей на чужбине поведать о себе родному советскому человеку. — Что делать? В институт возвращаться или дома оставаться? Заболела как на грех. И поездов на Москву уже нет… Так и осталась. Пришли немцы…
— Вот це — погано дило, — сочувственно вздохнул Опанасенко.
— Как ни пряталась, а всё же забрали и меня вместе с другими девчатами.
— До Неметчины?
— Нет. В прачечный отряд отправили. Извелись мы: товарищи, подружки наши с фашистами воюют, а мы этим гадам обязаны белье стирать… Убежим! А как убежишь? Один раз заставили нас красноармейские гимнастерки стирать — пулями продырявленные, в крови. С пленных или с убитых содранные. Немцы — они ведь экономные. Никакой тряпке пропасть не дадут. Взяла я одну такую гимнастерку, вся душа во мне перевернулась: не могу больше на фашистов работать! Говорю девчатам: «Сегодня же ночью бежим!» Побежали… Мимо охраны удалось проскочить, а тут сразу тревога, погоня — я всех своих порастеряла. Одна осталась. Переждала в кустах до рассвета, а как заря показалась, — пошла прямо лесом туда, где солнышко всходит. Хотела пробраться к своим, через франт. Шла от деревни к деревне. Помогали добрые люди. А уже возле самой передовой в селе заночевала и попалась. Донес полицаям кто-то про постороннюю. Отправили меня в особый лагерь, для беглых. Там рядом со мной в бараке женщина одна оказалась: муж партизан, вот её и забрали. Уже в лагере, в эту зиму, родила она — вот его, Ванюшку, — Наташа глазами показала на тихо посапывающий сверток на своих коленях.
— А потом немцы отступать стали и нас погнали. Ох, и погибло наших на дорогах… — Наташа замолчала, словно перед нею встали страшные видения пережитого.
Трофим Сидорович, сурово сдвинув брови, молча вытащил кисет, скрутил цыгарку, закурил. Табачный дым, казалось, помогал ему заглушить душевную боль. Может, и его Яринку вот так же гонят гитлеровцы по чужедальним дорогам из лагеря в лагерь? А может, загубили уже? Ведь гордая его дочка, непокорная…
— Ванюшки этого мать, — продолжала Наташа, — заболела после родов. Едва брела. Мы её под руки вели, а Ванюшку по очереди тащили. Совсем она ослабла: после привала и подняться не смогла. Похоронили её возле дороги. Эсэсовец-конвоир и зарыть как следует не дал, кричал все: «Шнель, шнель!» Погнали нас дальше. Я покрепче других оказалась, так и тащила Ванюшку. Он ко мне привыкать стал: тянулся сразу, как увидит… Всю весну нас на запад пешком по Украине гнали.
— Грязища страшенная была тогда, — заметил Опанасенко, — трудно наступать было.
— А нам каково приходилось? Ведь в чужую сторону угоняют… Да и с голоду всех валило. Известно, какое питание фашисты давали: умереть, может, и не умрешь, но и жив не останешься.
— И куда же потом вас?
— Потом? В Могилев-Подольском позатолкали в вагоны, заперли, объявили: отправляем в Германию, спасаем от большевиков.
— Спасители!.. — не смог смолчать Опанасенко.
— Повезли через Румынию. Эшелон целыми сутками на станциях держали. У немцев, известно, неразбериха началась, как наши в наступление пошли: все расписания им перепутали! Ох, сколько в вагонах за эту дорогу людей поумирало — страсть. На каждой остановке мертвых выгружали. И вот на одной станции командуют нам: «Выходи!» Кругом эсэсовцы, с автоматами, обступили. Повели в сторону от дороги. Это где-то в здешних местах…
— Да тут же близко железной дороги нема…
— Есть, километров двести отсюда, за горами. Так вот, гонят нас. Дорожка под горой вдоль речки ведет. Командуют: «Стой, привал!» Только остановились — как ударят охранники по нас из автоматов. Бежать некуда: слева — обрыв, а под ним вода по камням бурлит, справа — гора высоченная. А я Ванюшку на руках держала. Обхватила его покрепче, бросилась прочь. Не помню, как с кручи скатилась, как через речку перебралась. Очнулась где-то в чаще, вся исцарапанная. И Ванюшка с перепугу даже не плачет. А может, он и не испугался; не понял по малости лет, что я его от смерти унесла. Послушала: тихо, только ручеек лесной звенит. Поднялась и пошла.
— А як же ты, дочка, в это село попала?
— Я же знала: наши наступают. Шла и надеялась: своих встречу!
— Так это ж двести километров с дитиной на руках по чащобе да каменюкам! Як же ты не сгинула в тех горах?
— Выручали добрые люди. Тут по лощинам есть хутора, деревеньки. Глухие такие! Мэркулешти, если с ними сравнить, — город! Подойду к какой-нибудь хатке под горой, залают огромные собачищи — тут все таких держат, потому что волки… Стою и жду, пока кто-нибудь покажется. Если человек по виду хороший, выйду из кустов. По-румынски я уже немного научилась говорить. Жалели нас с Ванюшкой. Накормят бывало, приютят. Там всё простой народ живет — пастухи да лесорубы. Случалось, предлагали: оставайся до конца войны, живи, в хозяйстве помогать будешь. Нет, я — всё на восток и на восток. Показывали мне, куда идти, брынзы, мамалыги на дорогу давали. А то иной раз и провожали по тропе от хутора до хутора. Три месяца я так пробиралась… Иду раз по лесу, как мне показали, и чувствую, сбилась вроде. Ну что ты будешь делать? Наткнулась на ручеек в лощинке и побрела вдоль него: ручеек к большому ручью приведет, большой ручей — к долине, а в долине обязательно люди живут. Вдруг вижу: впереди в кустах румынский солдат с ружьем. Засел и на меня смотрит. Припала я с Ванюшкой к траве. Бежать? Поздно, солдат заметил. Думаю: ну, погибла, заберут, передадут опять эсэсам проклятым, конец и мне и мальчику… Встает солдат, рукой машет. Что делать остается? Поднялась я, Ванюшку к груди прижала. А солдат оказался нестрашный. Там в горах такие укрывались, называли себя «зеленым батальоном».
— Зеленые? — переспросил Опанасенко. — Так то же у нас в гражданскую были! Бандюки!
— Нет, это совсем другие: парни, которые от мобилизации спасались, да солдаты с фронта, беглые.
— Ну и как же до тебя эти зеленые?
— Показали дорогу: они же местные. Так я и шла дальше. Где за нищенку принимали, где за беженку.
— Чего же ты, дочка, теперь в этих местах ожидаешь?
— Ванюшка прихворнул немного…
Прошло с полчаса, прежде чем Опанасенко вернулся во двор. Вместе с ним вошла и женщина в сером балахоне.
— Куда её? — загородил дорогу Федьков.
— Ладно, ладно. — Опанасенко, слегка отстраняя Федькова, провел Наташу мимо него к дому. — Старший лейтенант разберется.
С недовольным видом Федьков стал расхаживать возле крыльца, и когда Опанасенко вскоре вернулся, сказал ему не без ядовитости:
— Фрицы бросили, а вы подбираете, Трофим Сидорыч!
— Розумию, що то за людина! Не вчи мене! — рассердился Опанасенко. — Це радянська людина!
— А документы у нее есть?
— Показала один, дуже крепкий: номер на руке выжжен.
— Номер? — сощурился Федьков. — Бывает, своим агентам фашисты руки-ноги калечат для вида, а не то что номера ставят. Проверить её надо!
— Проверять, ясно дило, треба. Но только поверь старому: дивчина правду кажет. Ты знаешь, что с нею было?..
— Ежели не врет, выходит — в самом деле геройская… — протянул Федьков, выслушав краткий рассказ Опанасенко о Наташе. — А я-то думал…
— То и беда, что не думал! Через то и дивчину обидел. Ще старший лейтенант тебе скажет! — пообещал Опанасенко.
— Да я — что? Я — как положено…
— Положено в каждой людине разбираться, товарищ Хведьков.
На крыльце показался Матей, махнул рукой:
— Офичер — давай! — показал на дверь и, видимо, торопясь, пошел со двора.
— Матвий-то наш — «давай» — уже знает! — удивился Опанасенко. — Иди, Хведьков.
— Сходи ты, Трофим Сидорыч, — Федьков не хотел сейчас, когда в доме Наташа, попадаться старшему лейтенанту на глаза.
— Ну що ж…
Через минуту Опанасенко вернулся:
— Запрягать приказано.
— А эта… девушка с ребенком?
— Чого-сь с нею старший лейтенант разговор веде… Пойду до коней. А ты колеса смажь.
Орудуя разысканным в сарае квачем, Федьков думал о Наташе: «Вот ведь, оказывается, какая! А с виду — слабая вроде, тоненькая… — И всплывала соломинка надежды, за которую хотелось ухватиться: — А вдруг Клавдия так же вот, как и Наташа, не виновата, а что если она совсем не такая, как про неё написала сестра? Сестре соседи рассказывали. А мало ли что люди набрехать могут. Бывает…» Но отбрасывал соломинку надежды: знал он, какова Клавдия, и недаром друзья отговаривали его.
А мысли Опанасенко, разбиравшего в эту минуту сбрую, все были заняты Наташей:
«Дивчино, дивчино… Почему ты не моя дочка? А может, и Яринку нашли уже какие-нибудь наши солдаты?»
Тем временем Гурьев, только что переговоривший с Наташей, стоял и наблюдал, как она на лавке у окна быстрыми, уже умелыми руками перепеленывает завозившегося было мальчишку. А он, светловолосый, таращит черные глазенки на незнакомого, странно одетого дядю, у которого на груди что-то блестит, на свет утра, розовеющего за окошком, на весь широкий мир, в котором всё так любопытно…
Гурьев и Лена ещ не успели обзавестись детьми — поженились они почти перед самой войной. Но как они хотели ребенка! Не раз думалось об этом Гурьеву в час ночного привала и в ту счастливую минуту, когда он читал-перечитывал долгожданное письмо жены.
И вот сейчас, глядя, как Наташа в сбившейся на затылок простенькой косынке, в сером халате с подвернутыми рукавами, орудует над крохотным человеком, он невольно искал и находил в ней многое, напоминавшее Лену: такое же деловитое, сосредоточенное и вместе с тем при любом настроении — нежное и женственное лицо, такие же тонкие и быстрые пальцы, такие же узкие, но красиво развернутые прямые плечи… Такой была Лена в девятнадцать лет, когда они впервые встретились. А сейчас Лене двадцать восемь. Вот даже голос у Наташи, пожалуй, такой, как у Лены. Да нет, не похоже… «Эге, — поймал он себя, — да никак тебе Лена в каждой встретившейся мерещится? Смотри, как бы не обознался…» Но эта шутливая мысль не могла заглушить грусти. Годы идут, давно он вдали от любимой. И грезится она всюду, стоит только в спокойную минуту закрыть глаза…
Да, война идёт. Всё длиннее пройденные дороги позади. Рушатся города. Гибнут люди. Рядом, вплотную, смерть проходила и будет проходить ещё не раз… Но всегда и везде, пока ты жив, неуязвим и нетленен, в тебе образ любимой, и во многом, что вокруг тебя, невольно видишь ты этот образ. Сейчас — в этой девушке… Уж не потому ли ты так участлив к ней?
Словно устыдившись этой мысли, отвел взгляд от Наташи.
Дождавшись, пока она прибрала ребенка, сказал:
— Сегодня же отправитесь в город. На чем ехать — Матей Сырбу с отцом устроят, я уже попросил. В городе есть наш комендант, он поможет вам добраться до родных мест, а ребенка сдать в детдом.
— В детский дом? Ой, я ещё не знаю, смогу ли с Ванюшкой расстаться… Может, отвезу его к маме. Пусть у нас растет.
«Наверное, и Лена решила бы так же», — улыбнулся своей мысли Гурьев.
— Ах, Ванюшка, Ванюшка! Если бы ты понимал, — приговаривала Наташа, покрепче укручивая парнишку в одеяльце, а тот помалкивал, только всё таращил глаза. — Не верится даже, что на Родину вернусь… Спасибо вам, товарищ командир!
— Не за что. Да! — вспомнил Гурьев. — Не обижайтесь, пожалуйста, на нашего молодого солдата. Он не разобрался.
— Я не сержусь. Он по-своему прав был… Мало ли какие люди встречаются?
Взяла ребенка:
— Ну, до свиданья…
— Вернее — прощайте! Мы сейчас дальше едем. — Пожал протянутую ему руку, тонкую, но крепкую. — Желаю вам побыстрее увидать Родину!
— А вам… — Наташа энергично, почти по мужски встряхнула его руку. — Всем поскорее домой вернуться. С победой. Невредимыми!
Проводив Наташу, Гурьев подошел к окну, широко распахнул его. Розовые краски зари в небе совсем побледнели, сквозь них всё сильнее и сильнее проглядывала голубизна. Порадовался: «Хороший день начинается…» И всё не мог успокоиться: «Наташа, Наташа! Пройти через такое — не каждая сможет. А Лена смогла бы? Конечно…»
«Удивительно! — улыбнулся он своей мысли. — Всё хорошее обязательно примеряешь к любимому человеку: подходит ли? И хочешь, чтобы непременно подошло… Ну, ехать пора».
Вышел на крыльцо. Оба его спутника уже ожидали возле запряженной повозки. Федьков вертел в руках полюбившуюся ему палку с набалдашником.
— Брось эту ерунду — и поехали! — приказал Гурьев, усаживаясь на повозку.
— Шишка уж очень великолепная! — вздохнул Федьков. — Взять бы на память. — Он, любуясь, охватил набалдашник пальцами, нечаянно повернул, и тот вдруг отделился от трости.
— Вот так штука! Чудно! — Федьков потянул набалдашник: он оказался рукояткой кинжала, спрятанного в трости. — Может, и тот богослов с таким сюрпризом шел? Вот и приветь такого бедного студента… Страна чудес! — Федьков сунул кинжал обратно в трость. — Попробуй разберись, кто с чем ходит.
Повозка катила по сонной, еще безлюдной улице. Из-за белых мазаных оград подымались тонкие сизые струйки дыма: хозяйки на таганках готовили завтрак. Заслышав постукивание колес, выглядывал из-за ограды любопытный крестьянин и снимал высокую остроконечную шапку из черной овчины. Федьков весело помахивал всем и восхищался:
— Чудно! Как родню провожают. А что мы им?
— Як що? — удивился Опанасвнко. — Да они через нас вже краешек новой жизни побачили.
— А знаете? — признался Федьков. — Я про румын раньше одно понимал: бить их надо! Оккупанты ведь. Одессу мою захапали. А потом, как в Румынию мы вошли, и увидел я, что каждый встречный шляпу скидает да всё «пожалуйста» да «пожалуйста», словно холуи какие, — тут уж не злость, а просто противно стало. Решил я тогда: наверное, все тут — как эти жукари в городах — коммерсанты да спекулянты, универсальные торговцы.
— Этой публики тут действительно богато… — припомнил Трофим Сидорович. — Один — ось як ко мне прилепился, всё выпрашивал: «Що хотите купить? Що маете продать?» Поверишь, два километра за возом тянувся, як пёс. Вожжой ему погрозився, тильки тогда отстал.
— Да, публика… — протянул Федьков. — Посмотрел я на неё и тошно стало: ну вас к шуту и с королевством вашим, скорее бы нам: через вас пройти. Живите, как знаете, только на нас сдуру не полезьте, а то опять побьём…
— А сейчас як румын понимаешь? — Опанасенко пытливо посмотрел в глаза Федькову. — Кроме жукарей — ещё что бачишь?
— А как же? Трудящийся народ. Вот как Матвей этот или батька его — правильный старик. Только смелости у людей тут пока ещё маловато. Им говоришь, а они боятся. Ну, да наберутся смелости!
— А что ты им говорил, Федьков? — поинтересовался Гурьев, прислушавшийся к разговору. — Призывал произвести государственные реформы? — Зная решительность Федькова, он немножко беспокоился: не натворил ли тот чего-нибудь?
— Да нет, что вы, товарищ старший лейтенант? Я в местные дела не совался… — О расписке, данной приказчику, Федьков благоразумно умолчал.
— Я думку маю, товарищ старший лейтенант, что здешние до новой жизни ещё швыдче обернутся, чем наш брат в своё время, — заговорил Опанасенко. — Помню, в двадцать девятом, сколько нам утолковывали! Свои партийные, с района, с города уполномоченные разные. Все разъясняют: идите до колгоспа, гарно жить будете. А селяне и так и этак прикидывают, як, да що, да як бы оно не прогадать… Ночей не спали, от дум голова кругом шла. Да и когда колгосп сладили — сколько раз бывало як то кутеня слепое тыкались, пока уразумели, що до чего и як приходится. А здешним — шо им? Могут и по нашей мерке прикидывать. Я вот вчера хозяину-то рассказал кое-чего про колгосп да як до войны жили, он тильки ахает: «Эх, нам бы воно!» Бачу, що и верит, и не верит, и даже вроде боится об таком думать. А чего бояться? Дело верное. Спытано…
Разговаривая, незаметно проехали почти всю длинную улицу села. Из дворов выходили, лениво пожевывая жвачку, коровы и присоединялись к ещё реденькому потоку стада, медленно бредущего по улице. Знакомый пастушонок, волоча по пыли длинный бич, медленно шел навстречу едущим. Деловито пробежала вдоль стада лохматая дворняга — помощница пастуха. Где-то во все горло заорал петух, наверное, сконфуженный тем, что проспал начало утра, и решивший наверстать упущенное.
Ещё издали было видно; возле ворот дома Сырбу стоит Матей. Уходя, он договорился с Гурьевым, что тот заедет попрощаться.
Поравнявшись с воротами, Опанасенко попридержал лошадей. Из калитки вышел Илие, за ним — Дидина и Стефан. Илие настойчиво стал приглашать русских товарищей в дом: завтрак уже готов. Но Гурьев, поблагодарив, отказался.
Огорченный Илие предложил зайти хотя бы молока выпить. Опанасенко и Федьков не захотели: Федьков вообще считал, что «молоко только девчонкам пить прилично», а Опанасенко издавна привык спозаранку сначала поработать, а подзаправиться — потом. Гурьев же, минутку поколебавшись, вместе с Матеем пошел в хату. Он тоже когда-то терпеть не мог молока, но Лена, любительница всего молочного, приучила его пить парное натощак. Может быть, и она сейчас потягивает свеженькое, вкусно причмокивая губами?.. Нет, какое там молоко! Пожалуй, ещё до места не добралась! Где-нибудь в битком набитом вагоне она сейчас или на замызганном полу вокзального зала, после бессонной ночи, пересадки ждет. Трудно сейчас ехать по железной дороге… А может, Лена и не выехала ещё?
Тем временем Федьков спрыгнул с повозки, подошел к Стефану, стоявшему в сторонке, сунул ему разысканную, наконец, пачку махорки:
— На, кури, нас помни. Желаю счастья!
Стефан печально улыбнулся. Федьков положил ему ладонь на плечо:
— Брось нос на квинту вешать, Степа! Ты же парень хоть куда. Не горюй! Ну, будь здоров! Привет невесте!
— Спасибо, бабушка! — сказал Дидине уже вышедший из хаты Гурьев, подавая руку ей на прощанье. Нерешительно протянула она ему свою руку, и Гурьев с уважением бережно пожал её. Вот такие же сухие узловатые от многолетней и напряженной работы пальцы были и у его матери — крестьянки из далекого сибирского села…
Словно желая сказать что-то напоследок, Матей вплотную приблизился к Гурьеву. Тот видел: Матей взволнован расставанием, будто прощается не со случайным знакомым, которого знал всего-навсего один день.
— Ну как, теперь не испугаетесь? — вдруг спросил Гурьев улыбаясь.
— Нет! — Матей, словно клянясь, приложил к груди руку, сжатую в кулак.
Сейчас старший лейтенант напомнил ему о разговоре, который у них произошел утром, как только они проснулись. Матей с тревогой сказал тогда: вот русские товарищи уедут, а вдруг вернутся те трое и в отместку что-нибудь худое натворят?
И Гурьев на вопрос ответил вопросом: а разве и Матей, и Илие, и все, кто в селе с ними, — не хозяева в своем доме? Разве не сумеют они, как надо, встретить нежеланных гостей?
Подошла последняя минута. Трогать пора.
Крепко сжимая руку Гурьева, Матей с чувством проговорил:
— Спасибо!
«Да только ли нам эта благодарность? — К горлу Гурьева подступил комок. — А матросу Николаю? А солдату Василию? А всем нашим… Всем, кто вложил в души этих людей зерно большой надежды».
— Что ж, Матей… Счастливо оставаться вам в Мэркулешти.
— Нет! — показал на себя Матей — Плоешти!
— Плоешти? Надумал? Правильно!
Гурьев рад был за Матея: для него войны уже нет, может сам решать, что ему делать. Вернуться к своему делу, к мирной работе… Как не позавидуешь этому?
К повозке подошел Илие, обутый в постолы, с посошком в руке: он ещё вчера вызвался быть проводником.
Приглашенный Гурьевым, старик степенно уселся на передок рядом с Опанасенко. Повозка тронулась. И долго, если оглянуться, можно было видеть: стоят у ворот трое и смотрят вслед.
За селом свернули, как указал Илие, на малоезженную полевую дорожку. Высокие стебли цветов и трав, заполонивших колею, с легким шелестом скользили по ободьям и спицам, и запах зелени и росы, этот особенный, неповторимый бодрящий аромат прохладного утреннего поля заполнял всё вокруг и невольно заставлял дышать полной грудью. Солнце ещё не показалось из-за леса, но небо над вершинами деревьев было золотисто-голубоватым, как всегда за несколько минут до появления солнца. Не виднелось ни облачка: день предвещал быть погожим.
Дорога пошла вверх. Повозка то и дело подскакивала, наезжая колесом на незаметный в траве камень. Камни попадались всё чаще и чаще.
Гурьев глянул назад и чуть не ахнул от изумления: Мэркулешти лежало уже далеко внизу. Белые стены сельских хат и желтовато-коричневые кровли их казались отсюда россыпью цветных камешков на изумрудно-зеленом поле.
А за селом, там, где трое путников проезжали вчера, расстилались до самого горизонта поля — ещё чуть подернутые дымкой утреннего тумана, розоватые.
Опанасенко оглянулся:
— Степь-то! Тракторы по ней пускать в самый раз!
Илие вопросительно посмотрел на него.
— Земли у вас, кажу, дуже гарные, — пояснил Опанасенко. Он нарочно не сказал ещё раз о тракторах, полагая, что Илие всё равно не поймет.
— Земля? — переспросил Илие, уловив знакомое слово. Он показал рукой вниз, на широкие поля: — Боярин Александреску.
— Выходит, пану — поле, селянину — горе? — Опанасенко подхлестнул лошадей. — У нас, в Горбанцах, тоже когда-сь был пан-барин, а теперь про него и деды забыли.
— Бояр, бояр… — вздохнул Илие, — реджеле, бояр — есте один.
— Регель ваш? Михай-то? Подумаешь! — вставил своё слово Федьков. — Да чего вы этого регеля держите? — И, обернувшись к Гурьеву, с лукавинкой в глазах, но самым серьезным тоном спросил:
— А правду, товарищ старший лейтенант, говорят, что ихний король никак жениться не может? На простой ему не положено, а принцессы, какие есть, опасаются: выйдешь замуж, а муженька с престола сократят. А безработных королей и так на свете полно… Вот и не соглашается ни одна. Правда это, товарищ старший лейтенант? Я от румын слыхал.
Гурьев усмехнулся:
— Не знаю я про михаевы личные дела. А вообще — должность его ненадежная… — И добавил серьезно: — Давайте-ка не о королевской женитьбе беспокоиться, а о том, как бы чего не просмотреть. Федьков, держи карабин наготове! Да поглядывай. Всякое может случиться.
Дорога вела всё выше и выше, становилась всё извилистее и извилистее. Колеса почти беспрерывно чиркали по камням. Лесистая гора, ещё синевато-сизая от утреннего тумана, запутавшегося меж деревьев, надвигалась с левой стороны, всё больше заслоняя небо. Вот лес подступил уже к самой дороге: могучие тёмносерые, почти черные стволы старых буков, вперемежку с серебристо-белыми стволами кленов и тополей. И выше, по крутому склону, видны были все эти черные и серебристые стволы. И только там, совсем высоко, где гора становилась ещё круче, вздымались темнобронзовые колонны сосен. На самой вершине её — продолговатой, почти плоской — сосны стояли ровной колоннадой с густозеленой крышей тесно сомкнутых крон.
Начиная от самой дороги, под стволами деревьев лежала рыхлая, непримятая, пожелтевшая, а кое-где и почерневшая листва: здесь в горах уже давала о себе первую весточку осень.
Продолговатые клочья оставшегося с ночи тумана, цепляясь за стволы, медленно сползали вниз, наперерез путникам, и, не достигая дороги, таяли на ходу. Казалось, деревья на горе медленно распутываются от пухлой ваты, которой были укутаны на ночь.
Все вокруг было полно очарования раннего лесного утра, безмятежной тишины, когда не шелохнется ветка, не хрустнет сучок.
«Взглянула бы Лена на эту красоту!» — захотелось Гурьеву.
Узкие, не известно кем — людьми или зверьем — протоптанные тропки, вившиеся меж стволами, спускались по склону. Вот наверху, у тропинки, мелькнуло что-то светлое. Человек? Нет, беловатый ствол тополя. «По таким тропам пробиралась Наташа», — Гурьев представил себе её идущей через безмолвный, неведомый лес…
Почти ненаезженная, чуть заметная колея, полузаросшая травой и засыпанная широкими багряными и желтыми листьями, вела всё глубже и глубже в чащу. И справа и слева вплотную один к другому теснились стволы.
Всё теснее и теснее становилась узкая лощина, по которой медленно взбиралась в гору одинокая повозка. Воздух был полон той особенной, грибной прохлады, которой всегда так заманчиво дышит лес в утреннюю пору.
В лесной тишине особенно громкими казались стук колес и пофыркиванье лошадей. «Побродить бы сейчас меж деревьев, — пришло в голову Гурьеву, — грибков пособирать…»
— Эй! Кто? — крикнул вдруг Федьков приподымаясь. Ветви одного из кустов направо от дороги покачивались.
— Человек там! — Федьков соскочил с повозки, взяв карабин на изготовку.
Гурьев спрыгнул следом.
В кустах никого не оказалось. Но кто-то там, несомненно, только что был: помятые ветви медленно расправлялись.
— Не показалось тебе, Федьков? — усомнился Гурьев. — Может, зверь какой пробежал?
— Мой глаз — верный! Человека я видел! — стоял на своём Федьков. — А какой он — не успел рассмотреть.
— Поглядывай в оба… Поехали дальше.
Они вернулись к повозке.
Далеко внизу, в лощине, пробираясь сквозь заросли, поспешно уходил вглубь леса Марчел Петреску.
Всю ночь пробродил он неподалеку от села, не зная: куда деваться? После долгих колебаний решил: пробираться в Брашов, шеф там поможет.
Припоминая знакомые с юных лет тропы, он к концу ночи перешел, изрядно вымокнув, через ручей и побрел дорогой, ведущей в горы.
Вдруг впереди себя увидел в предрассветном тумане фигуру человека, идущего в том же направлении, что и он.
С похолодевшим сердцем Марчел бросился в придорожные кусты. Он успел заметить, как человек обернулся и ринулся в другую сторону. Долго лежал Марчел под кустом выжидая. Неизвестного не было ни видно, ни слышно: наверное, ушел. «Кто бы это мог быть? Неужели из русских?» Долго, пока не наступило утро, не выходил Марчел из своего убежища. Но вот на дороге послышались голоса. Увидел повозку с тремя военными в советской форме, обрадовался: «Шеф!» Высунулся из кустов и в страхе отшатнулся: ехали те самые русские, с которыми он уже встречался на пути к Мэркулешти. Они-то спросят, зачем он здесь. Бежать, бежать!
«О грибах, брат, размечтался? — подтрунивал над собою тем временем Гурьев. — Забыл про войну? Слушай да посматривай!» Но всё было тихо вокруг. Только откуда-то снизу, с земли, доносился нежный звук.
Гурьев прислушался: скрытый в высокой лесной траве, чуть слышно побулькивал невидимый ручеек. Его журчание становилось всё громче и громче. Ручеек бежал рядом с дорогой, словно указывая путь. Потока ещё не было видно, но было ясно, что он близко, рядом, почти где-то возле повозки. А вот и мелькнул меж трав, вот он, говорливый, прозрачный, перебегает с камешка на камешек. Как будто раздвигая траву, спешит и спешит вперед, наперегонки с путниками. Всё явственнее заметна цветная мозаика его дна, оправленная в яркую зелень травы. Вот разделился, и уже две дорожки живого хрусталя поблескивают в траве. Вот, наткнувшись на большой обомшелый камень, круто свернул и выбежал прямо на дорогу, вернее, дорога пошла прямо по нему. Под копытами лошадей засверкали брызги воды, под колесами защелкали, подскакивая, мелкие гладкие камешки.
Журчанье воды слышалось всё громче. Звенел не только ручей, бегущий вдоль пути. Звенело справа и слева. То тут, то там меж стволами деревьев, перескакивая с камня на камень, сбегали вниз, к дороге, проворные ручейки. Их было множество, и весь лес полнился прозрачным хрустальным перезвоном.
Ручеек, струившийся то рядом с дорогой, то прямо по ней, то поперек её, становился всё шире и звучнее. Иногда он скрывался под густыми, плотном сомкнувшимися кустами и исчезал из вида; только по его звонкому голосу можно было догадаться, где бежит он. Но потом, вырвавшись из-под кустов, петляя меж крупных камней, вновь поблескивал прозрачной своей струей.
Чувствовалось, что солнце взошло уже довольно высоко: верхушки деревьев золотились, вся зелень кругом выглядела ярче, и небо, обрамленное и справа и слева вершинами сосен, тянувшихся по горным гребням, приобрело уже ясную голубизну летнего дня.
Ручей стал уходить правее и ниже; дорога вновь повела вверх. «Напиться бы напоследок!» — Гурьев спрыгнул с повозки, сошел с дороги ниже — высокие стебли лесной травы шуршали по голенищам, — опустился на колени и, опершись ладонями в прохладные камешки дна, припал к воде губами. Крохотная волна шутливо лизнула его в щеку. Он увернулся от неё и с наслаждением втянул в рот холодную, изумительного вкуса и чистоты влагу. Пил долго, словно вдыхая прохладу этого лесного ручья. От холода уже ломило в зубах, а он всё не в силах был оторваться…
Ручей ушел далеко в сторону. Невидимый теперь, он лежал где-то в глубокой темной промоине, сплошь заросшей сверху кустами, и только по его глухому шуму можно было догадаться, где он.
Дорога раздваивалась: одна колея пошла дальше по долине, другая — вверх по лесистому склону. Илие показал: надо ехать вверх.
Петляя меж толстыми, в два обхвата, буковыми стволами и острыми, полузасыпанными листвой, одетыми в зеленый бархат мха камнями, чуть заметная колея вела в гору. Собственно, колеи почти никакой не виднелось: её скрывал слой пожелтевшей листвы. Местами прямо на дороге стояла высокая, ещё сочная трава.
Все слезли с повозки. Илие пошел вперед.
— Як же по такой горище ездить? — покачивал головой Опанасенко. — Всех коней побьешь! То ли дело у нас в степу.
Илие, уже поднявшийся вверх, обернулся и махнул рукой. Повозка догнала его и остановилась.
Старик стоял высоко, на самом гребне. За ним, меж золотистыми стволами сосен, в ясном утреннем воздухе голубели снежные вершины.
— Трансильвания. Унгария! — произнес Илие, показывая на далекие горы.
Минутной дрожью зашлось сердце Гурьева: «Вот одну страну прошли… А сколько стран, Лена, ляжет ещё между мной и тобою?»
Узкая дорожка тянулась по гребню хребта. И справа и слева, почти от самых колес, склоны круто уходили вниз, деревья сбегали по ним — в глубокие лощины, полные темной, почти синей зелени и таинственных теней. Лес по сторонам стал совсем непроглядным, только в редких просветах меж стволами голубело небо. Но вблизи от дороги вся листва была пронизана солнцем. Блики его лежали на багряных, желтых, темнобурых листьях, усыпавших путь.
Наконец, деревья стали редеть. Повозка выехала на опушку и остановилась.
— Страда! — Илие указал вниз.
Там, сжатая лесистыми склонами, тянулась белая от пыли лента шоссейной дороги. С высоты она выглядела совсем узенькой, и двигавшиеся по ней длинной вереницей военные повозки и орудия казались величиной каждое не более муравья.
Несколько минут все четверо молча смотрели на бесконечные колонны обозов, артиллерии, пехоты. Войска шли безостановочно. Уже позади оставалась освобожденная от захватчиков Румыния. Теперь Венгрия ждала освободителей…
«Вот и ещё одна главка истории завершается, — поймал себя Гурьев на привычной мысли. — Когда-нибудь о том, что сейчас вижу, ребятам на уроке расскажу…»
А всего в каких-нибудь двухстах шагах от Гурьева и его спутников лежал, забившись в кусты, «майор», не подозревающий, что те, от кого укрывается он, — так близко.
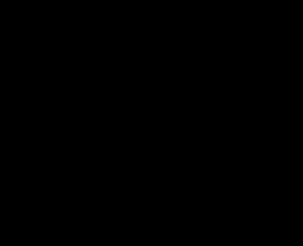 |
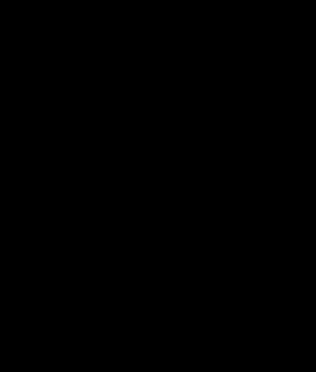 |
Вечером, свалившись с повозки и потеряв своих сподручных, умчавшихся, видимо, куда-то обратно, он, таясь, выбрался на дорогу, ведущую к шоссе, и всю ночь шел по ней. На рассвете ему показалось, что кто-то идет сзади, выслеживает его. Он не знал, что это был Марчел Петреску. Бросился в сторону и больше уже не осмеливался выйти на дорогу — шел вдоль неё лесом.
Сейчас «шеф» лежал и думал: как ему быть дальше?
Форма советского офицера позволяла ему выйти на шоссе, пристроиться на какую-нибудь повозку или машину и продолжать путь. Но он уже потерял уверенность в надежности принятого обличья. А вдруг и там, в колонне, распознают его? Теперь он не в силах был решиться на то, на что решался ещё недавно. И он лежал недвижно, как лежит змея, которая хочет выползти на дорогу, но боится, что там её раздавят люди, идущие своим путем.
— Что ж, пора расставаться, — обернулся Гурьев к Илие. — Спасибо, что путь указали.
В глазах старика блеснули слезы. Те слезы, которые бывают не от печали, не от горя…
— Мэркулешти… — Сейчас ему особенно трудно было найти нужные русские слова. — Мэркулешти… спасибо! Вы — о! — и поднял руку, как бы показывая на что-то большое.
— Что вы, Илие? — мягко улыбнулся Гурьев. — Мы — обыкновенные бойцы.
Но старик упрямо вздымал руку:
— О! Рошие!
Распрощавшись с Илие, все трое уселись в повозку, Опанасенко шевельнул вожжами, и она покатилась вниз, по заросшей дороге, длинными петлями спускавшейся к шоссе.
Когда достигли первого поворота, Федьков обернулся:
— Не ушел наш дед-то!
Наверху виднелась фигура в светлой холщовой одежде. Старик недвижно стоял с обнаженной головой и смотрел вслед своим друзьям. А из-за его спины, над вершинами, с той стороны, где за чужими горами и степями оставалась далекая Родина, резво шло к зениту утреннее солнце. С каждой минутой его лучи становились всё теплее, а синие тени, лежавшие поперек пути, всё короче и короче.
Во всю силу свою разгорался ясный день.
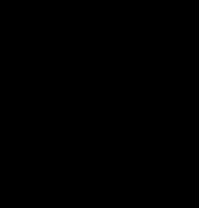 |
(support [a t] reallib.org)