"Високосный год: Повести" - читать интересную книгу автора (Богданов Евгений Федорович)
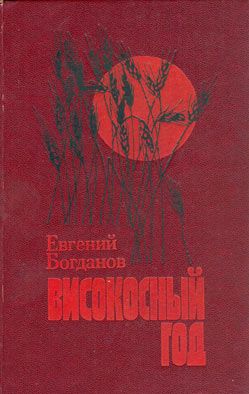 |
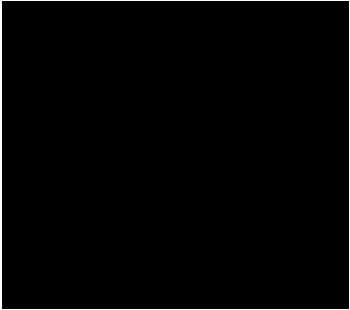 |
Високосный год
Глава первая
Удивительные здесь места! Реки, озера, холмы с ельниками, березняками, осинником. В лугах разнотравье: метлица, душистый колосок, лисохвост, дикий клевер, мышиный горошек. У дорог пастушья сумка да пижма, в низинках, на межах — багульник, иван-чай, по берегам рек таволга. В погожие дни запах стоит плотный и тягучий, такой, что голова от него кружится. Крошечные кузнечики стрекочут негромко, но столь проворно и усердно, будто они одни на земле задают ритм всей жизни.
Живности тут хватает. Оранжевая, пятнистая божья коровка то замрет на глянцевитом листке, то вдруг расправит крылышки — чешуйки и — глядь, уже на другом листке ползет по своей, должно быть, очень важной надобности. Бабочка с пестрыми широкими крыльями — опахалами зигзагами низко порхает над лугом, будто лепесток большого цветка, подхваченный слабым ветром. А шмель! С какой уверенной деловитостью проверяет он каждый цветок, не осталось ли там драгоценного нектара.
Хороши в погожие дни луговые просторы, когда земля цветет в полную силу и все сущее живет на ней в свое удовольствие. Лисицын не раз, оставив на проселке свой газик, отходил в сторону и ложился на траву, раскинув руки и глядя в небо. Закрывал глаза и слушал этих неутомимых кузнецов своего счастья, в грудь ему вливался аромат трав, и голова кружилась, и он словно бы плыл куда-то в сторону. Плыл вместе с Землей по ее орбите.
Шофер Сергей Воронков, заглушив мотор, выглядывал из кабины со снисходительной усмешкой, зная эту привычку Лисицына валяться на траве. «Ну как ребенок. Как пацан…» Сергею тоже хотелось полежать так, но он сдерживался.
А Степан Артемьевич словно бы ощущал всем телом мощную глубинную силу, исходящую от земли. От нее он набирался мудрого спокойствия, и ему казалось, что с нею он теперь может обращаться на «ты». И Нечерноземье в такие минуты не вязалось с шелковистыми травами, акварельно тонкими березами в колках, с бабочками и шмелями в ромашково-лютиковом буйстве.
Так бывало в солнечную погоду где-нибудь в середине лета. Но чаще погода стояла плохая. Север — он Север и есть. Облака, дожди, туманы, холода, ранние заморозки. Все это порядком мешало в работе. И определение «Нечерноземье» уже казалось вполне уместным и точным: помимо не всегда ласковой погоды — скуповатые суглинки и супеси…
Сегодня, проезжая мимо поля, что раскинулось в низине за еловым перелеском, Лисицын велел шоферу остановиться. Сергей затормозил у обочины, где трава была погуще и помягче. Но Степан Артемьевич не собирался на ней лежать… Он вышел из машины и, щурясь от резкого ветра, окинул взглядом поле. Ветер чуть не сорвал с него кепку, и он поглубже нахлобучил ее на голову. Сергей, веселый рыжеватый парень в джинсах и сером пиджачке, тесноватом в плечах, тоже вышел из газика и стал рядом. Лисицын наклонился, сорвал стебелек ячменя, помял его в руке.
— И пересев не помог, — сказал он и прошел дальше по меже, вминая былинки в землю. — Что делать с этим полем?
— Пустить на зеленую подкормку, и точка. Пока стебли не загрубели, — посоветовал Сергей. — Сарафанов всегда так делал: скосят и свезут на ферму коровам.
— Так то Сарафанов! — с неудовольствием продолжал Лисицын. — Зерно нам дано природой для того, чтобы, посеяв его, получить много зерен.
— Вам, конечно, виднее, — сказал шофер. — Но смотрите: колоски мелкие, тощие, больше силы не наберут. Земля взялась коркой.
Лисицын остановился, слушая вкрадчивый шелест недозревших злаков. Почва на участке и в самом деле высохла, потрескалась, хотя жары не было. «Земля сырая, болотина, — размышлял директор. — Известкование не помогло — кислотность высока. Да и посеяли ячмень вынужденно и уже поздно».
В конце прошлого лета тут сеяли рожь, но осень стояла дождливая, слякотная, озими вымокли, пошли под снег неокрепшими, а весной сильно подопрели, и поле пришлось пересевать ячменем. Но и он зачах…
Всю дорогу до центральной усадьбы Лисицын хмурился и недовольно посматривал по сторонам.
Поднявшись по нешироким ступенькам на крыльцо совхозной конторы, Степан Артемьевич заглянул на минутку в бухгалтерию и прошел узким полутемным коридором к себе в кабинет. Несколько раз передвинул кресло, которое никак не хотело становиться на положенное место. Кресло осталось от прежнего директора, вышедшего на пенсию и уехавшего в город к сыну. Старинное, с полумягким сиденьем, оно было неуклюжим с виду, но удобным, и он оставил его в кабинете, хотя оно и не очень вписывалось в новый полированный гарнитур. Теперь оно обиженно скрипнуло под ним, и Лисицын провел руками по лицу, как бы снимая этим жестом усталость. Тут же Степан Артемьевич позвонил управляющему Борковским отделением Каретникову и спросил:
— Как быть с ячменным полем, которое пересевали? Я сейчас смотрел: неважный ячмень. Прежде, говорят, такие участки скашивали на подкормку? Или лучше оставить дозревать?
Каретников помолчал. Степан Артемьевич представил, как он размышляет, держа телефонную трубку в руке и одновременно поглядывая в окно.
— Я тоже видел поле, Степан Артемьевич, — сказал Каретников после солидной паузы. — Если скосить сейчас — проку мало. Ячмень низкоросл, зеленой массы пустяки… Пусть уж дозревает. Зимой все сгодится — и стебельки, и колоски. Будем измельчать и запаривать в кормоцехе.
Лисицын не стал возражать и положил трубку.
Он подумал, что с посевами зерновых вообще дела плохи. «Каждый год во время уборки — ненастье, дожди. Сушильного хозяйства нет. Из-за этого фермам не хватает «сильных» кормов. Надеемся только на помощь государства. Но сколько можно? Когда-нибудь скажут: хватит вам просить!»
В конце рабочего дня с телефонного аппарата брызнула резкая трель звонка. Из обкома профсоюза работников сельского хозяйства некий Востряков, зав. каким-то сектором, — Лисицын точно не знал каким, — предложил ему туристскую путевку за границу на сентябрь.
— Ты ведь не пользовался путевками, — сказал Востряков покровительственно. — Мы при распределении вспомнили о тебе.
«Вспомнили!» — Лисицын удивленно вскинул белесые густые брови над карими быстрыми глазами и усмехнулся.
— А куда путевка? Какой срок?
— В Санта-Крус. Двадцать дней.
— Санта-Крус? Это — нечто итальянское?
— Нет. Испанская провинция. Город на Канарских островах в Атлантическом океане. Советую ехать. Место интересное, экзотика! Климат райский. Там, представь, драконовы деревья три тысячи лет растут!
— Какие деревья?
— Драконовы. Острова вулканического происхождения.
— Ты меня хочешь отправить на вулканы? Чем я провинился?
— Они давно потухли. Гарантирую. Остальное узнаешь на месте. Сейчас июнь, время для сборов есть.
Лисицын думал, ехать или нет, — ведь он так мечтал об отдыхе!
— Ну так что? — спросил Востряков.
— А путевка одна? Хотелось бы с женой…
— Поезжай с женой.
— Подумать надо.
— Думай. Только недолго.
— Ладно, спасибо, — Лисицын положил трубку.
Если быть точным, то он не отдыхал по-настоящему почти полтора года. В прошлом году в конце лета лили дожди, уборочная затянулась, и ему было не до отдыха. А поздней осенью под покров отпуск тоже брать не хотелось. Почему бы теперь не съездить? В его отсутствие камни с неба не свалятся. Нынче многие ездят по заграницам, чем он хуже других?
Однако… Ох уж это словечко! Оно предостерегало, настораживало, заставляло хорошенько подумать, перед тем как принять решение. Однако… Столько дел, столько забот! Что скажут люди? Картошку не убрал, зябь не допахал, стойловый период на носу, а он улизнул за границу от всех забот. Во Лисицын! Во, даёт! И это называется современный молодой директор!
«Современный и молодой» — о нем частенько так говаривали за глаза, — Лисицын это знал. Знал и то, что в устах людей такая характеристика иной раз звучала двусмысленно. Дескать, молодо-зелено, опыта еще маловато. Районное начальство многое ему прощает, когда у него что-нибудь не ладится, и, отечески похлопывая по плечу, ограничивается внушением вместо хорошей припарки.
А все же хотелось бы съездить отдохнуть, рассеяться, на белый свет посмотреть, послушать плеск океанской волны.
В конце дня, зайдя к секретарю парткома Новинцеву, Лисицын рассказал ему о предполагаемой поездке.
Иван Васильевич был в решениях нескор, любил все прежде хорошенько взвесить.
— С чего тебя потянуло за границу? — удивился он. — Махнул бы в Крым или Сочи.
— Они сами предложили путевку, я не просил.
— А где он, этот Санта-Крус? И надолго ли надо ехать?
Степан Артемьевич объяснил.
— Так — Новинцев глянул на Лисицына теперь вприщур, с недоверчиво-сдержанной улыбочкой. — Далековато. А что там, интересно?
— Востряков хвалит.
— Он всегда хвалит. Ему бы только сбыть горящую путевку.
— Эта, наверное, не горящая.
— Возможно. А с райкомом ты советовался? А со своим сельхозуправлением?
— Еще нет. Я прежде к тебе пришел. — Лисицын придвинулся поближе, оперся о стол локтями, чуть наклонив лобастую голову, и посмотрел в упор на Новинцева. Черный свитерок-водолазка и серый пиджак плотно сидели на его широких плечах. — Как думает комиссар? — он смахнул со лба прядку жестких русых волос.
Новинцев в сравнении с ним несколько проигрывал во внешности: невысокий, лысоватый, с самым обычным лицом и серыми глазами, он, пожалуй, не походил на руководящего товарища даже местного, сельского масштаба. Ни фигуры, ни осанки. И выражение лица его было этаким простецким, располагающим к откровенности,
В совхоз «Борок» Новинцева назначили год назад, после окончания партийной школы. А до этого он работал инструктором райкома. Лисицын после института около года заведовал механическими мастерскими, а уж потом стал директором.
— Отдохнуть тебе, конечно, надо, — размышлял вслух Новинцев. — Только вот время… В сентябре разгар картофельной страды, канун зимовки скота…
— Я так и знал, — огорченно отозвался Лисицын и стал закуривать. — Вы тут без меня не в состоянии управиться? На мне свет клином сошелся?
— Ну ладно, ладно, — сказал парторг. — Обеспечь задел и поезжай. Как я могу возражать? Ты сам себе хозяин. К тому же ты давно не был в отпуске. А каждому человеку, даже директору совхоза, положено отдыхать
— Очень остроумно! — рассмеялся Лисицын. — Именно: даже директору… Развивай, Иван Васильевич, в себе этот бесценный дар!
Оставалось переговорить с супругой. Когда во время ужина Степан Артемьевич сообщил Лизе о возможной поездке, она переспросила:
— Куда ехать? Я не очень поняла.
— Санта-Крус на Канарских островах в Атлантическом океане.
— Вон куда! А пляж там есть?
— Должен быть.
— И фрукты, конечно?
— Разумеется. Между прочим, там растут драконовы деревья. Долгожители редкого вида. Экзотика!
— Надо бы съездить. А то никаких светских развлечений. Одни серенькие будни.
Степан Артемьевич помолчал, думая о том, как он обеспечит «задел», то есть успеет управиться до отъезда с главными хозяйственными заботами.
— Время еще есть, — подытожил он вслух.
Лиза, пожав плечами, поставила перед мужем стакан в мельхиоровом подстаканнике и налила чаю. Она не сразу села за стол, видимо, предстоящая поездка ее взволновала. Степан Артемьевич принялся за чай. Он был жидковат и припахивал поздним осенним сенцом. Но бог с ним, с чаем. Лисицын в эти минуты подумал о жене:
«В самом деле, свозить бы ее за границу. Посмотрит, как люди живут, настроение поднимется. Мало я о ней забочусь… Дел невпроворот, жене ноль внимания. Так не годится. Хотя бы ради нее следует съездить».
Когда он приехал в областной центр за направлением на работу, у него оставалось несколько свободных дней, и он решил заглянуть в областную библиотеку, ознакомиться с новинками сельскохозяйственной литературы. Библиограф — молоденькая внимательная и предупредительная, принесла из фондов нужные ему издания, и он, сев за стол в читальном зале, принялся за дело. Но статьи показались ему неинтересными, особых открытий для себя он в отраслевых журналах не нашел, заскучал и стал посматривать по сторонам. Ему все хотелось видеть девушку-библиографа, — она время от времени бесшумно и плавно проходила мимо столов.
Ему удалось познакомиться с ней на другой день, когда он опять зашел «почитать что-нибудь». Когда она, окончив работу, собралась домой, Степан Артемьевич попросил разрешения проводить ее. Девушка, поглядев на него внимательнее и подумав, согласилась.
Ее звали Лизой. Она понравилась Степану Артемьевичу, и он, кажется, тоже произвел на нее благоприятное впечатление. Более того, Степан Артемьевич отчаянна влюбился, чего с ним еще не бывало, — сразу вот так, с головой в омуток… Лиза изящная, стройная. Она носила в те дни платье вишневого цвета, перехваченное в талии мягким пластиковым пояском. Из стоячего воротника видна была шея, которую, за недостатком других эпитетов называют точеной. Голова небольшая, гордо посаженная, с модной прической.
Один восточный мудрец сказал: «Сначала глаз видит, потом сердце одобряет, когда сердце одобрит, природа к ней начинает склоняться и тогда уже требует свидания с ней». Так случилось и с Лисицыным. Ему хотелось видеть Лизу все чаще, и, оставшись в городе еще на несколько дней, он встречался с ней вечерами. Перед отъездом он пригласил ее на концерт гастролирующего здесь ансамбля «Эра». Судя по всему, концерт Лизе не очень понравился: музыканты, не заботясь о гармонии, вовсю дули в свои саксы и трубы. Когда музыкальные пассажи достигали взрывной силы, Лиза прикрывала руками уши, поглядывая на Лисицына с растерянной улыбкой. Он восторженно и чуть озорно заметил:
— Во дают ребята! На всю железку…
И рассмеялся от души.
Как бы там ни было, знакомство с Лизой все же было закреплено и продолжено. После концерта они шли по набережной Северной Двины. Последняя строительная мода одела ее в бетон и гранит. Вдоль набережной высажены молодые деревца, кустарники, по которым уже не раз прошлись садземтрестовские ножницы, придавшие растительности унылый парковый стандарт. Солнце стояло в малооблачном небе над Заречьем — большое, цвета красной малины. По реке проходили солидные, важные морские лесовозы, шумели волны, у пирса покачивались небольшие речные буксиры. Все было наполнено движением. Неподвижным казалось только солнце, но и оно постепенно опускалось, будто кто его тянул в дымчато-синий разлив заречных лесов.
Лиза в ответ на его вопрос, понравился ли ей концерт, ответила:
— По крайней мере, такого я еще не слыхала. Нечто грандиозное… — она улыбнулась Степану Артемьевичу. — Куда до них Моцарту или Шопену! Даже органная музыка блекнет перед этими могучими электроревами…
— Вы предпочитаете классику? — поинтересовался он.
— Люблю просто хорошую музыку. Всякую. Только хорошую. А эта раздражает, бьет по нервам, оглупляет слушателя… Может быть, я не понимаю ее…
— Я тоже. Не дорос, — согласился он. — Наверное, для знатоков она не так уж плоха.
— Ну, бог с ней, с музыкой. Расскажите о себе, — попросила она.
Степан Артемьевич стал рассказывать про родную деревеньку Дешевиха, что в Вологодской области на речке Уфтюге, про то, какие там бывают летние вечера — прозрачные, прохладные. Рассказал, как учился в школе, а потом в институте в Пушкине под Ленинградом.
Проводив ее до дома, Степан Артемьевич с неохотой стал прощаться. Она, заметив это, взяла его за руку:
— Зайдемте к нам. Я познакомлю вас с мамой. И выпьем чаю.
Анна Павловна, мать Лизы, приняла Степана Артемьевича дружелюбно. Невысокая, худощавая и такая белокурая, что в волосах почти не заметной была седина, с умными, чуточку настороженными голубыми глазами, Анна Павловна была похожа скорее на скромную конторскую служащую, чем на педагога. Она напоила их чаем со смородиновым вареньем, оделась и ушла к подруге. Лиза и Лисицын остаток вечера провели в разговорах.
Последующие дни Степана Артемьевича были полны удивления и восторга. Лисицын удивлялся, что так неожиданно, словно утреннее солнце в ненастную погоду, пришло к нему это большое и сильное чувство — любовь, и осветило его, и согрело теплом, от которого на душе радостно и чуть-чуть тревожно. У него теперь есть необыкновенно красивая и умная девушка. И глядит она на него с доброй и таинственной улыбкой, обещающей нечто такое, от чего кружится голова и готов скакать и прыгать подобно мальчишке, увидевшему впервые в этом огромном и прекрасном мире цветок в росе и шмеля на нем, или невиданной формы облако в голубом и легком летнем небе.
О настоящей любви не говорят — она пуглива. Одного неосторожного слова достаточно, чтобы вызвать сомнение или недоверие… И Степан Артемьевич молчал. Все в Лизе прекрасно — в этом он был совершенно уверен. Позже он приметит в ее характере опасные подводные рифы и научится обходить их с искусством двинского лоцмана; он откроет в предмете своего обожания новые черточки, новые достоинства. А пока все обстояло именно так, как при первых встречах.
А что Лиза? Нравился ли он ей? Ничего определенного Лисицын сказать не мог. Отношение Лизы к нему было ровным и спокойным.
Нет, положительно женщины — непонятные натуры! Они умеют так тонко и ловко скрывать свои истинные чувства и водить мужчину за нос, пока не доведут его до состояния полной неуверенности в себе.
А быть может, все обстояло гораздо проще и он очень уж усложнял и возводил свои сомнения в степень чудовищной гиперболы?
Оказывается, и в самом деле просто. Когда он уезжал к себе в Борок в тихий, с накрапами ленивого дождика пасмурный вечер, Лиза, провожая его, на пристани сказала ему:
— Ты мне нравишься, увалень. Без тебя я буду скучать. Приезжай поскорее!
«Увалень» она произнесла так, как женщины тоже умеют — ласково, и он возликовал.
Они стали переписываться. А бывая в областном центре, Степан Артемьевич продолжал встречаться с Лизой и наконец сделал ей предложение.
Она не сразу согласилась выйти замуж. Тому были довольно веские причины. Он жил в деревне, она — в городе с матерью, которая частенько прихварывала. Поехать к нему — значило оставить мать без присмотра.
Наконец Лиза все же дала согласие. Решающим при этом было слово Анны Павловны, которой Лисицын понравился.
— Борок ведь недалеко, — сказала она. — Ты, Лиза, можешь приехать ко мне в любое время. Главное, чтобы ты была счастливой. Обо мне не беспокойся.
В то время Степан Артемьевич занимался в совхозе ремонтом машин и жил одиноко, по-холостяцки, на квартире у бывшей телятницы, пенсионерки Любовцевой. Она варила ему щи, грела самовар, прибирала комнату и время от времени справлялась: «Скоро ли молоду женку привезете?» И другие боровские старожилки, «товарки» Любовцевой, сгорали от нетерпения, всем было дело до его семейного положения. Когда Степан Артемьевич, собравшись в город, шел мимо изб на двинскую пристань, они перешептывались:
— Зачем в город поехал? Не за женой ли?
И шли к Любовцевой выяснять, поехал инженер за супругой или просто по служебным делам.
Наконец она приехала. К тому времени ему дали квартиру в новом двухэтажном доме, построенном для совхозных специалистов и молодоженов, и они стали ее обживать. Лизе нашлась и работа в библиотеке при сельском клубе. Когда она направлялась туда по узким деревянным мосточкам, пенсионерки откровенно глазели на нее. Оценив по достоинству осанку и медлительную походку инженеровой жены, они все же по привычке перемывали ей косточки:
— Ишь, идет, не торопится!
— Известно: городская, балованная. Скоро уедет.
— И не говори, матушка. Разве у нас такая приживется. Уедет беспременно.
— Чего ей здесь делать-то? Книжки выдавать скоро прискучит. Вон, заречного зоотехника жена бросила. Сбежала в Соломбалу. Говорят, за морского офицера замуж выскочила по второму разу…
— И эта, должно быть, укатит.
Но Лиза, судя по всему, не собиралась убегать из Борка от мужа, и это порядком-таки озадачило старух.
Лиза выросла в городе на Северной Двине, и этим сказано все. Без Двины нет северянина. Без нее этот обширный край превратится в унылое тундровое болото. Двина кормит, поит и вдохновляет всех, кто на ней родился и вырос. Она питает воображение, рождает былины, сказы и песни, водит по холстам рукой художников. Она одинаково властно удерживала возле себя юношей и степенных бородачей. На ее берегах рождались, жили, работали и умирали в преклонных летах шлюпочные мастера, лоцманы и шкиперы, полярные исследователи, военные моряки и цивильные капитаны дальнего и каботажного плаваний. С весны до поздней осени на двинском стрежне дрожали от ветров туго натянутые, промытые дождями паруса рыбачьих шхун, коптили небо паровые суда, шлепая по волнам плицами первобытных колес; в более поздние времена ее воды бороздили тральщики и лесовозы, дизель-электроходы и «Ракеты». Разве только не навещали двинское устье из-за большой осадки атомные ледоколы…
Архангельск жил Северной Двиной. Ей, словно родимой матушке, он поверял свои радости и печали. В летнюю пору по выходным дням жители шли на берег подышать чистым воздухом, послушать ропот волн. Даже поздней осенью, одевшись потеплее, иной горожанин выходил на набережную полюбоваться густой и холодной кромешной тьмой, в которой слышался плеск тяжелых предзимних волн, и, словно светляки, плыли мимо разноцветные сигнальные огни портовых буксиров.
Лиза с детских лет полюбила Двину, и по правде говоря, она, будучи горожанкой, поехала в село не без опасений. Но Двина, река ее детства, здесь тоже была рядом. Это до некоторой степени утешало ее. И нельзя было не считаться с работой и положением мужа.
Прибыла она сюда два года назад, в середине июля. Муж встретил на пристани, отправил вещи на машине объездной дорогой и предложил Лизе пройтись пешком напрямик через луг.
Было тепло и чуточку влажно от вчерашнего дождика. На лугу отцветали травы, готовясь лечь под острые ножи тракторных косилок. Степан Артемьевич рассказывал Лизе, что луг веснами заливает водой, а потом она уходит, и потому тут такой богатый травостой. Кое-где в траве поблескивали под солнцем маленькие озерца. Он сказал, что в половодье в них заходит рыба из реки и, не успев уйти до спада воды, остается тут на радость рыболовам.
Лиза радовалась тому, что тут тепло, воздух чистый и в небе тянутся к горизонту тоже чистые белые облака. Ей стало даже жарко, она сняла кофточку. И рядом шагал муж, такой уверенный, молодой, сильный, и ветер играл его русыми волосами.
Потом луг сменился картофельным полем. Тропка продергивалась сквозь светло-зеленую ботву наискосок, к зарослям ивняка, что кудрявились впереди. За ивняком оказалась река Лайма, узенькая, неторопливая, равнинная, со спокойным течением и красноватой водой. Пройдя через Лайму по деревянному пешеходному мостику, они стали подниматься в гору. Гора была крутая, высокая, и там они остановились перевести дух. Лиза вспомнила слова бабушки, которая, бывало, в детстве рассказывала ей сказки, и в одной из них было такое:
А жить ты будешь на высокой-высокой горе,
На самой вершине…
Она улыбнулась и посмотрела на Степана. Он тоже улыбнулся и сказал:
— Вот мы и дома.
Жили они дружно, в полном согласии, если не принимать во внимание маленьких случайных размолвок по совершенно незначительным поводам. Без них ведь не обходится в семьях. Недаром говорится: «Милые бранятся — только тешатся». Лишь одно грустное обстоятельство в известной степени омрачало семейное житье-бытье, У них пока не было детей. Но что за дом без детских голосов? Степан Артемьевич переносил бездетность стоически, надеясь на обещанное врачом туманное будущее, но у Лизы это выливалось в повышенную нервозность. Муж успокаивал ее, был предупредителен и ласков, но дурное настроение последнее время посещало ее частенько.
Как-то, придя с работы, Степан Артемьевич после ужина по привычке прилег на диван с газетой в руках. Лиза прибирала со стола, мыла посуду. Вдруг она уронила чашку в миску с водой, села на стул и тихонько заплакала. Он встревожился и спросил:
— Что случилось, Лиза? Почему ты плачешь?
Она утерла слезы концом полотенца, которое держала в руках, и сказала в отчаянии:
— Зачем я сюда приехала? Боже мой, тут и слова-то сказать не с кем. И что я вижу? Квартира — библиотека, библиотека — квартира. Вот и все…
— А что нужно еще? — развел он руками в растерянности. — Ты ведь и в городе видела то же самое: квартира — библиотека и наоборот. Ну еще в свободное время посещала лавочки, покупала парфюмерию. В кино ходила… Так ведь и здесь показывают кино, и в сельповском магазине есть кое-какие помады…
— Ах, оставь свой детский юмор! — Лизе не понравился его тон.
— Зато тут чистый воздух, прекрасная природа! Гуляй в свободное время, любуйся пейзажами. Познакомься с местной интеллигенцией, сходи в школу, к учителям. Или хочешь я познакомлю тебя с агрономом, зоотехником, инженером? Пригласим их в гости.
— Ах, оставь! И вообще… — Лиза метнула на мужа разгневанный взгляд. — Если бы я была Левитаном, то сидела бы с этюдником где-нибудь на берегу и молчала. А с твоей интеллигенцией знакома, бывают в библиотеке. Люди неплохие, но скучные…
— Напрасно ты так о них. Нельзя поверхностно судить о людях и делать поспешные выводы. — Он осторожно положил руки на ее мягкие теплые плечи. — Зачем хандрить? Надо беречь нервы и вообще здоровье. Почему ты представляешь все в мрачном свете? Здесь живут и вовсе не сетуют на судьбу и не хнычут люди, ничем не хуже нас. Вот закончат строительство коттеджа — переедем туда из каменного дома. Там будет участок, станем разводить цветы, сажать овощи. У тебя появятся новые заботы, привьется вкус к сельской жизни, к природе пробудится интерес.
— Природа — это хорошо. Но разве дело только в ней? — суховато спросила Лиза, еще раз утерев слезы. — Прости… У меня почему-то плохое настроение…
Он вздохнул и отошел несколько озадаченный.
Минутные приступы меланхолии приходилось прощать жене. Что поделаешь, она же горожанка и ей тут и в самом деле скучновато. Подруг не завела. Потому и требует повышенного внимания к себе. А он вечно занят. «Управлять» женой для Степана Артемьевича было, пожалуй, не легче, чем совхозом. Там хоть, по крайней мере, у него были помощники. А тут ему одному приходилось улавливать малейшие отклонения в ее настроении и приноравливаться к ней…
Но он любил жену и потому прощал ей все. Откуда ему было знать, что всепрощение порой приводит к отрицательным последствиям?
«Свозить бы ее в этот самый Санта-Крус, полегчало бы», — подумал Степан Артемьевич.
Погода была не то чтобы чрезмерно уж скверной, с проливнями и пронизывающими холодами, но неприветливо-странной. Недаром люди твердили о високосном годе. В небе уже которую неделю толпились низкие и плотные облака, напоминающие серый подкладочный ватин, и солнце никак не могло пробуровить их плотные пласты. Порой из облаков сеялся мелкий холодный дождик — скупой и нерешительный, будто выжатый. Степану Артемьевичу казалось, что эти угрюмые «несельскохозяйственные» облака, напоминающие коричневатый дым из трубы старой котельной, будут торчать над Борком, над лугами, полями и перелесками до тех пор, пока не загубят на корню весь урожай трав и злаков.
Будто канули в вечность добрые старые времена, когда все было объяснимо и предсказуемо: если уж мороз, так под минус сорок, а жара — так раздевайся до трусов и загорай. А случится дождик, так непременно ливень с веселым громом на полчасика, а потом — опять ясно. «Пожалуй в детстве всегда было так, — думал Лисицын. — Природа, по крайней мере, не знала полутонов, краски у нее были яркие, радужные, или контрастно-темные. А теперь — ни то, ни се, ни солнце, ни гроза. Одна муть в небе и тягучая тоска».
В мае было переменно, с преобладанием солнечных дней, но потом откуда-то навалился циклон. Облачные напластования закружились, словно гигантская карусель, против часовой стрелки, и ось этой карусели оказалась прямо над Борком. Все в небе было похоже на циклопическую океанскую воронку, затягивающую в себя вся и все, как в одном из рассказов Эдгара По.
Один борковский старожил, из тех, у кого барометр помещается в суставах и пояснице, Еремей Чикин, утверждал, что этот циклон, который «приперся с запада», задержал льды в Баренцевом море, и потому в Борке, как и во всем понизовье Северной Двины, холодно и неуютно, словно в нежилой избе с нетопленной печью.
Так обстояло дело с погодой. Сельскому жителю приходилось приспосабливаться к ней. И рабочие совхоза поступали именно так. Сенокос начинать рановато, уборку — тем более. Трудились по-настоящему только животноводы да трактористы на разных работах. Остальные занялись благоустройством своих усадеб, перекрывали шифером крыши, опушали вагонкой стены домов.
В Борке было две улицы. Одна тянулась вдоль угора, другая пересекала ее и обрывалась там, где под угором начинался обширный приречный луг. Конец поперечной улицы шел на север и у околицы переходил в проселок, что вел через поле к леску. Перед леском на холме стояла еще деревенька — Горка. Когда-то в ней было до полусотни дворов, и там располагался центр колхоза, созданного в тридцатые годы. Но теперь Горка захирела, часть жителей перебралась в Борок, а другие разъехались по городам. Большинство старых изб перевезли на центральную усадьбу или раскатали на дрова. Теперь на Горке в шести домах жило около десятка пенсионеров. Они никак не хотели переезжать в Борок, сколько Степан Артемьевич их ни уговаривал. Он намеревался вовсе ликвидировать Горку с ее древними избами и, распахав там землю, засеять ее кормовыми культурами. Но, поскольку ее обитатели не хотели покидать свою отчину и сопротивлялись директорским нововведениям, он пока отложил эту затею. Упрямству горских старожилов не было предела, никакие доводы на них не действовали.
В центре Борка на перекрестке стоял бывший купеческий дом, занятый под школьный интернат. В летнюю пору он пустовал, и здесь временно поселяли студентов или шефов из города, приезжавших на сенокос или уборку. Напротив интерната — клуб, через два дома от него сельсовет, а дальше продмаг и сельмаг. Там же располагалась и совхозная контора. На западной окраине Борка появился новый «микрорайон» — три двухэтажных восьмиквартирных жилых дома и общественная баня с котельной. Еще дальше, за селом — конюшня. Два дома и баню возводил старый директор, а третий дом достраивал Степан Артемьевич. Под его же руководством в совхозе соорудили свинарник, телятник и провели по улицам ко всем домам водопровод. С момента заселения этих земель новгородцами ничего подобного здесь не было: жители пользовались колодцами или носили воду ведрами из речки.
В общем, Борок представлял собой некое смешение старого и нового. Старое еще преобладало, новое начиналось. Дедовские избы подновлялись, обшивались вагонкой, украшались резными балкончиками, покрывались шифером, а новые каменные постройки являлись провозвестниками будущего.
В старой деревне имелись свои минусы, которые неизбежно и закономерно тянулись из прошлого. Главным, что раздражало директора и не давало ему покоя, было двадцать пустующих домов в Борке. Внешне они выглядели отнюдь не сиротскими — были и облицованы, и покрашены, и у них имелись хозяева. Но они жили в городе или в ближайших поселках лесорубов и сплавщиков и работали на производстве. В избах в качестве сторожей обитали древние старушки. Летом горожане приезжали целыми семьями в отпуск в дедовские избы и отдыхали здесь, как на дачах. А зимой избенки опять казались нежилыми…
Степан Артемьевич думал, как бы покончить с этими «дачами», передающимися по наследству, покончить навсегда, бесповоротно. Но осуществить такое наступление на дачный сектор мешал Закон о личной собственности граждан. А какое право они имеют на такую собственность, если в селе не живут и не работают?
Степан Артемьевич предпринял попытку наступления на дачный сектор. Было это в июне, в пору теплых дождей и обильного цветения всего сущего на земле. Он пригласил к себе в кабинет помощников, чтобы посоветоваться с ними.
— Рабочих рук, особенно молодых и сильных, у нас нехватка, — сказал он. — Я подумал и решил обратиться в бюро по трудоустройству населения. Дадим заявку, обговорим условия найма. Но у нас нет свободных квартир. Если люди приедут, разместить их по избам рабочих совхоза вряд ли удастся. Известно — чужой человек в доме помеха. Не сделать ли так: в Борке я насчитал по меньшей мере двадцать домов бывших колхозников, нынешних горожан. В них бы и разместить дополнительных работников. Правильно ли, когда на совхозной земле стоят жилые постройки, принадлежащие людям, которые давно утратили связь с совхозом? Они же приезжают на лето только как дачники.
— Наследные принцы! — неодобрительно заметил главбух Ступников.
— Вот именно — наследные…
— Вряд ли они сдадут нам свои особняки в аренду, — засомневался Новинцев.
— Я веду речь не об аренде, — продолжал Степан Артемьевич. — Надо обобществить эти дома, выдав их хозяевам денежную компенсацию. Ведь можно нам выделить для этого средства? — обратился он к главбуху.
— Надо подумать, — осторожно ответил тот. — В районе посоветоваться.
— И ты уверен что владельцы эти продадут нам дома? — усомнился Новинцев. — Вряд ли. Горожанам нужны дачи. Деньжата у них водятся.
— Пошлем им письма с таким предложением: или переезжайте к нам и работайте в совхозе, или продайте нам дома, — настаивал Лисицын.
— За такие ультиматумы нас очень свободно могут взгреть, — Новинцев озадаченно наморщил лоб. — Это личная собственность, охраняемая законом.
— А общественные интересы? Разве не должны они ставиться выше личных! Я думаю, в районе нас поддержат, — закончил Лисицын.
Все призадумались. Предложение директора было не лишено здравого смысла и казалось осуществимым. Однако Новинцев все сомневался.
— Могут поддержать, а могут и не поддержать, — глубокомысленно заметил он.
Зоотехник Яшина, молодая рослая женщина с пышными формами, жена главного инженера Челпанова, прервала затянувшуюся паузу:
— Никак не могу понять, как это люди оставляют отцовский кров и разъезжаются по городам. Что их там привлекает?
— Вечная тема! — махнул рукой ее муж, невысокий, лысенький и востроглазый. — Сколько об этом говорить? Ведь все ясно как божий день.
Эта супружеская пара приехала в совхоз после института года четыре назад. Боровчане удивились, что муж и жена живут под разными фамилиями, но потом привыкли. И мало кто подумал, что этот вроде бы незначительный внешне факт некоторым образом выражал характеры в общем дружных, любящих друг друга людей. А характеры были разные. Так, например, если один из супругов высказывал по какому-либо поводу свое мнение, другой незамедлительно противоречил ему и старался во что бы то ни стало утвердить свою правоту. Даже внешне они выглядели разными: маленький, тщедушный Челпанов рядом с дородной супругой Яшиной казался всего лишь неким приложением к ней. Несмотря на это, он обладал более сильным характером, и его стремление возражать супруге было неукротимым.
У них имелось трое мальчиков. Живые, озорные, они бегали по селу, проказничали, и боровчане окрестили их «Яшины-Челпановы огольцы».
Супруги умолкли. Они сделали свое дело: одна сказала, другой возразил. Но дальше эту тему стал развивать главбух Ступников.
— Всему виной образованность, — произнес он категорически. — Именно! Надо смотреть правде в глаза. Окончил молодой человек школу — ему уже зазорно жить в родном селе, вкалывать на полях и фермах. Ему подавай институт, университет, акадэмию (он сделал ударение на «э»). Ну, на худой конец, какое-нибудь училище. Он желает стать классным специалистом, интеллектуалом, кандидатом каких-нибудь наук, хочет жить в городских апартаментах. Он пуще всего боится, чтобы про него говорили: «он из деревни». А что деревня? Вся Россия-матушка вышла из нее. Испокон веку город черпал здесь силы и людей. И еще скажу: вот прежде, до революции, были белая кость и черная кость. Белая не работала, а только управляла и пользовалась всеми привилегиями. Но ее, белой кости, было в общем немного. А черная кость — все остальное население — работала ручками, ручками! Пахала землю, возила навоз, косила сено, пасла и доила коров. Теперь черной кости у нас вроде нет, осталась одна белая. Вот в городе, говорят, в больницах некому горшки выносить из палат, санитарок нету. Одни медицинские светила. А уборщиц в иные учреждения, чтобы полы подмести да ковры пропылесосить, агитируют с цветами, чуть ли не с духовым оркестром. Во, брат, дожили! Простую физическую работу никто не желает выполнять, потому как осталась белая кость, а черной нету. Все с образованием и с… претензиями.
Ступников, мужчина средних лет, рябоватый и длинноносый, произнеся эту тираду, разволновался, на щеках у него пятнами выступил румянец, и обычно серые холодные глаза негодующе засверкали. Выслушав его довольно консервативное суждение о «белой» и «черной» кости, Степан Артемьевич расхохотался от души. А Новинцев нахмурился и счел нужным поправить главбуха.
— Дремучее невежество, — сказал он. — Вы, товарищ Ступников, мыслите устаревшими категориями. В вас заговорил деревенский мещанин. Разве образованность — не великое достижение общества? Тут дело совсем в другом.
— В чем же, по-вашему? — глаза у Ступникова загорелись, как у заядлого спорщика. — Надо резать правду-матку!
— Ваша правда однобока. Вы смотрите только со своей колокольни, — продолжал Новинцев. — Дело вовсе не в том, что они не хотят, как вы говорите, выполнять простую физическую работу. Неужели вам не ясно: на промышленных предприятиях и стройках хорошо отлажены производство и быт. А у нас эти условия мало чем отличаются от тех, что были и десять, и двадцать лет назад, за небольшим исключением. Когда мы поставим хозяйство на современный уровень и построим хорошие жилые дома, клубы и прочее, люди, наоборот, станут приезжать к нам.
— Хорошо бы! — сухо проговорил Ступников. — Только когда это будет?
— В передовых хозяйствах страны дело обстоит именно так.
Лисицын вернул сослуживцев к тому, ради чего собрались:
— Ладно, давайте конкретно. Вы поддерживаете мое предложение?
Его поддержали все, кроме Новинцева, который стоял на своем: нельзя замахиваться на личную собственность. Лисицыным же руководило то, что ежегодные летние наезды «наследных принцев», как их называли в Борке, их праздное времяпрепровождение привносили в трудовую совхозную жизнь некоторый разлад и отрицательно влияли на дисциплину.
Когда все разошлись и Лисицын с Новинцевым остались вдвоем, Иван Васильевич сказал:
— Затея твоя с этими избами все-таки зряшная. Нам надо вести новое строительство. В районе тебя не поддержат, и ты окажешься в неловком положении.
— Посмотрим! — упрямо стоял на своем Лисицын. — Пойми, Иван Васильевич, что эти пустующие избы и дачники у меня как бельмо на глазу. Пора с этим покончить. Пусть себе строят дачи в других местах и отдыхают в свое удовольствие. Совхозная земля не для этого. Новое надо, но ведь и старое еще пригодится. Я собираюсь дать заявку о найме рабочих со стороны. Приедут люди — где разместим? Ну, несколько семей устроим, а если больше?
— Наивный ты человек. Кто приедет к нам работать по найму?
Лисицын все-таки поступил по-своему, отправился в районный центр за поддержкой.
…ГАЗ-69 резво мчался по большаку. Дожди кончились, дорога подсохла, и за машиной оставался пыльный шлейф. Было ясно, солнечно и сухо. Это благотворно действовало на Степана Артемьевича, который строил в пути далеко идущие планы.
Но парторг оказался прав. Лисицын там не получил добро, да и сам понял, что, оказывается, не очень продумал свое решение.
В сельскохозяйственном управлении ему сказали, что никаких денег на покупку частных домов выделить не могут. Однако начальник управления, видя огорчение Лисицына, счел нужным заметить, что директор совхоза является распорядителем кредитов и при известной находчивости может выйти из положения. Это было сказано в виде намека: дескать, ты хозяин, тебе и карты в руки.
Степан Артемьевич вышел из управления озадаченным, перебирая в уме возможные варианты выкраивания денег на это «сомнительное», как заметил начальник управления, предприятие.
Потом он заглянул в контору службы трудоустройства.
Служба состояла из одного заведующего отделом по труду. Он сидел в маленьком кабинете и рылся в ящиках письменного стола, выдвигая и со стуком задвигая их. Увидев посетителя, он перестал выдвигать ящики, поздоровался и указал на стул. Лисицын сел. Заведующий — тощий, предпенсионного возраста мужчина — сказал:
— Я слушаю вас.
Он был чем-то озабочен, в движениях его сквозила нервозность. Степан Артемьевич, отметив это про себя, приступил к делу.
— Я — директор совхоза «Борок», — представился он. — Мы хотим дать заявку о найме рабочих. Нам потребуется на первых порах человек двадцать.
Заведующий протянул руку:
— Давайте.
— Заявку я еще не принес. Зашел выяснить, можете ли нам помочь и каким образом.
Рука заведующего опустилась. Он полуприкрыл усталые тускловатые глаза чуть припухшими веками и заговорил сухо и отрывисто:
— Делается все просто. Вы дадите заявку, оплатите счет. Мы извещаем население о наборе рабочих. Как придут люди — направляем к вам.
— И все?
— Да. Но я не очень уверен, что охотники поехать на село найдутся. Гарантии нет. Впрочем, там видно будет. — Заведующий взял со стола объявление. — Вот, полюбопытствуйте, каков спрос.
Степан Артемьевич ознакомился с объявлением. На ремонтно-механический завод приглашались аппаратчики, машинисты компрессорно-кислородных установок, электрослесари, фрезеровщики, шоферы, грузчики, инженеры связи и так далее. Завод обещал предоставить нуждающимся общежитие, семейным — квартиры и всем сдельно-премиальную оплату труда.
«Заманчивые условия. — Лисицын подумал, что вряд ли он сможет предоставить всем рабочим квартиры и сдельно-премиальную оплату. — Впрочем, почему бы нет? Только не сразу».
— Таких объявлений много, — заведующий аккуратно спрятал листок в папку. — Спрос велик, скажу вам, а предложений маловато. Очень часто приходят те, у кого трудовая книжка сплошь заполнена записями «принят — уволен». Бывает, что явятся прямо с поезда и сразу требуют аванс. Хорошего работника дело держит, а плохой мотается по свету.
— Наверное, не все такие, — усомнился Лисицын.
— Не все, — охотно согласился заведующий. — Вы принесите заявочку, и все оформим.
— Ладно, принесем, — Лисицын попрощался и пошел в райисполком.
Райисполком находился в центре живописного, очень зеленого села Чеканово, раскинувшегося по берегу притока Северной Двины, в новом каменном здании. Напротив него, через площадь, почти в таком же здании располагался райком партии. Обе постройки выходили фасадами на площадь и смотрели окнами друг на друга. Их разделял только недавно разбитый в центре площади скверик. В нем на клумбах желтели ноготки и белели большие садовые ромашки.
Степан Артемьевич быстро поднялся на второй этаж в приемную, застланную широким ковром. Ему повезло: в тот день не было совещаний, никто не ждал очереди на прием, и секретарша — моложавая востроглазая женщина с шиньоном на макушке — сразу впустила его в кабинет.
Председатель райисполкома Семен Семенович Кашутин, высокий, солидный мужчина средних лет, поднялся навстречу Лисицыну, поздоровался и внимательно его выслушал. Затем вежливо улыбнулся и покачал головой:
— Значит, я понял тебя, Лисицын, так. Ты решил через бюро по трудоустройству пригласить людей на постоянную работу в совхоз, а чтобы было где им жить — купить пустующие дома частного сектора.
— Совершенно верно, — подтвердил Лисицын. — Но для этого нужны деньги и ваше разрешение.
— Деньги! — уже серьезно продолжал Кашутин. — Вот капиталисты умеют делать деньги… У них есть такой термин: «делать деньги». Миллионы делают! А мы все просим. Сколько еще будем жить на дотации? Что это за хозяйство, если от него одни убытки?
— Я ж не капиталист, — полушутя возразил Лисицын. — Вы не сказали, как они делают деньги! Они же тянут из народа все жилы!.. Они же эксплуататоры и мировые разбойники-грабители! У нас все по-другому…
— Вот-вот, — государство дай, государство выдели, государство спиши долги, государство залатай дырки. А сами что? Ну, о капиталистах я так, к слову… Мы должны быть по-советски деловыми людьми. Деловыми, понимаешь?
— Мы же… — Лисицын чуточку растерялся, — мы же не сидим сложа руки. Мы трудимся!
— Трудиться-то, конечно, трудитесь, — Кашутин вздохнул и спрятал в стол тоненькую папку. — Только результаты ваших трудов мизерны. А почему? Надо думать! Хорошенько думай, Степан Артемьевич! От средств, вложенных в хозяйство, должна быть отдача. Надо получать в несколько раз больше, чем расходовать. Это — азы хозяйствования. Понимаю — ты молодой руководитель, опыта еще маловато. Но образование у тебя — дай бог всякому. Высшее, инженерное! И смекалкой не обижен. Вот насчет старых изб ты смекнул быстро. Они рядом, купил — и весь разговор. А зачем тебе их покупать? Скажи: зачем?
— Я же объяснил…
— Лично я, дорогой мой, эту затею не одобряю.
— Почему, Семен Семенович?
— А вот почему. С одной стороны, ты затеял вроде бы нужное дело — увеличить жилой фонд совхоза. Но с другой стороны, зачем тебе покупать старье? Снаружи-то избы обшиты вагонкой и выглядят вполне прилично. А под вагонкой что? Старые трухлявые срубы. Печи, наверное, тоже не годятся. Зачем городским дачникам перекладывать их, если по зимам тут не живут? Ох, наплачешься ты с этой недвижимостью. Если купишь да займешься ремонтом — вылетишь в трубу.
— Те, кто будет жить — сами отремонтируют, — не очень уверенно возразил Лисицын.
— Вряд ли. Ты пошел не по тому пути, — Кашутин склонился над столом, подавшись к Лисицыну. — Извини, брат, но мы не можем одобрить покупку старья. На новое строительство, так и быть, деньги дадим, а старые развалюхи — это несерьезно.
— Это помогло бы временно решить проблему.
— Проблемы надо решать не временно. Решения должны быть радикальными и перспективными. Строй — и весь сказ. Людей нет — ищи, нанимай, но строй то, что надо совхозу. Пусть в хозяйстве все будет крепко, основательно. Тогда и люди придут и закрепятся на земле, на второстепенное не разбрасывайся.
— Но ведь те дома пустуют. А пустой дом, говорят, — сирота.
— Они же не твои. Пусть стоят, что тебе за дело?
— На совхозной земле? — горячо воскликнул Лисицын. — Развели по всем деревням эти дачи, ездят летом, как в дома отдыха. Грибы, ягоды запасают, винишко попивают, а кое-кто и бабенок возит тайком для увеселенья. Дачный сектор нам вовсе ни к чему.
Кашутин пожал плечами:
— Одно могу посоветовать: если кто-нибудь из горожан соберется продавать наследственные дома, то желательно, чтобы их приобрели рабочие совхоза. Теперь скажи, как у вас с надоями молока на фермах?
— График выполняем.
— А сколько молока расходуете на внутрихозяйственные нужды?
— Населению Борка в день продаем через магазин до трехсот — четырехсот литров.
— Ну вот! — Кашутин покачал головой. — Совхозную буренку по-прежнему доят и горожане, и сельчане. Есть же указание о том, чтобы держать скот в личных хозяйствах!
— На это дело у нас пока идут не очень охотно.
— Прежде коров держали, а теперь не хотят?
Лисицын пожал плечами, не найдя ответа на этот вопрос.
Кашутин внезапно умолк и словно забыл о посетителе. Он думал о том, что у сельского жителя снизился интерес к личному хозяйству. Почему все-таки? Заработки повысились, жить стали лучше? Да, это так. Есть деньги — можно купить в магазине продукты. Это легче, чем возиться с коровой, поросятами, овцами.
Но только ли в этом дело? Не только. Ликвидация скота в личных хозяйствах была мерой слишком радикальной и преждевременной. Тогда говорили, что путь к изобилию — только через общественное хозяйство, а раз так, то зачем личное? Оно только отвлекает крестьянина от работы, способствует развитию частнособственнических интересов. Но общественное хозяйство тогда, в пятидесятые годы, да и сейчас еще не достигло той мощи, чтобы можно было снабжать продуктами и сельское население, дай бог обеспечить горожан…
Кашутин посмотрел на Лисицына. Тот сидел молча, в настороженно-выжидательной позе. «Сказать ему об этом? — думал Кашутин. — А зачем? Стоит ли ворошить прошлое. Было преждевременное решение, под которое еще не подвели реальной экономической основы. Никто не отменял главного условия: путь к обилию через развитое общественное хозяйство колхозов, совхозов, через образцовые высокопродуктивные фермы в каждом селе. Но… пока это еще не достигнуто, приходится заводить в личных хозяйствах скот, хотя кормовой баланс по-прежнему напряжен».
Кашутин вернулся к прерванной беседе:
— Ведь возле каменных домов у вас хлевов для скотины нет? Где же рабочим держать коров, поросят…
— Это зерно. Пожалуй, лучше строить небольшие индивидуальные домики с необходимыми надворными помещениями, — сказал Степан Артемьевич.
— Так действуйте! — тотчас отозвался Кашутин. — Что лучше, что удобнее — выбирайте сами. Мы же не навязываем вам дома-гиганты городского типа. Есть хорошие проекты на индивидуальное строительство.
Кашутин вышел из-за письменного стола, прошелся взад-вперед по кабинету и сел за длинный приставной стол, рядом с Лисицыным.
— А что у вас в перспективе? — спросил он. — Ты ведь слышал о животноводческих комплексах?
Лисицын, подумав, ответил:
— Такой комплекс требует обширных земельных массивов поблизости, а свободных площадей у нас нет. Кормопроизводство будет затруднено. Сейчас мы едва-едва обеспечиваем имеющиеся фермы…
— Допустим, так, — согласился Кашутин. — Но хозяйство развивать надо? Поголовье увеличивать надо? Что можешь предложить взамен?
— Для нас пока самое лучшее — добиваться большей отдачи от того, что имеем. Сейчас буренка у нас дает три с половиной тысячи литров в год, а надо, чтобы давала четыре, четыре с половиной тысячи литров молока. Для этого надо добывать побольше кормов. Кроме того, нужно расширять имеющиеся фермы, держать побольше скота.
— В каждом совхозном отделении?
— Да.
— А не лучше ли все-таки вместо такого разбросанного по деревням строительства создать единый комплекс голов на восемьсот?
— Кажется, мы к этому не готовы. Впрочем, я посоветуюсь со своими работниками и дам вам ответ несколько позже.
— Хорошо. А о старых избах забудьте. Они отжили свой век. Стройте новые дома, хотя бы такие, как этот ваш коттедж. Вы ведь строите его для директора и главного зоотехника?
— Коттедж заложил еще старый директор, это не моя затея, — осторожно уточнил Лисицын. — Но не скрою, мне бы хотелось в нем поселиться. Не знаю, удобно ли будет?
— Почему неудобно? Управленцам тоже нужно хорошее жилье. У тебя маленькая двухкомнатная квартирешка. Пойдут дети — тесно в ней будет.
— Будем строить такие коттеджи и для рабочих. Пожалуй, вы правы. Это лучше, чем покупать старые избы, — признался Степан Артемьевич.
— Ага! Наконец-то ты понял, что надо. Только ведите строительство продуманно. Жилье должно быть приближено к фермам и другим производственным участкам. Ну что же, Лисицын, приезжай почаще, будем советоваться. Перестройка хозяйства — дело очень сложное. Очень! Будь смелее в решениях и действиях. Но побольше думай. По пословице — семь раз примерь, один раз отрежь.
По дороге домой, сидя рядом с шофером, Степан Артемьевич против обыкновения молчал. Сергей, привыкший к дорожным беседам и побасенкам, поглядывал на него с недоумением и наконец спросил:
— Что-то вы невеселы, Степан Артемьевич! Видимо, беседа с начальством была не очень приятной?
— Нет, почему же… Беседа была полезной, — ответил директор. — Только поехал решать один вопросик, а уезжаю нагруженный кучей новых вопросищев…
— Вопросищев? — переспросил Сергей.
— Да.
— Это новое словечко: вопросищи. Надо будет запомнить, — Сергей рассмеялся, крутанув баранку на повороте.
— Вот нынче везде строят животноводческие комплексы, — как бы между прочим сказал директор. — Как по-твоему, по плечу нам такое дело?
— Это надо обмозговать, — ответил Сергей. — Видывал я на картинках эти комплексы. Бо-о-ольшое дело! Целое предприятие. На плакате — красиво. Только нам это, пожалуй, не по плечу. Деревни разбросаны на десять и больше километров, покосы, исключая двинские заливные луга, — лесные, мелкие. Травка на них тоже мелконькая… Где наберешь кормов для такой фабрики? И дорог у нас хороших нет. Эх, Степан Артемьевич, живем мы, как говорится, среди лесов дремучих. Где уж нам заводить такие комплексы…
(support [a t] reallib.org)