""Эль Гуахиро" - шахматист" - читать интересную книгу автора (Папоров Юрий)
Глава II. МИТТЕЛЬШПИЛЬ
Студентки гаванской школы иностранных языков в три пары рук с трудом поспевали за одним рубщиком. Его мачете сверкал под лучами яркого солнца, и звуки срезаемых и разрубаемых на части побегов сахарного тростника сливались в одну звенящую песню.
— Смотрите, девочки, до обеда осталось полчаса, а я сегодня даже не устала, — смеясь, воскликнула самая маленькая из них.
Девушки, хрупкие на вид, но быстрые и энергичные, подбирали рассеченные стебли, очищали их от листьев и укладывали в ровные кучки. Первое время им было трудновато, они не могли угнаться за малоразговорчивым рубщиком и прозвали его «перпетуум мобиле».
— Перерыв! — Из-за плотной зеленой стены в полтора человеческих роста, утирая пот с круглого лица, вышел толстячок — соломенная шляпа на затылке, рабочие перчатки под мышкой. — Выключай мотор, Луис Гарсия! Дай отдохнуть телу, и душа запоет еще до приема пищи. Идем поразмыслим. Мусагет[17] зовет!
Рамиро не сразу остановился, ему до межи недоставало метров двадцать.
— Кончай, Луис! Я же вижу, ты пашешь уже завтрашнюю норму. Но я от тебя, сеньор Молчальник, не отстану. Сегодня я уже настриг, сколько надо. Останавливай, Ну, будь человеком! Тебя приглашают выкурить сигару дружбы.
— Полчаса отсюда, полчаса оттуда. Где ж тебе хватит времени? — продолжая рубить, спросил Рамиро у подошедшего.
— Не во времени суть, а в том, что руки успевают.
— Ты, Херардо, оттого, может, быстрее других норму выполняешь, что во время работы стихи сочиняешь?
— Вот и ты уже рифмуешь. А мои стихи не рифмуются и не укладываются. Они вообще, — Херардо обернулся, чтобы удостовериться, что их никто не слышит, так как девушки находились неподалеку, складывая тростник в кучки для погрузочной машины, — они бунтарские…
— Против чего и против кого? — Рамиро отсек последний стебель у самой межи и разогнул спину.
— А, не спрашивай, Луис. Мне теперь и самому не ясно. Что это было и зачем? Твердо знаю: непонимание было. Я не понимал, и меня не понимали. Да ладно об этом… Пусть историки пекутся. Пойдем лучше посидим в тени.
— Эстер Мария, закончите — отдыхайте. Привезут обед, позовите нас! — Рамиро вытащил из кустов внушительных размеров глиняный кувшин, обшитый плотным сукном, занес его над головой, и из тупого носика потекла ему в рот струя свежей, прохладной воды.
Когда они с поэтом уселись в густой тени деревьев, Херардо спросил, заглядывая Рамиро в глаза:
— Луис, мы с тобой знакомы уже скоро месяц, а я про тебя ничего не знаю. Кроме разве того, что ты хороший человек, честный, справедливый…
— Тебе этого мало, чико?
— Нет! Но ты пойми. Мы интеллектуалы, у нас брожение умов. Такое кругом происходит! Не просто… Ты — человек труда. На заводе, говоришь, работаешь. Что там тебе было не ясно? Турнули ведь сюда по указу?
— Добровольно…
— Не болтай впустую, брат. Я разобрался, кто здесь доброволец, а кто…
— Хватит, Херардо! Хочешь посидеть со мной, давай о поэзии. Мне нравится, как ты об этом говоришь и как стихи читаешь. Не скрою… Завидую.
— Я и толкую, вот она вся разница между человеком труда и интеллектуалом. Я, пожалуйста, готов, в отличие от тебя, с удовольствием. Не упираюсь, как бык. Просят — я готов! О поэзии, так о поэзии. Пиит — он должен прославлять! Итак… Кубинская революция, самая значительная из всех революций, когда-либо происходивших в Америке, породила неисчислимое множество стихотворных произведений, поскольку она — Революция — вызвала к жизни, как принято выражаться, мощные творческие силы. Поэзия в нашей стране призвана отобразить величие народного движения…
— Мы не на лекции, Херардо! Иди к черту! Почитай что-нибудь.
— Что-нибудь этакое, что тебе должно понравиться. — Поэт подмигнул, улыбнулся лукаво, ласково-снисходительно. — Слушай.
— Это твое?
— Нет. Эрнесто Гевара, «Песнь Фиделю Кастро».
— Сам Че сочинил? Он сам?
— Да! А что? Ты сомневаешься? Почему, интересно?
— Ну, он… Да нет! Читай еще.
— Полагаешь, если человек взял в руки винтовку… Эка, Луис. Таким людям как раз и есть что поведать в стихах потомкам.
— Ага! А что-нибудь свое, Херардо?
— Я дал слово, что больше никогда не буду читать своих стихов. Это ни к чему!
— Ошибаешься. Напрасно! Ведь ты не можешь бросить поэзию, и она тебя не оставит. Так что где-то должна быть граница, где-то сила данного тобою слова обязана иссякнуть. Проведи черту! Считай, что это случилось сегодня.
— Мне это нравится, Луис. Будь по-твоему! Но все равно — только для тебя. О кубинце, который был на Плайя-Хирон.
— А ты был там, Херардо, на Плайя-Хирон?
— Сутки спустя после победы. Душа ликовала, но на все было печально глядеть. Разум заставлял сесть за машинку, а душа… душа страдала. Муза противилась, протестовала: лилась одна и та же кубинская кровь в угоду тем, кто нас не понимает, кто нам противопоказан… своею алчностью, зазнайством, тупостью, торгашеством, невежеством, отсутствием души, любви к поэзии… Кто ценит лишь золото и золото…
— Хорошо тому, кто понимает, что не оно главное в жизни! Я это узнал недавно. — Рамиро хрустнул пальцами.
— Оно, если так разобраться, главный враг человека. Человек породил его на вечное свое страдание, когда какому-то кретину впервые пришла мысль вместо обмена — тыква на моток шерсти — предложить золото или, как у нас в Америке, например, зерна какао… и породить эту грязь.
— Я американцев не знаю. Рос я в деревне. Только после революции попал в город. Говорят, раньше их было на Кубе навалом, чувствовали себя как дома.
— В экономике я тогда ничего не понимал, но мальчишкой… готов был, Луис, убить любого из янки, когда видел, как они заговаривали, развлекались и спали за деньги с нашими женщинами…
— Ну, и убил хоть одного?
— Из игрушечного пистолета… Но, если бы и представилась возможность, я бы не сумел это сделать. Однако учить ненавидеть американцев, их помыслы, их образ жизни не устану. Перо мое не затупить!
— А рубишь тростник до седьмого пота почему?
— Как тебе объяснить…
— Ведь не из-за страха. Или боишься? А может, чтобы быстрее попасть в Гавану? — Теперь уже лукаво улыбался Рамиро.
— Там, где страх, Луис, у меня давно мозоль выросла. Никому бы не стал признаваться. Тебя бы хотел иметь братом. Я один на свете… В человеке, Луис, есть нечто такое, что, когда это самое затронут, с тобой происходит перемена… и ты, ты уже делаешь все и трудишься не для себя — для других. Жаль только, что такое состояние быстро проходит.
Издали послышался голос Эстер Марии:
— Джентльмены, компаньеро, обед подан! Мы ждем. Идите!
Рамиро молча поднялся с земли. «Да, прежде всего надо уметь видеть! И во всем разбираться. Ложное не принимать на веру. Хитрецов и мерзавцев просвечивать насквозь и не давать им резвиться! Человек податлив, его так легко обмануть. Доверчив и прет туда, куда ему совсем не надо», — думал он.
После обеда Рамиро просмотрел свежие экземпляры газет «Гранма» и «Хувентуд Ребельде». Ему дали понять: необходимо их читать каждый день. Рамиро удивился самому себе, когда почувствовал, что втянулся и уже ощущал потребность в ежедневном чтении.
Отложив газеты, он выбрал место поудобнее и растянулся на траве, пережидая, когда немного спадет полуденный зной. Лежа на спине, закинув руки за голову и слегка прикрыв глаза, он вспоминал мать и Марту… Сердце заныло: многое еще было неясным. И совсем не ясно, увидит ли он когда-либо Марту. Последние события необъяснимо сблизили Рамиро с ней. Расстались они перед его отъездом на Кубу как-то по-дурацки. Марта, своей женской интуицией предчувствуя разлуку, пообещала ждать его. А он, он ничего не ответил ей на это, за что сейчас ругал себя последними словами,
Когда другие рубщики потянулись каждый к своему участку, Рамиро с облегчением вздохнул и вскочил на ноги. На делянке девушки трудились, не разгибая спин. Ближе к вечеру — солнце уже клонилось к горизонту — за спинами работавших послышался громкий голос:
— Как сегодня у вас дела? Вчера вы вышли на первое место. Думаю, и сегодня будет арроб[18] двести.
— А лучшие дают триста и больше, — буркнул Рамиро, узнав голос Педро Родригеса, который вот уже три дня как навещал его под видом корреспондента из столичного журнала.
— То, Луис Гарсия, профессиональные рубщики, а вы добровольцы. Погрузчики утверждают, что ваш тростник к тому же самый чистый. Значит, и самый сладкий…
— Я твердо знаю, мы должны давать двести пятьдесят! — не принял шутки Рамиро. — Девочки вот только… им бы еще одну. Тогда можно было бы говорить…
— Ну, хорошо! Голос прессы праведный. Думаю, к нему прислушаются. А пока, может, перед этим подвигом стоит отдышаться? — предложил Родригес. — И вы, девочки, отдохните, а потом еще часок, и… Норму-то сегодня уже перевыполнили. Посидите, а я тут побеседую с лучшиим рубщиком района. Он и сегодня обошел своего приятеля-поэта.
Родригес увел Рамиро к ручью. Оба разулись и опустили ноги в прохладную воду. Ветвистое дерево гуаябы, на котором уже созревали плоды, давало густую тень.
— На заводе все в порядке! Там ни у кого никаких подозрений. — Педро увидел ползущую в двух шагах гусеницу и стал швырять в нее камешки. — Все считают, что тебя отправили на сафру в порядке дисциплинарного взыскания. О настоящей причине никто не догадывается. Ревизия, которую мы специально провели, конечно, не выявила недостатков, а на днях на общем собрании за тебя вступились рабочие. Мы на глазах у всех возвратили заводу инструмент, было признано, что «хищение» произошло до тебя. С этой стороны, как видишь, все ока.[19] И здесь тобой довольны…
— Да чего такого я тут сделал? — Рамиро знал, что он отличился, и ему доставляло удовольствие немного порисоваться.
— Ладно уж! — снисходительно заметил Родригес, отметив про себя: если его друг гордится содеянным, значит, сознает, что общественно полезный труд есть надежный метод воспитания. — Помалкивай! Ты потрудился на славу! Доказал, что все понимаешь правильно.
— Знаешь, Педро, вчера срубил двести с хвостиком. Устал так, что сел под эту самую гуаябу, прислонился к стволу… Девушки закончили и ушли, а я — как провалился… Приснилось, что лечу над горами, вместо рук — крылья. Так стремительно, но плавно, и слышу голос любимой, она ведь осталась в Майами. Я тебе еще об этом не рассказывал. Ясно так слышу ее голос! Проснулся, уже темно. Заря, должно быть, только угасла. Сердце стучит, а над головой синсонте поет. Надо было спешить. Могли забеспокоиться, что меня нет. Точно, думаю, спохватились.
— Да! Так оно и было. Хотели уже искать. Все могло случиться. Однако кто-то сказал, что видел тебя спящим у ручья.
— Спал так крепко, что проснулся весь в поту. Вот синсонте выручил, успокоил. Педро, даю слово, никогда такого не слышал. Что мне эта птаха раньше? Для влюбленных. А тут сидел не шелохнувшись… Мать вспомнил… — Капитану Родригесу показалось, что голос Рамиро задрожал. — Я в грозу под дождь выбежал из дома, а рядом только что молния ствол каобы пополам расколола… Помню мамино лицо и теплоту груди. Это первое воспоминание в жизни, навсегда запомнилось. Мать несла меня на руках… А эта птица пела, и на душе стало так, как только бывало в детстве, рядом с мамой, И мне показалось, что я и синсонте и есть смысл всего… Я… птица… земля… Педро, моя земля! Ты должен помнить, как о нашей земле говорил падре Селестино. Где он сейчас? Ты его не встречал?
— О нем поговорим как-нибудь в другой раз. А тебе можно позавидовать!
— Да, Педро, это, наверное, и есть счастье, когда такое к тебе приходит…
— Кто как считает. Но то, что ты ощутил, как хорошо ни рассказывай, другому, не испытавшему то же самое, не понять. Я рад за тебя, Рамиро! Вижу, я не ошибся. Пошли, а то девочкам будет трудно снова браться за работу. Сегодня вечером — тебе разрешат отлучиться — приходи в правление сахарного завода, там еще поговорим.
После ужина, когда застрекотали цикады и заквакали кругом лягушки, Рамиро попросил разрешения у бригадира прогуляться до сентраля. К правлению завода он шагал, уже не замечая усталости, которая ощущалась во время ужина. Над головой ярко сверкали звезды, щедро усыпавшие черное бархатное небо. Он предчувствовал, что предстоит серьезный разговор, но не желал к нему готовиться. «Как получится! Я чист! Давно не дышалось так легко», — говорил он себе.
Они остались вдвоем — управляющий, молодой парень, переговорив по телефону с Гаваной, попрощался и ушел, и Родригес приступил к делу.
— Вот бумага и ручка, Рамиро. Последнее слово за тобой! Но, если хочешь, подумай еще. Время есть. Мы тебе верим, но дело опасное. Не хотим неволить…
— Педро, кто лучше, чем ты… ты же знаешь! Но… честно… я скажу… Я не все еще понимаю, Педро. Главного не понимаю. Куда Кубу ведет революция, какую конечную цель преследуете вы с Фиделем Кастро? Я хочу понять, но… эти два года… они на многое раскрыли глаза. Там, в Майами, все виделось по-иному, совсем по-иному…
— Постой, Рамиро! Ты сам понимаешь, сколько стоит это твое признание? Нам сейчас и важно, чтобы ты был с нами откровенен. Понимание, настоящее понимание придет к тебе позже. Я не сомневаюсь. А сейчас мы будем считать тебя пока попутчиком. Ты специалист, владеешь сложной профессией разведчика, и я как твой друг и как человек, несущий ответственность за определенную работу, тебе верю. И не только я. Кое-кто еще… Мы знаем твердо: ты снова, второй раз не пойдешь против… не предашь свою землю. Мы уверены!
Рамиро сжал голову руками.
— Что происходит? Как это понимать, Луис Гарсия? — спросил удивленно Педро Родригес, приглаживая пятерней свою густую шевелюру.
— Да нет! Ты же знаешь, что я никогда в своей жизни не читал стихов. Боюсь сбиться. Слушай!
— Мануэль Наварро Луна, поэма «Мать». Правильно! — Родригес улыбнулся и тут же сделался серьезным. — Я знаю, что ты так думаешь. Но повторяю, время есть. Дело не из простых. Опасное! Ни я, ни все мы тебя не неволим, повторяю!
— Я уже сказал! — решительно перебил своего собеседника Рамиро. — Давно все сказал! Вы тянете! Если не верите… Другое дело…
— Ну что ж, тогда слушай внимательно! Письмо о том, что думаешь и что готов сознательно, без принуждения, напишешь потом. — И Педро Родригес подробно сообщил Рамиро Фернандесу Гарсии план дальнейших действий.
В кафе было, как всегда, шумно. А вокруг уже знакомого нам столика в дальнем углу собралось еще больше народа, чем обычно. Маятник старинных часов раскачивался беззвучно. Лучший шахматист города Луис Гарсия возвратился после сафры в превосходной форме. Вот уже несколько вечеров подряд он выигрывал большинство партий у своего давнего соперника — молодого офицера пограничной охраны Фауре Павона. Сражения за шахматной доской сблизили противников, и все знали, что они подружились. Теперь Гарсию и Павона видели вместе и в клубе, и в парке, и на пляже.
Вот и сегодня они вдвоем ушли из кафе, о чем-то оживленно беседуя.
На следующий день Луис Гарсия зашел после работы в знакомый особняк. Там он сказал дежурному, что хочет видеть следователя, поскольку тот должен был выдать ему еще в прошлую среду справку-акт для завода. Часы показывали без десяти шесть. На стульях рядом сидели еще трое: невзрачный мужчина, глубокий старик и молодая женщина. Девять минут седьмого во двор въехал знакомый старенький «форд», из него под охраной двух сотрудников вылез арестованный. Еще через минуту, когда его ввели в дежурное помещение, воздух потряс оглушительный взрыв. Казалось, зашатались стены особняка. Раздался второй, третий… Туг же захлопали двери, в коридор с автоматами в руках выскакивали военные и мчались во двор. В дежурке появился начальник.
— Живо! Всех в камеру! — коротко приказал он дежурному. — Гляди в оба!
— Я тут при чем? Мне нужна справка. Не пойду! — энергично запротестовал Гарсия.
— Так надо, товарищ! Потерпи, пока разберутся, — извиняющимся голосом произнес дежурный, настойчиво подталкивая Гарсию в спину.
Когда щелкнул замок, Луис, усаживаясь рядом с арестованным, которого привезли на «форде», довольно зло произнес:
— Тоже мне «товарищ». Простую справку пять дней выдать не могут.
— Вы что, собираетесь туда? — спросил сосед. Гарсия, делая вид, что только сейчас заметил его, поглядел в лицо арестованного. Тонкие черты безусого лица, широкий лоб, светлые глаза, стройная фигура — киноактер, как охарактеризовал его Педро Родригес. «Верно! Мечтает о Майами», — подумал Луис. Тот не отвел глаз под пристальным взглядом. Лишь слегка улыбнулся.
— На заводе кто-то совершил кражу, до меня еще, а я вот справку никак не могу получить. В это время прозвучали еще два взрыва.
— Где это? — встревожился собеседник.
— Возможно, на заводе… и справка тогда может не понадобиться, — сказал Луис повеселевшим голосом, как бы от пришедшей внезапно ему мысли, хотя он превосходно знал, что на полигоне, который находился неподалеку за территорией завода, специально, точно в назначенную минуту подрывали старые боеприпасы.
Наступила пауза. Гарсия выжидал. Сейчас важно не заговорить первым. Но время шло, а его отпущено не так уж много. Луис собрался было рискнуть, как почувствовал, что сосед заерзал на скамье. «Ага! Тоже понимает, что времени мало», — подумал он и тут же услышал торопливый шепот:
— У меня есть деньги. Много! Мне надо послать письмо… обязательно надо… Помогите.
— Да что сейчас делать с ними? Кому нужны песо? — тихо возразил Гарсия.
— Есть и драгоценности… доллары…
Гарсия наклонился к соседу.
— Что надо?
— Отправить письмо. А еще лучше, если зайдете к другу…
— Нет! Не впутывай! Письмо отправлю. Давай адрес и говори, что написать.
— Я заплачу, чико!
— Мне деньги не нужны. Я на хорошем счету. Даже разрешение имею на выход в море. Влипнешь с тобой — и моторку отберут.
Гарсия не глядел на арестованного, но почувствовал, какое впечатление на того произвели последние фразы.
— Хорошо заплачу! Век буду помнить. Не пожалеете, сеньор.
— Нет! — отрезал Гарсия.
— У меня много друзей… Есть и там… — И арестованный, сжав руку в кулак, большим пальцем показал на потолок.
Этот жест означал — «там, на севере, в США». Поэтому Гарсия испуганно осмотрелся, но было очевидно, что их разговора никто не слышал.
— А за что здесь?
— Нигде не работаю. Уже месяц как сижу. Гарсия задумался. В это время за дверью камеры послышалось движение.
— Мой тебе совет — молчи! Ни в чем не признавайся. Раз месяц держат, значит, прямых улик нет. Быстрее давай адрес.
Адрес оказался простым, а текст еще проще: «Жду помощи. Кинтана».
— Это все?
— Да. А где ты живешь?
— В кафе «Оазис» спросишь Луиса Гарсию, шахматиста. Каждый знает
Дверь в камеру распахнулась, и Гарсия первым поспешил к выходу.
Прошел месяц. Возвращаясь поздно вечером из кафе, Гарсия почувствовал: за ним наблюдают. По меньшей мере двое. Гарсия знал, что Кинтану, который подозревался в нелегальном возвращении на Кубу и связях с контрреволюционными организациями, выпустили пять дней назад. С него взяли подписку о невыезде из города. Но он, как только вышел, сумел ускользнуть из поля зрения оперативных сотрудников и замести след.
«Он в городе явно не один. Ему помогают. Если скроется сам, вся операция сорвется, — думал Гарсия, шагая домой. — Но тогда… зачем им понадобилось устанавливать слежку за мной? Именно сейчас? Нет, не иначе он нуждается в помощи, а его люди помочь не могут. Скорее всего Педро прав, расчет его не подвел».
Рассуждения Луиса Гарсии оказались верными. На следующий день Кинтана встретил его у дома.
— Салют, Гарсия! Знаешь, все получилось вдруг как нельзя лучше.
— Ну и хорошо! Зайдем ко мне?
Гарсия жил на втором этаже дома для рабочих, построенного уже после революции. Перед зданием был разбит палисадник, густо заросший высокими кустами липии и бугенвильи. Через них к каждой квартире были проложены дорожки. К входу в квартиру, где жил Гарсия, вела отдельная лестница.
— Не опасно?
— Не бойся. Я один.
Они вошли, Кинтана осмотрелся. Убранство комнат было простым. В спальне — кровать, комод, зеркало над ним, шифоньер, ночной столик с транзисторным приемником «ВЭФ», по стенам фотографии актрис и боксеров. В холле под лампой с абажуром стол, несколько простых стульев, небольшой зеркальный шкаф, книжная полка, столик с телевизором, мягкий диван, из-под которого высовывались рукоятка ружья и ласты для подводного плавания. На телевизоре лежало чучело морской черепахи. Стены были украшены фотографиями Гарсии и его друзей — подводных охотников с трофеями.
— Вчера, чико, в тюрьме появился какой-то капитан из Гаваны, — начал рассказывать Кинтана, пока Луис выставлял на стол ром, бутылки кока-колы чешского производства, еду. — Говорят, в город должен приехать Кастро. Так капитан половину сидевших приказал выпустить. Боятся. — Кинтана опрокинул рюмку рома и запил кока-колой.
— Не такая, как там. Дрянь, верно? — спросил Рамиро.
— Ничего похожего. Там что надо!
— Я так и думал, что ты оттуда. Поэтому и работу найти не можешь.
— С чего ты взял? Ничего подобного! — Кинтана нагло улыбался, щеки покраснели, но было непонятно: то ли от выпитой рюмки чистого рома, то ли от злобы, что проговорился.
— Ладно, это я так, чтобы иметь представление, какую назначать цену. А Кастро действительно на днях будет митинговать у нас на заводе.
Кинтана взял себя в руки, но в следующей же фразе, произнесенной им, Гарсия почувствовал настороженность.
— Ну и пусть. Он знает свое дело.
— Послушай, Кинтана, говори сразу и открыто. Я ведь не мальчик. Понимаю, в чем дело. Здесь всякое может случиться. Ни «зелененькие», ни драгоценности не помешают, если не врешь, что они у тебя есть. Выкладывай, что надо, что ты от меня хочешь. Если смогу, договоримся о цене, и делу конец! — Гарсия видел, что перед ним хитрый, опытный и решительный человек, хотя на первый взгляд этого сказать было нельзя.
Кинтана выпил еще рюмку и, не проронив ни слова, пристально уставился в глаза Гарсии.
— И что ты можешь? — наконец спросил гость.
— Чистые листы бумаги со штампом и печатью завода, чистые бланки удостоверения. Возьму дорого. Не уверен я. Попадешь им снова в руки — ведь выдашь меня.
— Не годится. Деньги, говорю, есть. Здесь надоело, понимаешь? Туда хочу. Туда, где кока-кола настоящая. Понимаешь? Рыбаки знакомые есть? — Кинтана рисковал, но, видно, страх перед мыслью вновь оказаться в органах революционной безопасности лишал его терпения и выдержки.
— Рыбаки есть, но… среди них сейчас трудно найти кого надо. Большинство довольны. Да теперь в одиночку никто и не выходит, — ответил Гарсия, растягивая слова, словно обдумывал еще что-то.
— Три кольца с крупными бриллиантами, два золотых браслета, портсигар и сотня новеньких «гамильтонов».[20] Но чтобы наверняка!
— Есть одна возможность, но будет дороже. Рискованно! Зря не хочу пачкаться. Да и человеку, от которого зависит, надо крупно дать.
— Кто он?
— Есть один. С ним-то будет наверняка, если согласится. Но не знаю. Парень молодой, деньги любит… Строгой дисциплиной очень недоволен…
— Лейтенант, шахматист, что…
Но Кинтана недоговорил. Луис Гарсия опрокинул стул, одним прыжком оказался рядом, ударил гостя по скуле, вывернул ему правую руку и вытащил у него браунинг из-за пояса под рубашкой.
— Говоришь, вышел вчера? Подлец! Кому служишь? Тихо! — Гарсия свободной рукой открыл дверцу шкафа и вынул длинный узкий мешочек, набитый дробью. — Отобью легкие — всю жизнь кровью харкать будешь. Откуда тебе известно о шахматисте?
Побледневшее лицо Кинтаны медленно розовело. Он с трудом проговорил:
— Отпусти! Извини. Тебя проверял. Вышел я раньше. Дело ведь серьезное. Кому охота здесь умирать? Боялся, что завалишь, вот и проверял.
— Смотри, гад! На первый раз поверю. Но чуть что, за мной не станет… Выкладывай все из карманов. Ляжешь спать на моей кровати. В той комнате, связанным Понял? Остальные деньги где? За ними вместе сходим. Теперь ты в моих руках.
— Ладно. Делай как знаешь. Только помоги! Очень надо. — Лицо «киноактера» в эту минуту явно не годилось для съемок.
— Если клюнет, договоримся, — решительно сказал Гарсия. — Ему еще добавишь… если нет, сорвется — втройне заплатишь. Мне ведь тогда тоже уходить придется.
В последующие дни Луис Гарсия под видом выездов на подводную охоту — о том, что после шахмат этот вид спорта был его второй страстью, знали все, — на безлюдном берегу островка Эскивель создал тайный запас горючего. Затем сообщил Кинтане, что лейтенант Фауре Павон, начальник погранзаставы в рыбацком поселке Ла-Исабель, долго ломался, не хотел брать денег, но когда увидел драгоценности — дал согласие.
В ближайший воскресный день Гарсия и Кинтана с полным снаряжением подводных охотников задолго до рассвета появились на пристани Ла-Исабель. Лейтенант Павон сам проверял документы и сообщил дежурному бойцу, отмечавшему выходивших в море, что у спортсменов все в порядке.
Вечером лейтенант — это для него не составит никакого труда — черкнет против названия их моторной лодки «Манглес» крест, что будет означать: лодка возвратилась в порт. В то время, как предполагалось, перед заходом солнца Кинтана вручит сотню «гамильтонов» Гарсии, высадит его на островке, а сам уйдет в море. Гарсия же пересечет островок пешком до пляжа у маяка «Эскивель» и возвратится в Ла-Исабель на последней шаланде вместе с отдыхающими. Таков был план, сообщенный Кинтане. Однако в действительности расчет строился совсем на другом.
Весь день, пока они стреляли рыбу, готовили еду и отдыхали в ожидании захода солнца, Луис нервничал. Кинтана без труда это заметил, насторожился. Ему решительно не понравилось то обстоятельство, что Гарсия вдруг потребовал выдать ему доллары задого до наступления сумерек, — он сказал, что оставит Кинтану одного с лодкой и уйдет раньше. Все это сработало, и «красавчик», когда подошло время расставаться, изловчился и неожиданно съемочной рукояткой от руля ударил Гарсию по голове, связал ему руки, снес в лодку, побросал в нее снаряжение, завел мотор и, минуя островки, покрытые мангровым лесом, неуверенно направился в сторону Сотавенто. Кинтана намеревался обогнуть коралловый остров слева, выйти в открытое море и, ориентируясь по маяку «Мэгано», идти к банке — отмели Кай-Саль.
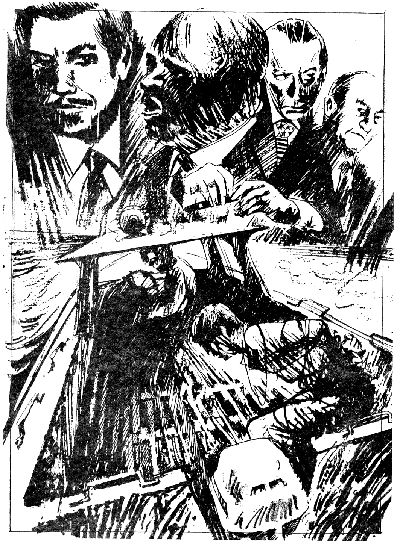 |
Луис очнулся и сразу же почувствовал сильную тупую боль в затылке. Первой его мыслью было: «Легко отделался — черепок, должно быть, вспух, но не раскололся. Значит, пока все идет как надо». Лежа ничком, он попытался пошевелить ногами. Но они, как и руки за спиной, были связаны. Мерно стучал мотор, и лодка легко скользила по небольшой волне. «Если не выбросил за борт, значит, боится остаться один. Не уверен, Ночью в море одному страшно. Подлец! Скорее всего польстился на тысячу долларов. Стало жалко. А может… Кто его знает, что думает этот гад» Волна пошла крупнее, Гарсия с трудом открыл глаза и определил по равномерно вспыхивавшим отблескам на борту, что они уже находятся в зоне действия маяка «Мэгано». Значит, выходят из пролива. Перевернуться на спину стоило огромных усилий. Голова раскалывалась.
— За что? — спросил Луис и испугался своего собственного голоса. «Что думает сейчас обо мне Педро? Стакан бы холодного пива…» — За что?
— Не скули! Еще будешь рад, — ответил Кинтана. — Посмотри лучше, правильно ли идем. Я на море, как рыба в пустыне.
— Денег пожалел, мерзавец! За все, что я сделал, так платишь? Отпусти хоть сейчас. Я не хочу туда. Мне туда нельзя, — умолял Луис.
— Если поможешь, слово даю: деньги отдам! Да еще расскажешь по радио, как пять дней паршивую справку получить не мог и про все другое, и про кока-колу, которую пить нельзя…
— Развяжи! Говорю тебе в последний раз. Отпусти, пока берег рядом. Доплыву…
— Идиот, акулы сожрут!
— Не твое дело Отпусти… Потом пожалеешь.
— Заткнись! Еще угрожать вздумал, — грубо прикрикнул Кинтана.
Гарсия видел, что лодка шла верным курсом — строго на Полярную звезду, поэтому замолчал. Предвкушая удачный исход, он думал: «Погоди, таракан, в золу запрячешься, когда куры пировать станут. Погляжу я на тебя тогда».
К вечеру следующего дня «Манглес» заметили рыбаки с острова Кай-Саль, взяли на буксир, повели в порт.
Как только они подошли к причалу, Кинтана отправился в селение. Возвратился он менее чем через час в веселом настроении. От него попахивало джином, он был чисто выбрит, одет во все новенькое. Вместе с ним в полицейский участок пришел представитель «Рефужи»,[21] предъявил удостоверение, и Гарсию выпустили.
В отдельном коттедже, где, Луис был уверен, под видом организации помощи беженцам размещалась резидентура ЦРУ, Гарсия наотрез отказался что-либо говорить. Он потребовал встречи с представителями властей США. Его отправили в Майами. Там офицеру иммиграционной службы он заявил, что он вовсе не Гарсия, а Рамиро Фернандес, что не желает встречи с прессой, что ни один фотограф не должен его видеть и что о нем немедленно следует сообщить руководству «Альфы-66».
Узнав об этом, Кинтана заволновался. Дело принимало для него явно неприятный оборот. Из-за тысячи долларов портить отношения с руководством «Альфы»… Нет, это не входило в его планы, и он, не задумываясь, заявил американцам и своим из «MRR»,[22] членом которой был, что притащил Гарсию с собой, так как тот связан с «Х-2».[23] «Уж очень у этого типа все складно получалось», — настаивал он в подтверждение. Руководство «Альфы» не поверило выдумке Кинтаны. В нее не поверили и работники ЦРУ, с которыми Рамиро Фернандес был связан. Однако железный закон подозрительности и недоверия, царящий в ЦРУ, действовал неумолимо. Для Рамиро наступили тяжелые дни.
Встречу с представителями «Альфы» ему не устроили. Вместо этого передали в руки Федерального бюро расследований, где начались допросы на «детекторе лжи».
Все это было Рамиро хорошо знакомо — и отвратительное ощущение прикосновения к телу холодных присосок, и яркий, ослепляющий свет в глаза, и специальные таблетки, и бессонные ночи. Но тогда в душе, в сознании его было иное. А что если сейчас их аппарат сработает? Что если их методы раскроют его истинное намерение? «Клянусь я в бой идти без страха, пусть дыба ждет меня и плаха!»[24] — вспомнил он слова Педро Родригеса, сказанные на прощание, и Рамиро впервые за много лет почувствовал, что нет у него в душе этого прежнего обреченного: «А, все равно!» Теперь хотелось победить.
Еще на Кубе, когда они с Родригесом прорабатывали вариант «детектора лжи», Педро советовал во время допросов мысленно читать стихи. Поэтому но первый «сеанс» Рамиро Фернандес пошел, повторяя про себя четверостишие Хосе Марти.
Допрос длился уже час, когда офицер ФБР неожиданно спросил:
— Вы агент Кастро?
— Я агент ЦРУ.
— Кто вербовал вас на Кубе?
«Чтоб жизнь была достойной, мы должны оправдывать ее борьбой и смертью».
— Я завербован в шестидесятом в Майами Эверфельдом.
— Кем еще? На Кубе!
— В Нью-Йорке мистером Громаном и мистером Фримэном.
— Мы знаем — вас перевербовали!
«Пусть я умру в борьбе — прекрасна смерть за родину и за свободу…»
Вслух Рамиро выпалил самую отборную ругань, которую знал.
— Говорю, меня силой привез Кинтана. Кретины!!!
Рамиро догадывался, что выигрывает. Он был абсолютно уверен в себе. Даже в самых глубинах сознания не было ни малейшего ощущения страха.
На очередной «сеанс» Рамиро шел, твердо зная, что выстоит.
На пятые сутки его посадили в новенький «бьюик» и повезли в направлении парка Эверглейдс к озеру Окичоби.
За высоким забором виллы тянулся тщательно подстриженный кустарник вдоль лабиринта аккуратно посыпанных желтым песком дорожек. То здесь, то там среди пышной зелени виднелись легкие строения. Тишина и безлюдие не вводили Рамиро в заблуждение. Он превосходно знал, что за каждой стеной этих «люкс-камер» находились на свободе опаснейшие из преступников, они разрабатывали планы, усваивали задания, готовились к действию…
Сопровождавший Рамиро мулат остановился у колонн парадного входа в сверкавшее белизной каменное трехэтажное здание. Дальше Рамиро повела миловидная рыжая девушка в очках. В комнате, куда он вошел, развалясь в креслах, сидели и курили Насарио Сархен, генеральный секретарь «Альфы-66», инструктор Сонни, давнишний работник ЦРУ кубинец Фернандо и еще двое неизвестных Рамиро американцев. Тот, кто сидел за столом, очевидно, был старшим по положению.
Рамиро поздоровался, вяло пожал протянутую руку представителя «Альфы», ругнулся крепким словцом и сел, не ожидая приглашения. Он еще не знал, что его показания были тщательно сверены с донесением Кинтаны. Анализ вскрыл, что Кинтана, сообщая те же факты, преподносил их явно тенденциозно.
— Извини, Рамиро, — первым заговорил Фернандо, — пока мы узнали…
Рамиро сжал зубы и пристально, с пренебрежением взглянул в сторону говорившего. Тот осекся.
— Чико, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, — закартавил по-испански инструктор Сонни, встал, подошел к Рамиро и похлопал по плечу.
— Я не мальчик. Все понимаю. Но, пока не увижу Кинтану, нам не о чем говорить, — решительно ответил Рамиро по-английски.
— Гуд! Вот это мы и собираемся сделать, — сказал тот, кого Рамиро счел за старшего. — Надо все уладить. В таком деле всякое случается. Не надо горячиться раньше времени. — Он нажал на кнопку, вделанную в ручку кресла.
Почти сразу же в комнату вошел Кинтана и, кисло улыбаясь, протянул руку Рамиро, но тот в ответ, не вставая, резким движением левой нанес ему удар в живот. Кинтана согнулся и от второго удара в лицо полетел на пол.
К Рамиро бросились со всех сторон, а он спокойно откинулся на спинку кресла и сказал:
— И это еще не все! Не советую тебе повстречать меня на улицах Майами, кретин! Я же тебя предупреждал… там, в лодке. Не поверил — умей рассчитываться!
Сонни стоял и улыбался, явно довольный. Насарио Сархен, видевший в Кинтане представителя соперничающей организации, тоже в душе наверняка оправдывал действия Рамиро. Но тот, кто был за старшего, побагровел и гневно спросил:
— Фернандес, зачем вы помогали Кинтане? Вы, Кинтана, идите, идите! — И, когда тот, утирая разбитый нос, закрыл за собой дверь, шеф еще строже переспросил: — Зачем вы помогали Кинтане? У вас на этот счет не было наших инструкций!
— Перед ним я себя не расшифровал. Я видел, что это свой. Он оказался в беде! Вы бы бросили своего?.. — Почувствовав, что выигрывает, Рамиро продолжил: — Уверен, мистер, что и вы помогли бы своему. Но главное, я думал: этот подонок все, как положено, честно расскажет, когда доберется сюда. А он? Возомнил себя Джеймсом Бондом, навыдумывал басен. Я полагал, был уверен — вам станет известно от него, и вы поймете, что меня пора вводить в дело. Поймете, что мне тошно там сидеть сложа руки. Два года! Вы шутите! Зачем? Я для этого не гожусь…
— Хорошо, об этом позже. Но вы ведь рисковали в операции с лейтенантом. На это у вас тоже не было инструкций!
— Он у меня в руках. Любит деньги. Я его обработал, как надо…
— Но это не входило в ваше задание! — Шеф явно стремился прижать Рамиро к стене.
— Не надо было выбрасывать меня без связи… Вы знаете, что я не могу без дела…
— Рамиро Фернандес! Задание вы не выполнили, и это отразится на вашем счете в банке! — Шеф сердито стукнул ладонью по лакированной поверхности стола.
— Мистер… не знаю, как вас там, — довольно грубо ответил Рамиро, — когда вы, наконец, поймете, что есть кубинцы, которые делают это не из-за ваших долларов? Плевал я на них! Я хочу действовать, чтобы наше «возвратимся через два месяца» не превратилось в «о возвращении забудь». А с заданием я справился. Надо было осесть? Я стал лучшим на заводе. Какого человека приобрел! Вы знаете, чего он стоит? Может быть, у вас много «окон»? Здесь меня знают — если я работаю, то действую наверняка! — Рамиро помолчал, собираясь с мыслями. — Чем считать мои деньги в банке, вы бы лучше быстрее распорядились отогнать «Манглес» к кубинским берегам. Пусть там думают, что с нами что-то случилось. А лейтенант еще пригодится…
Шеф встал, вышел из-за стола, вплотную приблизился к креслу, в котором сидел Рамиро, уставился ему в глаза, ожидая, чтобы тот поднялся. Рамиро продолжал сидеть, как изваяние.
— Ну, хорошо, Рамиро Фернандес! Мы подумаем. Сейчас идите, отдыхайте, приведите нервы в порядок. Потом поговорим и о новом задании. — Шеф достал из кармана тонкий золотой портсигар, щелкнул затвором, предложил сигарету.
Рамиро закурил и молча направился к выходу. Следом за ним вышел Фернандо.
— Ладно, чико, все утряслось. На вот, держи. — И он протянул пакет с деньгами и брелок с ключами. — Это от зеленого «шевроле», что стоит рядом с «бьюиком». Пользуйся! Поселяйся в «Гранаде» на Меридиан-авеню. Там мало кого встретишь. Номер будет оплачен. Рад тебя видеть! Потом посидим, пропустим, расскажешь, как там. Уверен, все будет о'кей! А сегодня не откладывай, сходи послушай Ольгу Гильот. Она возвращается в Мексику. Да смотри, чико, кто спросит — скажи, что живешь в Чикаго, — учтиво, с явным уважением, как бы советуя, говорил Фернандо.
К вечеру Рамиро Фернандес обзавелся всем необходимым и снял не очень дорогой, но вполне приличный номер в отеле «Гранада». За окнами виднелся Фламинго-Парк, чуть дальше просматривались пляжи Майами-Бич.
К концертному залу, где выступала знаменитая кубинская певица, жившая в иммиграции, он пришел пешком и, не понимая еще причины, почувствовал, что за два года его отсутствия Майами как-то потускнел. Даже в сверкании тех же реклам не ощущалось прежнего блеска. На улицах было меньше «кадиллаков», «паккардов», «линкольнов».
Рамиро приобрел билет с рук за тройную цену у перекупщика-кубинца. Среди публики, занявшей все места и проходы, почти не было американцев. Аплодисменты гремели после каждой песни, но как-то очень быстро обрывались. Когда Ольга Гильот спела «Кубинскую ночь», треть зала захлюпала носами. А после «Ностальгии по моей Гаване» плакали уже все. Рамиро не выдержал этого зрелища и ушел. Но, приехав в отель, он подумал, что следует отправиться в бар и там напиться, «подавляя страдания», хотя ему так хотелось, не медля ни минуты, ехать к Марте. «Нет, нужно выждать еще несколько дней. Лучше пусть они не знают о Марте!»
На следующее утро Рамиро поднялся только к ленчу. Побаливала голова, настроение было плохое, причину он хорошо знал — напился без всякого желания, в то время как ему безудержно хотелось видеть Марту. Проглотив две таблетки аспирина и выпив чашечку крепкого черного кофе, он вышел из отеля и незаметно для себя оказался на Флаглер — главной улице делового центра. Она была, как и прежде, торговой, прямой, шумной и однообразной. Те же роскошные магазины Вулворта, Бардина, Уайт-Кастел. Но продавцы почему-то не столь предупредительны. Вскоре Рамиро понял: магазины полны кубинцев-иммигрантов, которые кочуют от прилавка к стенду, от стенда к прилавку, берут в руки товар, вертят его и кладут на место. Уходя из магазина, оставляют там не более 99 центов.
Рамиро вышел на Восьмую улицу юго-запада и здесь особенно почувствовал, что к прежним запахам прибавились запахи жареной поросятины, подгоревшего масла и самых дешевых в Майами сигар. Тут он не встретил ни одного американца.
Завернув за угол, Рамиро не поверил своим глазам: сеньор Эдельберто де Каррера, бывший хозяин более десятка гаванских кинотеатров, которого так любил принимать у себя в «Делисиас» дон Карлос, перекладывал овощи на лотке, вынесенном на улицу из небольшой лавочки. Редких покупателей он неизменно встречал деланной слащавой улыбкой. Плечи его сгорбились. Достойно выглядел лишь белоснежный фартук, надетый поверх изрядно помятой гуаяберы[25] и фланелевых брюк.
Рамиро остановился чуть в стороне. Сбор информации о разложении кубинской иммиграции не входил в его задание, но Рамиро было интересно узнать новые факты. Он достал кожаный портсигар, вынул сигару «Партагас» за доллар тридцать центов. И сразу его окружили появившиеся словно из-под земли худющий продавец лотерейных билетов, коротышка, тянувший к сигаре зажигалку, — он тут же предложил услуги гида; третий пригласил сыграть в «сило»,[26] четвертый пытался засунуть в карман Рамиро визитную карточку игорного дома, пятый пообещал хороших девочек. Рамиро, не произнеся ни слова, резко повернулся и почти столкнулся с человеком, лицо которого за последние три года тирании Батисты не сходило со страниц кубинских газет и журналов. Имя его чаще произносили шепотом, а у большинства кубинцев от мысли попасть в руки Караталы, одного из главных батистовских полицейских, по телу пробегали мурашки.
Теперь Караталу трудно было узнать. Не спеша он подошел к лотку бывшего владельца кинотеатров, заискивающе, как клиент перед торговцем, которому задолжал, поздоровался с ним и стал набирать в сумку два фунта картофеля, фунт фасоли, полфунта моркови, столько же чеснока и петрушки.
Сердце Рамиро учащенно забилось, и он впервые в жизни испытал незнакомое ему доселе чувство злорадства. Он дал волю новому для него ощущению и почти бегом бросился к своему отелю, где оставил машину. Дверцу перед ним распахнул высокий седой человек в поношенной, но чистой гуаябере. Гарсия сунул ему в длинные, тщательно вымытые руки доллар, а когда сел за руль и услышал сбивающиеся на хрипоту слова благодарности: «Gracias, mister! Senor, thank you», — достал из портсигара оставшиеся там четыре сигары и отдал их ошалевшему от удачи старику.
«Неужели все это произошло за два года? Нет! Просто раньше я этого не замечал», — думал Рамиро, вылетая на Флаглер.
Опять же, не отдавая отчета в том, зачем он это делает, Рамиро повел «шевроле» в самый богатый район города — Вест-Палм-Бич. По дороге почувствовал голод и заехал в ресторан «Ла Карета».
До обеда было еще далеко, и официант, расставив перед одиноким посетителем закуски, заговорил с ним. Рамиро сказал, что он мексиканец, и в ответ получил комплимент по поводу его английской, почти без акцента речи и признание:
— А, знаете, я поначалу принял вас за кубинца. Они любят у нас бывать. — И официант стал перечислять хорошо известные Рамиро имена.
Все это были так называемые «вожди» отдельных организаций, групп и группировок «гусанос», крупные предприимчивые дельцы, большинство из которых сумели еще до революции разместить свои капиталы в США. Два года назад таких групп в Майами было более сотни.
— Странно только, — продолжал официант, — раскланиваются друг с другом издали, вежливо, но никогда между собой не говорят…
«Еще бы! — подумал Рамиро, всаживая в холодного лангуста тупой рыбный нож. — Каждый из этих мечтает возвратиться на Кубу президентом… при помощи Сонни, полковника Фрэнка, Мак Куоринга… После обеда непременно поеду к Марте… Похоже, что не следят… Да и она лучше других расскажет… Каналья, и тебе не стыдно? Разве ради этого ты хочешь ее видеть?..»
До революции Марта была звездой телевидения в Гаване. Рамиро не пропускал ни одной передачи с ее участием. Вздыхал, подшучивал над собой — иногда зло. В его мечтах она была недосягаемой королевой. В Майами, выйдя из тюрьмы, где просидел полтора года за ограбление игорного дома, он встретил Марту у Мирты де Пералес, активной контрреволюционерки, содержавшей дамский салон. Но Марта не приняла его ухаживаний. Лишь несколько дней спустя случай положил начало их дружбе. Молодая женщина, переходя улицу, оступилась и подвернула ногу. Рядом, да еще с машиной, оказался Рамиро. Он подвез Марту к врачу, а затем и домой. По дороге Марта с удовольствием обнаружила, что Рамиро умеет слушать и во многом разделяет ее взгляды на жизнь и на то, что кругом творится.
Днем Марта помогала хозяйке салона принимать клиенток, а вечерами у нее не было другого занятия, как без конца до самых мельчайших подробностей, порой казавшихся Рамиро смешными, вспоминать прежнюю жизнь в Гаване.
Марта не любила Мирту де Пералес, экзальтированную, взбалмошную, надменную, не любила еще и за ее дикую ненависть к тому, что происходило на Кубе. Молодая женщина тихо тосковала по оставленной родине, тяжело переживала разлуку с родными. Рамиро не посвящал Марту в свои дела. Ему было с ней уютно, тепло, особенно когда они оставались одни — будь то дома, в зале кинотеатра, на пляже, в парке. С ней он отдыхал душой, был к Марте предельно внимателен и вскоре почувствовал, что ей хочется иметь семью, стать матерью. Рамиро всякий раз уходил от разговоров на эту тему, заводимых Мартой робко, стыдливо, с опаской.
Разыскивая сейчас Марту, Рамиро с затаенным трепетом думал о том, что с ней, как она его встретит.
Дом на углу Одиннадцатой и Двадцать четвертой улиц юго-запада по-прежнему был занят дамским салоном, но уже не принадлежал Мирте де Пералес. Эта «сеньорита» однажды по неизвестной, никем не установленной причине исчезла с горизонта своих клиенток и знакомых, и старая вывеска была заменена новой. Рамиро все-таки узнал одну из прежних маникюрш, и та поведала ему, что Марта ушла за полгода до таинственного исчезновения хозяйки, рассорившись с ней и не получив даже расчета.
Миновала неделя, прежде чем Рамиро напал на след Марты. Еще три дня он шел по нему, мечась по городу из одного частного дома в другой, пока наконец не нашел ее. Встреча была радостной.
Марта в легком розовом платьице, плотно облегавшем ее стройное тело, кружевном передничке и таком же накрахмаленном чепчике-венце на голове, казалось, готовилась к выходу на сцену. Но, увы, теперь она была всего лишь служанкой в доме богатого промышленника, чьи химические предприятия находились в Джексонвилле и Атланте.
— Рамиро, ты? Какое счастье! Не может быть! Входи, Рамиро! Я так рада! Я думала, ты пропал, забыл меня. Входи же, дорогой. — Марта бросилась ему на шею. — Мне впервые хорошо здесь! А было плохо, плохо — и без тебя очень… — торопливо произнося слова, она вела его в маленькую комнатку для прислуги.
— О'кей, Марта! Я с тобой. Мне приятно, что ты рада. — Он, охваченный столь редким теперь у мужчин чувством благодарности за память, постоянство и верность, обнял ее. «Новизна волнует, но ей не сравниться с тем, когда ждут!» — подумал он и еще нежнее прижал к груди Марту. Губы его потянулись к ее уху, к родинке за ним.
Женщина, усадив гостя в удобное кресло рядом с торшером, схватила с туалетного столика платок и поднесла к глазам.
— Думала, встретил другую… Плакала, Рамиро. Но потом, потом вдруг сразу поняла, что ты иначе жить не можешь. Иначе тебе не одолеть эту жизнь. Ты делал то, что должен был делать…
Рамиро молчал. Слова — сразу все — рвались наружу, и ни одно не могло опередить другое. И прошлая жизнь, былые свидания с Мартой, и два года на Кубе, встреча с Педро Родригесом, и злобная радость, испытанная им при виде Караталы, и сознание, что он очищается от грязи, и перехватывающая дыхание боль в груди при мысли, что было бы, не встреть он сейчас, потеряй Марту, — все перемешалось в одном судорожном вздохе. Он сидел, молча смотрел немигающим взглядом на любимую.
— Рамиро! Я так рада! Но как ты нашел меня? Хочешь что-нибудь выпить? Сейчас принесу, — не умолкала Марта. — Пиво, виски, оранжад?
— Почему ты ушла из салона? — неожиданно для самого себя спросил Рамиро.
— Там… там, знаешь, стали появляться,. клиенты. — И Марта опустила глаза, покраснела.
— А здесь…
— Нет, Рамиро! Потому мне здесь и спокойно! В других домах было иначе, и я уходила… Ты же знаешь…
Рамиро спохватился, почувствовал прилив стыда, рывком привлек к себе Марту, усадил на колени. Но в это время над дверью загорелась лампочка — Марту вызывали.
Встретившись в субботу, они весь вечер потратили в поисках места, где можно было потолковать наедине. Но в какой ресторан, кафе или бар города они ни заходили, тут же встречали кубинцев. Те, гоняя на витроле пластинки Бени Море, Фахардо, Лучо Гатики и «Пяти латинос», после рюмки дешевых виски непременно начинали плакать и набрасывались на нового человека с одними и теми же вопросами: «Что нового там? Вы что-нибудь слышали новое?»
Рамиро предложил Марте поехать в районы дорогих отелей, стоявших у шикарных пляжей, и там найти местечко поуютней. Она было сочла себя недостаточно хорошо одетой, чтобы появиться там в ночное время, но потом решила:
— Теперь здесь все равно!
Из того, что Рамиро слышал за эти дни от других, и из рассказов Марты он мог сделать прежде всего один, безошибочный вывод: положение с кубинскими беженцами серьезно волнует американские власти.
Кубинцы не желали добровольно расселяться в другие районы страны, В Майами их скопилось больше трехсот тысяч. Жизнь города изменилась. Курорт, его хозяйство, приносившее прежде высокие прибыли жителям, приходили в упадок. Богатые туристы устремились в Калифорнию и Мексику. Многие американские семьи покинули Майами, Так называемая кампания «релокализейшен», придуманная иммиграционной службой США и проводившаяся при сильном нажиме — беженцам решительно отказывали во всякой помощи, если они не хотели переселяться в другие города, — не принесла желаемых результатов. На севере страны кубинцы не могли жить из-за холода. В Калифорнии негры и «брасерос» — сезонные мексиканские рабочие — встречали кубинцев буквально в кулаки. В индустриальных районах непрофессиональные руки беженцев не могли быть использованы. Многие, чтобы как-то прокормить себя и свои семьи, брались за самую черную работу, которую прежде выполняли негры и пуэрториканцы. Это вызывало к кубинцам неприязнь. И, по этой причине тоже, они стремились возвратиться туда, где их хоть понимали и как-то могли защитить земляки.
— Более или менее благополучно решили свою судьбу инженеры и учителя, — говорила в машине Марта, когда они свернули с авениды Флаглер к морю. — А еще лучше устроились врачи. Ты меня слушаешь, Рамиро? Тебе скучно со мной?
— И да и нет! — Он положил свободную руку ей на колено.
— Что «да» и что «нет»?
— Да — слушаю! Нет — не скучаю, милая. Я думаю, где бы нам повкуснее да побыстрее поесть и завалиться ко мне. Я страдаю от того, что так медленно переключаются светофоры. Говори, говори, мое сердце!
— Так вот, поначалу нашим врачам несладко было — учить английский, пересдавать экзамены… Но худо-бедно они устроились. Правда, те, у кого там были клиники, работают просто хирургами. Но что такое две с половиной тысячи из трехсот пятидесяти? Остальные грызут галеты «Эль госо» на стипендию «Рефужи» и пережевывают без конца и без толку новости. Ты знаешь, почти никто не слушает местные передачи на испанском. А когда говорит Фидель… О! Все сидят у приемников. Ругают его последними словами, но слушают и плачут…
— Многие улицы теперь просто похожи на гаванские, — подхватил Рамиро, — на каждом углу, куда ни посмотришь, лотки с прохладительными напитками, «фритас».[27] Все играют в «сило», «ла чину», «кастильо»![28]
— Да! А подпольные игорные дома? Их развелось… Дома терпимости, продажа наркотиков…
— Каждый зарабатывает, как может, — сказал Рамиро, чувствуя, что едва сдерживает желание открыться Марте
— Женщинам труднее… Многие за крышу вынуждены платить собой… — Марта внимательно заглянула в глаза Рамиро.
Они выехали на широкую авеню, тянувшуюся параллельно берегу моря, и как бы в подтверждение их разговора на панелях у баров, прилегающих к пляжам, на каждом шагу они встречали кубинок. Кубинцев мужчин почти не было видно.
— Посмотри, и здесь… — сказал Рамиро. Марте стало обидно, и она возразила:
— Будто в Майами этим занимаются только они…
— Но их нетрудно отличить. Американки, так те всё: платья, кофты, блузки, юбки, даже обувь — носят на один номер свободнее, кубинки — наоборот.
Марта что-то хотела сказать, но Рамиро остановил машину. Две женщины, стоявшие у входа в ресторан, узнали Марту и поздоровались. Эти сеньоры, бывшие клиентки сеньориты Мирты, смотрели на нее, пришедшую с мужчиной, с нескрываемой завистью. Рамиро почувствовал это и особенно нежно взял под руку Марту, а она прошептала:
— В Гаване они сочли бы неприличным здороваться со мной, артисткой телевидения, а здесь… Скажи, Рамиро, — Марта внезапно переменила тему разговора, но вопрос ее был совершенно логичен, — скажи, ты ведь не ездил в Европу, как собирался… Ты был там? Был на острове?..
«Вот бы сейчас на мне висели эти чертовы присоски «детектора лжи»! — подумал Рамиро. — Я бы погорел… Обидно! У меня нет родней человека. Но нельзя! Ей я мог бы все рассказать, открыть себя, обнажить до последнего нерва… Увезу на Кубу, там расскажу…» А вслух предложил:
— Дорогая, давай поговорим об этом завтра. Утром, Пойдем на пляж. А сейчас, сейчас будем есть и веселиться…
Поднялись они рано и прямо до завтрака отправились к морю. Выходя из номера, Рамиро увидел в коридоре черной кошкой проскользнувшего к лифту «Эл Маго».[29] Хотел было поздороваться, но тот даже не остановился.
Трудно объяснить, как срабатывает у людей интуиция, но, когда они вошли в воду, Рамиро — он собирался рассказать, как на Кубе хорошо, — произнес:
— Марта, действительно, все это время я был там. Все эти два последних года Это ужасно тяжело! Там все плохо. Прежней Кубы нет! Я рад, что выбрался оттуда. Сидел там и ничего не делал. Ни на что глаза мои смотреть не хотели. Так что, понимаешь, рассказывать не о чем. Все в руках Фиделя! Никто ничего там не может, да и здесь… Здесь все делают только вид, а… чтобы его сбросить, одни разговоры. — И, в сердцах махнув рукой, побежал навстречу волнам легкого прибоя, увлекая за собой Марту. Свежий, набежавший вдруг порыв ветра и соленые волны были свидетелями того, как гулко стучало сердце Рамиро.
Лишь полгода спустя он узнал, что в то утро выиграл, как иной боксер нокаутом, важный для себя бой. С чердака отеля, стоявшего напротив пляжа, аппаратурой особой конструкции их разговор был записан и заснят на пленку. О том, что собирались именно на этот пляж, Рамиро и Марта говорили в машине, в ресторане и в номере отеля. А за Рамиро Фернандесом все эти дни велась тщательная слежка,
Рамиро заметил, как еще на пляже резко изменилось настроение Марты, хотя она и не сказала ему ни слова. В душе он радовался этому, но пока решил не подавать виду. В тот вечер на прощание он, однако, нежно взяв за подбородок Марту и поцеловав ее в родинку за ухом, заявил:
— Дорогая, запомни, прошу тебя, — это очень важно для меня и для нас обоих, — как бы неожиданно я ни исчезал, жди меня! Я обязательно вернусь! Я люблю тебя, девочка!
Марта схватила руку Рамиро и прижала к губам его ладонь.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |