"Девочка в бурном море. Часть 1. Антошка" - читать интересную книгу автора (Воскресенская Зоя Ивановна)
ВЕРЕСК
Лиловый сумрак на рассвете бледнеет, линяет и превращается в слепую туманную дымку. На фоне молочного неба резче проступают черные силуэты деревьев. Лес замирает, падает ветер, молчат птицы. Только на дне долины, похожей на широкую чашу, вдавленную в горы, глухо звучит водопад да погромыхивает горная речка.
Но вот край чаши, обращенный к востоку, начинает розоветь, сползает чернота с высоких елей и широких крон сосен, сквозь космы тумана проглядывает яркая зеленая хвоя; заря разгорается, смывает ночь, наполняет долину до краев золотистым светом, возвращает вереску его дневной сиреневый цвет. Ветер осторожно сдувает с деревьев хлопья тумана, и только над водопадом клубится водяная пыль.
Вместе с солнечным светом оживают лесные звуки.
В этот ранний час Улаф с дедом отправляются на работу. Дед мелкими осторожными шажками идет впереди, Улаф, позевывая и ежась от утренней свежести, медленно шагает сзади. На поседевшей от росы траве остаются яркие следы.
Миновали луг, перешли по жердям через болото и стали подниматься по каменистому склону в лес.
На уступе гранитной скалы, похожей на раскрытую ладонь великана, стоит ель. Ветви каскадом спускаются до самой земли. Горные ветры продувают хвою. И сколько помнит себя старый дед, ель всегда была такой же могучей, всегда зеленой, всегда живой. Она была маяком для мальчишек, блуждавших по лесу, для диких гусей, улетающих сейчас на юг, и казалось, само небо опиралось на ее вершину.
— Смотри-ка, — сказал дед, — и наш маяк понадобился фрицам.
Улаф подошел ближе. На корне, выбухавшем из земли, как толстая вена, было выжжено тавро: «1274».
Улаф свистнул. Свалить такую ель ему казалось кощунством.
— Всю Норвегию полонила коричневая нечисть, — ворчал дед, — тюрьмами и концлагерями нашу землю осквернили, воду в фиордах испоганили своими разбойничьими подводными лодками; все живое на нашей земле истребить хотят. Пользуются тем, что безответное дерево ни стрелять, ни бежать, ни по их поганым мордам отхлестать не может.
Дед отвалил подушку мягкого мха, захватил горсть черной прохладной земли и осторожно приложил к ране, сочившейся янтарной смолой.
— Скорее мне руки отпилят, чем я дам тебя в обиду, — сказал он.
Улаф хотел вскарабкаться на ель, с вершины которой видны горы километров на шестьдесят в округе, откуда видна шведская земля.
А дед торопил. Он остановился у мачтовой сосны, хлопнул по тугому стволу широкой негнущейся ладонью и, приложив козырьком руку над глазами, закинул голову, примериваясь, в какую сторону валить дерево. Вынул из-за пояса топор, сделал глубокую зарубку на той стороне, куда должно упасть дерево. Улаф между тем высвобождал из брезентового чехла пилу.
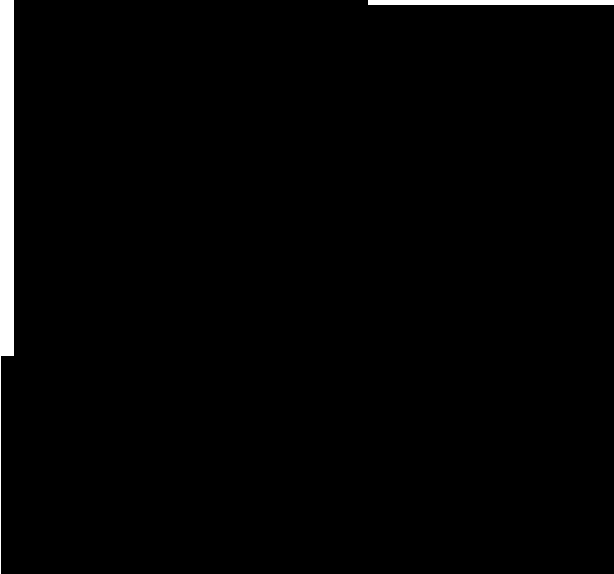 |
 |
Второй год выходит Улаф на рубку леса, и каждый раз, когда дед обнажает розоватую сочную мякоть дерева, в сердце юноши возникает острая жалость. Сосна стоит прямая, как свеча, раскинув в небе широкую крону, а через час, обезображенная, с обрубленными сучьями, мертвая, покатится вниз по горе, к сплаву. И пройдет много времени, прежде чем почернеет и станет трухлявым пень и соседние деревья сомкнут свои кроны, закроют оголившийся участок неба.
Дед прислонился спиной к дереву, набил табаком трубочку и все поглядывал на внука. Вот он какой высокий да ладный, наверно, уже отца по росту догнал, а ему еще расти да расти, ведь только шестнадцать. И характер у него отцовский — норовистый, самостоятельный. Понимает дед, что рвется внук к партизанам, в горы. А дед не пустит, нет.
Когда немцы вторглись в Норвегию, отец Улафа с оружием в руках защищал свою землю, а потом вместе с норвежским флотом ушел в Англию и погиб в Атлантике. В последнем письме просил, чтобы дед сберег Улафа. Мать Улафа тоже умерла.
Дед знает дорогу к партизанам. Но не скажет, сколько ни проси.
Дед и внук встретились взглядом, и оба опустили глаза — поняли, о чем каждый думал.
— Но-но, поторапливайся, ишь размечтался! — с нарочитой грубоватостью окрикнул дед, выбил о ствол трубочку, сунул ее в карман и взялся за пилу.
Пила звякнула, изогнулась волной, Улаф поймал вторую ручку. Блестящими искрами полетели опилки, распространяя нежный смолистый запах.
Дед пилил и проворно прикладывал ухо к стволу, чтобы уловить последний вздох дерева, когда оно, качнув кроной, начнет медленно, а затем все ускоряя движение, падать. Тогда весь лес стонет, прощается с деревом, далеко вокруг слышен гул и треск.
— Отходи-и! — крикнул дед.
Оба быстрым движением отвели пилу, отбежали назад, и ствол, отделившись от пня, скользнул по нему и рухнул, подминая под себя молодую поросль. Взметнувшиеся птицы полетели прочь, и в их крике слышался укор человеку. После этого обычно наступала минута молчания — молчания печального, наполнявшего сердце тоской.
Сосна рухнула, но молчание на этот раз не наступило. Что это? Оба подняли головы. Низко над лесом гудел самолет.
Тень его скользнула по кустарнику и исчезла вместе с гулом мотора, а над лесом, в проеме неба, где несколько мгновений назад покачивалась широкая крона сосны, поплыли белые птицы.
— Листовки! — воскликнул Улаф.
Потоком воздуха листки пронесло мимо, и лишь один нырнул вниз, покружился и лег на лапу ели.
Улаф скинул тяжелые башмаки на деревянной подошве, проворно взобрался на дерево, раскачал сук. Листок отделился и медленно поплыл в руки деда.
— Живей, живей слезай! — размахивал листком дед. — Обращение германского командования к населению Норвегии! Из концлагеря бежали заключенные… Видно, не один, а много, уж коли листовки с самолета сбрасывают. Если поможем немцам выловить беглецов — нам обещают большое вознаграждение. За оказание любой помощи беглецам — расстрел на месте. Слышишь, Улаф, мы можем стать богатыми, как сам премьер-министр Квислинг. Тьфу… будь ты проклят! — зло плюнул дед.
Улаф пробежал глазами листовку, скомкал ее и втоптал в траву. Не говоря ни слова, схватил пилу и топор, помчался вниз, перепрыгивая с камня на камень. Дед старался не отстать от внука.
Бабка Анна-Лиза доила козу, когда над долиной затарахтел самолет. Коза заметалась, козленок жалобно заблеял — не так уж часто в этой пограничной со Швецией полосе появляются самолеты. Бабка поставила кувшин с молоком на крыльцо и стала распутывать козу и козленка, обмотавших себя веревкой.
Дед и внук уже бежали к крыльцу.
А через несколько минут все трое, нагруженные рюкзаками, спешили к лесной чащобе и дверь дома оставили открытой. Бабка поставила на самое видное место на крыльце кувшин с молоком.
В лесу разошлись в разные стороны. Дед сбросил на землю рюкзак, вытащил из него добрые, крепкие еще башмаки, которые носил всю жизнь, потому что надевал их только по большим праздникам, когда ходил в церковь в соседнее село. Связал башмаки за шнурки и повесил на сук. Они висели на самом виду и потихоньку раскачивались, поблескивая окованными квадратными носами. Рюкзак дед перетащил подальше, вытащил из него кннекенброд — сухой хлеб, похожий на неоструганные деревянные дощечки. Каждый кусочек перевязал крест-накрест леской и стал украшать ими деревья. Хлеб твердый — ни одна птица не осилит, только голодный человек разгрызть сможет.
До чуткого уха деда донесся посторонний для леса звук: хрустнула ветка. Дед раздвинул кусты — девчонка с белыми, как лен, косичками, лет десяти, и мальчонка чуть постарше о чем-то вполголоса спорили. Дед узнал их — это были дети соседа-лесоруба, что жил за водопадом. Девчонка в руках держала ученический глобус. Мальчишка взобрался на высокий гранитный валун, выпиравший пирамидой из зарослей можжевельника, а девочка обеими руками высоко подняла глобус, словно светила ему. Мальчишка огляделся по сторонам и взял у сестры глобус. Земной шар в его руках вертелся на оси, сверкал на солнце всеми морями и континентами. Мальчишка установил глобус на граните, повернул стержень, чтобы Норвегия, похожая на коричневую пушистую гусеницу, была обращена на запад, и соскочил на землю. Дед понял, что и этим ребятам попало в руки обращение германского командования и они решили, что школьный глобус поможет беглецам найти дорогу в Швецию.
Старик усмехнулся в усы детской наивности и осторожно сдвинул кусты.
И бабка Анна-Лиза украшала деревья: где кусочек сала, завернутый в лоскут, повесит, где вареную картошку на сухой сучок нанижет, а где просто чистые тряпицы перекинет на ветке: может, ранен кто или ногу стер.
Улаф бегал по лесу — развешивал спички, вырубал на стволах стрелы, которые и в темноте заметишь и будешь знать, в какую сторону идти. На ели-маяке повесил настоящий компас, тот завертелся на нитке, поблескивая стеклом на солнце, как елочное украшение. Над ним сразу захлопотала сорока. «Не утащишь, крепко привязан!» Улаф запустил в сороку еловой шишкой и собрался бежать домой, вниз, как услышал в лесу треск сухого валежника. «Немцы?» — мелькнула страшная мысль, и холодные мурашки пробежали по спине. «За любую помощь — расстрел на месте», — вспомнил он снова листовки. Присел за валуном.
 |
 |
Шумно дыша, с широко раскрытыми ртами, спотыкаясь о спрятанные в густых зарослях черники камни, сквозь кустарник пробирались люди. Их было шестеро. Одежда на них висела клочьями, настороженные глаза зорко поглядывали вокруг. Обросшие бородами, всклокоченные, они на ходу срывали хлеб, картошку, прятали за пазухой — есть было некогда.
Впереди шел высокий человек в выцветшей рваной гимнастерке, без пуговиц и ремней. Он сильно припадал на правую ногу. Рукой делал знаки, и следовавшие за ним или приседали в кустах, или торопились подтянуться. Видно, он был за вожака.
«Беглецы», — понял Улаф и тихонько свистнул. Люди шарахнулись назад, словно это был не свист, а пулеметная очередь.
Юноша вышел из укрытия.
— Люди, я свой! — крикнут он.
Беглецы сдвинулись вместе, и Улаф прочел в их глазах — не верят.
— Я не Квислинг, нет! — мотал он головой.
Не Квислинг — значит, честный человек, не злодей, не предатель.
Хромой солдат дал знак своим людям стоять на месте и заковылял к Улафу.
— Вей тиль Свериге! Вей тиль Свериге! — настойчиво повторял он заученную фразу. («Дорога в Швецию! Дорога в Швецию!»)
Улаф показал рукой на восток. Хромой солдат повернулся к своим, и Улаф увидел у него на спине выведенные красной масляной краской буквы «S.U.»: «Совьет Унион» — «Советский Союз». Это были советские пленные.
Русские окружили юношу. Улаф стал объяснять дорогу. Но как, не зная русского языка, расскажешь о еле заметной тропинке, которая путается с другими, как жестами объяснить, что ниже водопада есть одно-единственное место, где можно перейти вброд.
По лесу разнеслось эхо отдаленного выстрела. Погоня. Медлить было нельзя, объяснять некогда. Улаф сделал знак рукой: «Идите за мной». Русские продолжали стоять. Хромой солдат зорко глянул на него и что-то сказал своим людям. Видно, поверил юноше.
Снова послышалась автоматная очередь. Ясно, что уйти не удастся, надо скрыться, выждать темноты. Но где? Улаф, а за ним и русские побежали к ели-маяку. Между стволом дерева и выступом утеса — впадина, засыпанная прошлогодними листьями, поросшая по краям вереском. Улаф быстро разгреб листья. В глубокой яме поместилось пять человек. Вместе с хромым солдатом засыпал листья, соединил ветки вереска и показал русскому рукой на ель: взбирайся, мол. Русский стал карабкаться наверх, подтягивая больную ногу. Улаф полез за ним, оседлал сук, обхватил одной рукой ствол, другой слегка раздвинул ветви. Устроил себе наблюдательный пункт.
Из лесу спускались в долину дед и бабка. Оба несли за спиной по вязанке хвороста. Анна-Лиза с беспокойством оглядывалась вокруг. «Видно, за меня волнуется», — подумал Улаф.
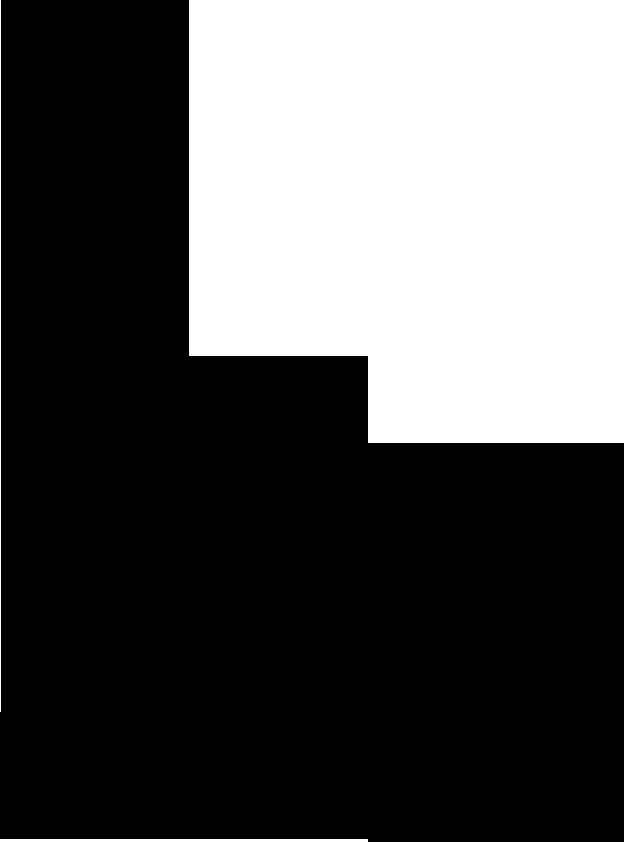 |
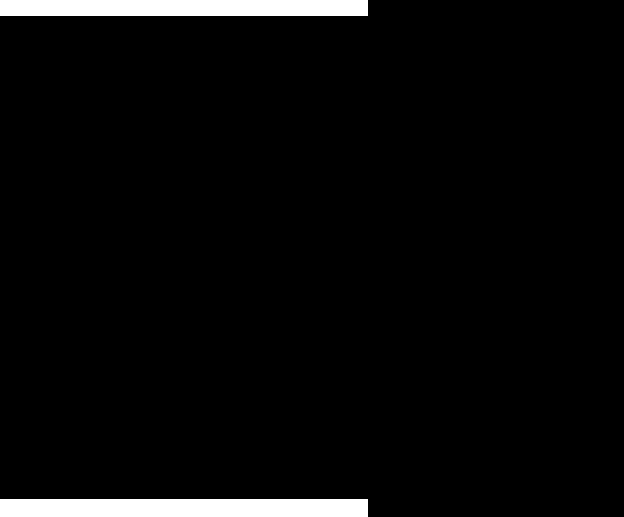 |
Вскоре с горы стали скатываться и немцы с автоматами наперевес. У одного из них на плече болтались связанные дедовы башмаки. Он окликнул деда:
— Ду, грейс, ком хир! (Эй ты, старик, подойди сюда!)
Дед сбросил вязанку на землю. Приложил руку к уху, помотал головой — не понимаю, мол. Гитлеровец о чем-то спрашивал, дед пожимал плечами — ничего не знаю, не видел. Другой гитлеровец остановился возле ели-маяка, рядом с ямой, в которой залегли беглецы.
Улафу сверху видно было, как поблескивало внизу дуло автомата. Немцы повели стариков в дом. Послышался выстрел.
На крыльцо выбежала бабка Анна-Лиза, длинные седые волосы ее трепались по ветру. Она обвела взглядом долину, ища глазами внука. Улаф до боли закусил губы, чтобы не крикнуть. Вместе со вторым выстрелом разнесся по долине отчаянный вопль Анны-Лизы. Она упала. Улаф судорожно вцепился обеими руками в шершавый ствол дерева.
Немцы торопливо выходили из дома, нагруженные узлами, корзинами; один нес на плече белого козленка. Голова с короткими рожками безжизненно болталась за спиной фрица. Немцы сделали несколько выстрелов по кустарнику в сторону шведской границы, потоптались на берегу сердито гремящей реки и пошли прочь.
Вереск в долине стал чернеть. Наступали сумерки. Над долиной поплыли серые космы тумана.
Улаф поднял тяжелую голову, тихо свистнул и стал спускаться вниз.
Хромой русский солдат слез с дерева, подошел к Улафу и по-отечески прижал к себе. Скрывая слезы, Улаф бросил последний взгляд на дедов дом. Возле крыльца белела безжизненная, распростертая фигура бабки, металась на привязи и жалобно блеяла коза.
— Пойдете за мной, — сказал он, — тиль Свериге (в Швецию).
Через болото пробирались ползком. Луг переходили в густом тумане. Улаф шел на звук водопада. Вот он пахнул холодной водяной пылью. Надо взять правее. Улаф подал руку русскому, тот протянул своему товарищу. Образовалась живая цепь. Юноша вступил в ледяную воду, нащупал ногой гладкую поверхность выутюженной водой скалы, крепко сжал руку хромому солдату. Живая цепь не должна разорваться. Если кто оступится, упадет — руки товарищей вытянут, если разомкнутся руки — поток перемелет о камни.
Улаф чувствует, как тяжелеет рука русского, понимает, что в ледяной воде ноги немеют, перестают чувствовать дно, но надо еще сделать шагов двадцать. Вот и берег. Выбрались все. Теперь предстояло подняться по крутому каменистому откосу наверх, где проходит дорога, охраняемая немецкой пограничной стражей.
За дорогой ничейная полоса, это почти спасение, а там и Швеция.
Наверху залегли у обочины дороги. Настороженную тишину разорвал выстрел. Вслед за этим раздалось: «Хальт, хальт!» Загорелся луч прожектора и зашарил по земле. Хромой солдат вскочил, схватил за руку Улафа. «За мной!» — крикнул он. Пятьдесят шагов до жизни, и их надо пробежать дорогой смерти. Еще, еще немного! Застрекотал пулемет. Рука Улафа выпустила руку солдата, горячая боль обожгла плечо. Русский схватил юношу под мышки и поволок через ничейную полосу. Выстрелы прекратились.
И вдруг темный силуэт преградил путь, луч карманного фонаря забегал по лицам беглецов.
— Вем эр дет? (Кто это?) — слышится окрик по-шведски.
— Свои. Друзья! — ответил за всех Улаф.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |