"Чукотская сага" - читать интересную книгу автора (Рытхэу Юрий Сергеевич)
ПЕСНЯ О ДВУХ ВЕТРАХ
Когда молодежь нашего охотничьего колхоза, натанцевавшись в клубе вокруг новогодней елки, расходилась по домам, в тот самый день и в тот самый час Тылык стоял на одной из ленинградских набережных и задумчиво смотрел на скованную льдом Неву. Да, и то и другое происходило 1 января в четвертом часу ночи. Так по крайней мере говорили календари и циферблаты. И всё же это было совсем не одновременно: если в Ленинграде четвертый час ночи, то на Чукотке в это время уже второй час пополудни.
«У нас давно уже день, а я вот ещё и спать не ложился, — подумал Тылык. — Впрочем, какой же теперь день на Чукотке? — самый разгар полярной ночи!»
Тылык улыбнулся. «Ну и путаница же получается! В один и тот же час, и всё-таки не одновременно, а на десять часов позже… Середина дня, а всё-таки не день, а ночь… Уж до чего, кажется, ясные, бесспорные понятия! Несовместимые, противоположные — их даже в пример приводят в качестве двух явлений, противоположность которых очевидна. «Нельзя же, говорят, утверждать, что день — это ночь!» Нет, оказывается, можно. Иногда это именно так и бывает. Второй час дня посреди ночи. Только не обыкновенной ночи, а полярной, конечно…»
Разумеется, Тылык и раньше всё это знал, но никогда ещё эти сопоставления не представлялись ему такой забавной неразберихой. «Наверно, — подумал он, — это от вина. Наверно, хмель новогоднего ужина не совсем еще выветрился из головы».
Он посмотрел на противоположный берег, где за густой пеленой снегопада едва виднелось здание университета, посмотрел на бесконечную череду фонарей и снова опустил глаза к Неве. Внизу, по тропке, наискось пересекавшей реку, шла шумная компания. Тропка была узкая. Несколько девушек на ходу перебрасывались снежками, кто-то барахтался рядом с тропкой в глубоком снегу. До Тылыка долетали веселые голоса, смех.
«Завтра же напишу домой, — пообещал себе Тылык. — Вернее, сегодня: ведь завтра уже наступило. Напишу, обрадую старика».
Он начал было подниматься на мост, но потом вернулся, спустился вниз и медленно пошел по тропке. Здесь было теперь безлюдно, шумная компания ушла далеко вперед.
Если не смотреть наверх, то может показаться, что вовсе и не по городу идешь. Со всех сторон снег, снег, снег. Будто тундра. Здесь легче думалось о Чукотке, чем на ярко освещенных улицах, по которым катились ночные такси. Может быть, потому Тылык и спустился сюда, хотя тропка была ему, в сущности, не совсем по пути. Обычно он ходил по мосту. Но сейчас он с удовольствием вслушивался в поскрипывание снега под ногами, ощущал на щеках дыхание ветра и думал о родном поселке, об отце, о его песнях. «Обветренны лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки».
За Невой, на Васильевском острове ещё царило почти такое же оживление, как и в центре. В одиночку, Парами и большими группами люди возвращались с новогодних вечеров. Впереди Тылыка плотной шеренгой, растянувшейся во всю ширину тротуара, шла, громко распевая, компания молодежи. Судя по форме, это были студентки и студенты Горного института. Догнав какого-то офицера, они быстро сомкнули вокруг него свою шеренгу и закружились в хороводе — то в одну сторону, то в другую. Офицер стоял улыбаясь, не пытаясь вырваться из круга, а когда студенты чуточку затихли, спросил:
— Ну, а дальше что?
— А дальше вы должны сплясать. Пока не спляшете, не выпустим!
— А если я не умею?
— Ой, неправда, товарищ лейтенант! Не верьте, ребята! Сегодня все умеют!
Лейтенант сплясал — да так лихо, что все прохожие останавливались поглядеть. Рядом с Тылыком остановилась невысокая девушка в пестрой вязаной шапочке. Тылык заметил её только краем глаза: не мог отвести взгляда от сапог, выбивавших дробную чечетку. Лейтенант закончил каким-то особенно замысловатым перестуком, все зааплодировали, круг разомкнулся. Воспользовавшись честно заработанной свободой, лейтенант перебежал через дорогу, помахал рукой и сразу же свернул за угол.
Но не успел Тылык сделать и шагу, как хоровод снова сомкнулся, на этот раз вокруг него. Он растерянно огляделся и увидел, что стоит не один: вместе с ним попала в плен и девушка в пестрой шапочке.
Девушка метнулась в одну сторону, Тылык — в другую, но плотное кольцо хоровода не разомкнулось. Один из студентов крикнул:
— Целуйтесь! Не выпустим, пока не поцелуетесь!
— Так ведь мы… — Тылык смущенно развел руками. — Мы даже не знакомы. Вы ошиблись! Мы ведь не вместе шли, честное слово!
Студенты расхохотались: вот так история! Они были уверены, что это молодые супруги или по крайней мере влюбленная парочка. Нет? Даже не знакомы?
— Это нас не касается! Приговор окончательный, обжалованию не подлежит!
Пёстрая шапочка снова попыталась прорваться. Но когда это не удалось ей, она подбежала к Тылыку, быстро, обеими руками пригнула его голову, чмокнула в щеку и сразу же убежала, не оглядываясь. Теперь никто не удерживал её. Тылык даже не успел разглядеть лицо девушки, заметил только большую снежинку, упавшую на её темную бровь и ещё не успевшую растаять.
Через десять минут он был уже в университетском общежитии. К счастью, Вася Антонов и Юра Черняк спали, а Сергея Ширяева ещё не было. Видимо, он пошел провожать Ксюшу. Чтобы не разбудить товарищей по комнате, Тылык сразу же выключил свет и разделся в темноте. У него сейчас не было желания разговаривать. Хотелось поскорее лечь, спокойно отдаться своим мыслям, воспоминаниям, которые так легко возникали там, на Неве, но были потом оборваны разгулявшимися студентами.
«Обветренны лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки. Обвеяны ветрами, просолены брызгами с гребней морской волны. Тундра вынянчила ноги, море вынянчило руки, бури вынянчили сердце моего народа». Когда же Тылык впервые услышал эту песню? Давно, много лет назад. Это «Песня о двух ветрах». Каждое её слово дорого Тылыку.
Школа. Это был первый год ее существования, она помещалась ещё в яранге. Во всём поселке не было тогда ни одного дома. Мистер Карпендер — американский скупщик — сжег свою лавку, когда удирал на Аляску. А его лавка была единственным деревянным строением среди трех десятков яранг.
Тылык стоит у классной доски и старается припомнить, как пишется буква «ю». Тылыку скоро исполнится десять лет, он неплохо стреляет, умеет грести, управлять собачьей упряжкой и ставить капканы на песцов, но азбуку знает ещё нетвердо: раньше негде было учиться; до приезда Всеволода Ильича ребята даже не слыхали о том, что существуют на свете такие вещи, как азбука, книги, школы. Эйнесу лет пятнадцать, а он тоже ещё не все буквы выучил.
Эйнес и остальные ученики сидят на шкурах, голые по пояс. Тесно, душно, жарко. Тетради положены на дощечки, а дощечки — на спину товарища или на собственное колено. Никому из учеников и в голову не приходит, что это не очень удобные условия для занятий: они ведь понятия ещё не имеют ни о партах, ни о столах.
Горит четыре жирника, но свету от них всё равно немного. Чтобы прочесть написанное в тетрадке, надо изо всех сил напрягать зрение. Зато жару и духоту эти жирники усиливают до того, что дышать нечем. В течение каждого урока Всеволод Ильич раза по два, а то и по три произносит: «Ну-ка, глотнем немного кислорода». Ученики уже знают, что после этих слов нужно приподнять переднюю шкуру полога и впустить свежий воздух. Но при этом учитель ничего не глотает, и что такое «кислород» — это по-прежнему остается неизвестным.
В первые дни занятий учитель даже галстука не развязывал, крепился. Потом он вовсе перестал носить галстук, в середине первого урока скидывал обычно пиджак, в середине второго урока расстегивал рубашку, а к концу учебного дня на нем оставалось так же мало одежды, как и на его учениках. Ребята с откровенным удивлением рассматривали его белое тело, курчавую растительность на груди, тонкие руки, на которых мускулы почти не были заметны. Когда он вытягивал руку, указывая на доску, она казалась ребятам похожей на тонкую белую палку, какие употребляют для обработки шкур. Может быть, именно поэтому Всеволод Ильич всегда начинал занятия одетым, раздевался только тогда, когда легкая рубашка начинала казаться меховой шубой, а пенсне переставало держаться на скользком от пота носу.
Вот и сейчас он вызвал Тылыка, но прежде чем начать диктовать, положил на книгу пенсне и стал стаскивать с себя рубашку. Тылык стоит у доски, которая, впрочем, так же мало похожа на обычные классные доски, как яранга — на школу. Это самый обыкновенный руль, довольно большой, — наверно от какой-нибудь шхуны, давным-давно разбившейся в Чукотском море. Учитель нашел этот руль на берегу и с помощью учеников притащил его в ярангу.
Да, так зачем же понадобилась Тылыку буква «ю»?.. Для слова «Эвилюки». Припомнив эту трудную букву, Тылык пишет на руле: «Эвилюки тинлылет».
Учитель стащил с себя рубашку и аккуратно положил её рядом с пиджаком. Вытирая платком лицо и шею, он спрашивает
— «Эвилюки тинлылет»? Что это значит?
— Это ты. Это тебя так зовут.
— Меня? Погоди-ка… «Тинлылет»? «Тин» — это, если не ошибаюсь, речной лед. «Лылет» — это глаза. Ага, кажется, понимаю. Видимо, слово «тин» обозначает в данном случае не лёд, а стекло… Значит, «тинлылет» — это глазные стекла, очки… Так, что ли? А что такое «Эвилюки»?
— Это уши… Ну, когда нету… Крючки такие…
— Без ушей, — подсказывает Эйнес, который говорит по-русски лучше всех своих товарищей.
— Ага, понимаю. «Безушные очки». Ясно.
Всеволод Ильич берет с книги пенсне и, подняв его, говорит:
— Это называется «пенсне». Скажите: «Пенс — не».
— Пенс-не, — хором повторяет весь класс.
— Так. Хорошо… Значит, вы прозвали меня «Безушными очками»? Что ж, видимо, все школьники мира одинаковы. Признаться, я полагал, что хоть первые два-три года вы не будете знать, что учителям принято давать прозвища…
Учитель был не совсем прав на этот раз: по чукотским понятиям в прозвище не было ни малейшего оттенка неуважения. Это было скорее чем-то вроде второго имени. Такое имя, как «Всеволод Ильич», казалось ребятам слишком трудным. То ли дело «Эвилюки тинлылет»! Это было проще, понятнее и, по мнению ребят, гораздо легче произносилось.
— Сотри-ка свои «эвилюки». Всё, всё сотри. Так. Теперь пиши: Ленин. Ле-нин.
На корабельном руле с разломанными, насквозь проржавевшими кольцами, — на руле, выкинутом бурей на берег и пригодившемся теперь в качестве классной доски, чукотский мальчик впервые в жизни старательно выводит это великое имя.
…Помещалась тогда школа в яранге Рультынэ, матеря Эйнеса. Рультынэ давно овдовела, Тылык не помнил её мужа. Даже Эйнес лишь смутно помнил отца. Всеволод Ильич поселился в яранге Рультынэ, здесь же занимался с учениками. Это было удобнее всего, так как в других ярангах жили большие семьи, кое-где были грудные дети. Да и почище здесь было, чем у других.
Тылык идет из школы домой. Как всегда, он идет не по поселку, а по торосистому льду берегового припая. Дует северный ветер, наметает возле торосов сугробы, гонит по льду снежные вихри и уносит их в тундру.
У Атыка есть песня про северный ветер. Атык, отец Тылыка, — известный певец, его во всех стойбищах знают, по всему побережью. «Дуй, северный ветер, — говорится в той песне. — Дуй, чукчи тебя не боятся. Может, мыши попрячутся в норы поглубже — у тундровой мыши трусливое сердце. Может, лисица хвост подожмет. А белый медведь над тобой смеется, он только, может быть, нос отвернет, если крепче подуешь. Неужели ты думаешь, ветер, что в груди у охотника бьется сердце трусливой тундровой мыши? Нет, охотнику ветер не страшен, даже лицо свое прятать охотник не станет. Мы с тобой, ветер, товарищи! Дуй, мой товарищ, дуй, шевелись, — что хорошего, если лежать неподвижно? Если бы море было стоячей лужей, разве водились бы в море сильные звери? Запахом гнили несет от воды стоячей. Всюду проникла бы гниль, если б воздух вдруг стал неподвижным. Дуй, не ленись! Только помни: не надо дуть от меня на пугливого зверя. Не спутай! Дуй от него на меня, на охотника дуй, если ты нам и вправду товарищ».
Тылык замедляет шаги, поворачивается лицом к морю, к ветру: «Даже лицо свое прятать охотник не станет». Но сейчас тут гордиться нечем, ветер не сильный. Такого, пожалуй, и тундровая мышь не испугалась бы. А всё-таки холодно… Скорей бы вернулось лето! Летом море куда интереснее!
Летом северный ветер гонит на берег волны, море выбрасывает на песок множество всяких диковинок. Хорошо после шторма бродить по берегу, собирать вкусные, длинные, как ремни собачьей упряжи, листья морской капусты. А ракушки иногда попадаются такие, что хоть целый час смотри — не насмотришься. Самые необыкновенные ракушки Тылык относил резчику Гэмауге, тот умеет оценить такие подарки.
Попадались на берегу и жестянки, жестяные банки из-под консервов. Такие находки казались Тылыку ещё интересней, чем ракушки и морская капуста. Банки были круглые и прямоугольные, с яркими, заманчивыми картинками и без картинок. Впрочем, отец говорил, что картинки были раньше и на этих, только напечатаны они были не прямо на жести, а на бумажках, которые размокли и отклеились, пока банки, выброшенные каким-то коком, плавали в море.
Тылык понимал, конечно, что банки — и с картинками и без картинок — выброшены с пароходов; что занесло их сюда, в чукотские воды, скорее всего из Берингова моря. Но ему хотелось думать иначе. Хотелось думать, будто северный ветер пригнал эти красивые банки с того неведомого острова, о котором поется в песне отца. Наверно, были в этих банках вкуснейшие лакомства, ещё более вкусные, чем нерпичьи глаза и морская капуста; наверно, люди, живущие на сказочном острове, съели эти лакомства, вылизали жестянки, разрисовали их яркими, блестящими красками и подарили морю. А море, вдоволь наигравшись жестянками, подарило их чукотским ребятам.
Тылык очень жалел, что в песне отца о северном ветре не было ни слова насчет консервных банок. Ведь это была большая песня, песня-сказка. В ней говорилось о том, что чукчи с детства привычны к северному ветру, и о том, что рождается этот ветер на счастливом острове, лежащем далеко на севере. У каждого жителя этого острова есть своя байдара, и у каждого — двенадцать детей. Еды там всегда вдоволь, а в ярангах горят неугасающие жирники, свет которых может соперничать с солнечным. Только не для чукчей тот остров, ни один чукотский охотник никогда не сможет туда попасть. Как-то один охотник разглядел в тумане тот остров, хотел пристать, да байдарный хозяин не позволил. Ещё на смех поднял охотника, сказал, что там ничего нет, кроме тумана. Ему вправду ничего не было видно, — глазам байдарного хозяина такие вещи не открываются… Вот какую песню нашептал певцу Атыку северный ветер.
Давно сложил эту песню Атык, очень давно. Тылыка тогда и на свете еще не было. Каждый раз Атык поет её, немного изменяя, добавляя новые подробности. Она так разрослась, что ею стали измерять расстояния. «До соседнего стойбища, — говорит, посмеиваясь, дядя Мэмыль, — не больше четырех песен о северном ветре».
Но Тылыку едва хватает этой песни на дорогу от школы до дому. И ничего тут нет удивительного: ведь в соседнее стойбище ездят на собаках, а Тылык идет пешком, идет не торопясь, осматривая чуть ли не каждый торос на береговом припае.
Юра Черняк горячо с кем-то заспорил во сне. Вначале слов нельзя было разобрать, потому что спорил он, почти не раскрывая рта. Потом Тылык разобрал: «А вот и нет… А вот и нет».
Тылык достал из-под подушки часы и при неверном, едва проникавшем в комнату свете уличного фонаря стал вглядываться в циферблат. «Неужели уже двадцать минут шестого?.. Нет, половина пятого… Конечно, половина пятого, это ведь минутная стрелка возле шести… Скорее всего эта сказка о счастливом острове связана с историей «Земли Андреева» — той гигантской дрейфующей в северных водах льдины, которую даже некоторые географы принимали за настоящий остров… Разбудить Юрку, что ли?»
Но Юра скоро повернулся на бок и успокоился, а Тылык возвратился мыслями к своему детству, к поискам истоков «Песни о двух ветрах» — той, которую слышал сегодня на новогоднем концерте.
Ранняя весна. К весне, не дожив и до конца первого учебного года, школа, созданная в поселке Всеволодом Ильичом, чуть было не прекратила своего существования. Неприятности начались с того, что Эйнес — самый старший и самый лучший из учеников — тяжело заболел.
А заболел он вот при каких обстоятельствах. Однажды вместе с учителем он пошел на охоту за нерпами. Зверя в тот год мало было, они посидели на краю припая, ни одной нерпы не дождались и решили переменить место, в сторону пройти, подальше от поселка. А там уже небольшие разводья были, край припая кое-где трещины дал. Шли наши охотники, широкие трещины обходили, через узкие перепрыгивали, а потом Эйнес всё-таки неловко как-то прыгнул, поскользнулся и упал в воду. Его под лёд затянуло, еле Всеволод Ильич вытащил. Но Эйнес, пока барахтался в воде, совсем ослабел, идти не мог, пришлось Всеволоду Ильичу тащить его в поселок на себе. Это они, конечно, неправильно сделали: в таких случаях надо хоть из самых последних сил пробежаться, хорошенько согреться… К вечеру Эйнес заболел. Сильный жар у него появился, бред.
Всеволод Ильич очень был расстроен, огорчен, целые ночи просиживал около своего ученика. Но занятия, конечно, продолжал.
Заниматься у Рультынэ уже нельзя было, школа временно перешла в ярангу Мэмыля. Здесь семья тоже была совсем небольшая: вдовец Мэмыль, который к тому же никогда не торчал дома больше, чем подобает настоящему охотнику, и его маленькая дочь. Девочка, правда, учиться ещё не могла, но сидела тихонько, никому не мешала, или играла на улице.
А пока в яранге Мэмыля Всеволод Ильич учил ребят читать и писать, в яранге Рультынэ, возле больного Эйнеса, распоряжался шаман Эвынто. Он долго шаманил возле больного, бил в бубен, вертелся как безумный, завывал, произносил срывающимся голосом обрывки каких-то непонятных фраз. Эвынто всегда проделывал такие штуки без всякой жалости к своим старческим силам, можно было подумать, будто он действительно верит, что разговаривает в это время со злыми духами, с кэле.
Пошаманив, он упал на шкуры, а через несколько минут, отдышавшись, заявил, что кэле очень разгневаны. Ведь Эйнес уже был подо льдом, был у них в руках, а этот неразумный таньг посмел вырвать у них из рук добычу. Таньгом — чужаком — шаман называл всякого, кто не был чукчей.
— Кэле требуют Эйнеса, — сказал шаман. — Он должен стать их добычей. Иначе я ничем не смогу их умилостивить. Они грозят, что пошлют болезнь на других детей и совсем уведут зверя из наших мест…
Дело в том, что Эйнеса шаман уже давно терпеть не мог. И даже немного побаивался. В поселке упорно говорили о том, будто бы отец Эйнеса был убит каким-то вором. Этот вор хотел будто бы ограбить капканы, поставленные отцом Эйнеса, но был пойман и в завязавшейся драке убил его. Хотя труп отыскали только через два дня, когда над ним порядочно потрудились волки, но по каким-то признакам охотники решили, что волки пришли уже на готовое. И подозревали, что вором и убийцей был не кто иной, как шаман Эвынто. Так это было или не так, точно никто не знал. Кроме самого шамана, конечно.
Когда Эйнес немного подрос, дошли эти слухи и до него. Кого расспросишь, у кого узнаешь? Тундра молчалива, а других свидетелей не было. Но мальчик не раз ловил на себе неприязненные взгляды шамана и чувствовал, что эти слухи не пустая сплетня. Эйнес возненавидел грязного старика и вовсе не пытался скрыть от него свою ненависть.
Вот Эвынто и решил, что болезнь Эйнеса пришлась кстати: самый удобный момент, чтобы, сославшись, по обыкновению, на разгневанных кэле. расправиться с подрастающим врагом. Вдобавок и Рультынэ будет наказана за то, что пустила в свою ярангу школу. Будет знать, кого слушать — какого-то таньга или своего старого шамана.
Тылык тогда ещё не улавливал связи всех этих явлений. Он понимал только то, что его товарищу Эйнесу грозит смертельная опасность. А кое-кто из охотников хоть и догадывался, что дело тут не чистое, но молчал: побаивались ещё шамана, держалась ещё вера в его могущество. Вдруг он и в самом деле сговорится с кэле, чтобы они наслали болезнь на других детей? Вдруг он и в самом деле сделает так, чтобы кэле увели зверя от охотников? Неужели весь поселок должен погибать из-за одного мальчика, который всё равно так тяжело болен, что уж скорее всего не поправится?
Словом, случись всё это годом или двумя раньше, шаману Эвынто наверняка удалась бы его затея. А тут не удалась. Темным был ещё наш народ, но всё-таки первые проблески света уже появлялись, у некоторых охотников головы уже прояснились немного. Когда узнали обо всем Мэмыль и Вамче, они пошли в ярангу шамана, и Мэмыль сказал:
— Если ты притронешься к Эйнесу, будет тебе плохо. Будем тебя судить за убийство. Понимаешь? Ты нам про кэле не рассказывай; тебя буем судить, а не кэле.
А Вамче добавил:
— Даже русского парохода дожидаться не будем. Сами присудим. Сразу.
И он так посмотрел на Эвынто, что тот понял, к чему собирается присудить его Вамче.
Конечно, он только посмеялся им в лицо, чтобы скрыть свой испуг, но всё-таки решил не рисковать. Понял, что времена изменились. Не то чтобы он совсем отступился, но решил действовать хитрее. Он знал, что на следующий день Мэмыль и Вамче; уезжают в районный центр на какое-то совещание. Вот старик и надумал воспользоваться этим.
Утром, как только собачьи упряжки Мэмыля и Вамче скрылись за холмами, а Всеволод Ильич начал заниматься с ребятами в яранге Мэмыля, шаман Эвынто пошел к Рультынэ. Он посидел немного возле Эйнеса, послушал его бред, сделал вид, будто разговаривает с ним, а потом заявил, что Эйнес просит смерти, просит избавить его от мучений. А по старым чукотским обычаям такая просьба считалась законом, и родные больного должны были беспрекословно выполнить её. Оставив рыдающую Рультынэ, шаман пошел к её брату — старому Вэльпонты — и сообщил ему о «просьбе» Эйнеса. После этого он отправился на дальний конец поселка, к своему приятелю Онне.
Шаман был почти уверен в успехе своего подлого замысла. «Старый дурак Вэльпонты, — думал он, — не посмеет нарушить обычай предков. Мальчишку не шаман убьет, его убьет родной дядя. Шамана Эвынто и близко в это время не будет, он в это время у Онны чай будет пить».
Правда, обычай «добровольной смерти» никогда не распространялся на молодых, такой конец избирали только совсем уже дряхлые или тяжело больные старики. Это обстоятельство немного тревожило шамана. Старый дурак Вэльпонты поверил, но поверят ли остальные? В другое время шаман, пожалуй, не стал бы так рисковать, но сейчас злоба была в нём сильнее, чем осторожность. К тому же он торопился, хотел расправиться с Эйнесом, пока Мэмыль и Вамче заседают в районном центре.
…Маленькая дочка Мэмыля вернулась с улицы в ярангу и, ни к кому не обращаясь, спокойно сказала что-то звонким своим голоском. Всеволод Ильич строго посмотрел на неё.
— Не мешай, девочка. Мы занимаемся.
Но по лицам учеников он понял, что девочка сообщила что-то важное. Он спросил:
— Что она говорит?
— Она говорит, — перевел Тылык, — что Эйнес умереть захотел. Его сейчас будут душить.
Всеволод Ильич кинулся из яранги как был — без пиджака и рубашки. Все школьники кинулись за ним. Через три минуты он уже вытаскивал из яранги Рультынэ старого Вэльпонты. Старик рвался у него из рук, злобно ругался, царапался, кусался. Но белые руки учителя уже не напоминали школьникам тонкие палки для обработки шкур. Мускулы резко обозначились на них, он крепко держал Вэльпонты, а оттащив от яранги, далеко отшвырнул от себя на дорогу. Вэльпонты встал, потирая ушибленный зад, и неожиданно тихо сказал:
— Ремешок мой отдай.
Учитель взял у Рультынэ кожаную бечеву и бросил на дорогу. Старик подобрал её, но в тот же момент подхватил с дороги камень и метнул его в учителя. Камень попал в ногу, в самое колено.
Учителю пришлось надолго слечь, нога у него сильно распухла. Он лежал рядом с Эйнесом, Рультынэ ухаживала теперь за обоими. Эйнес скоро пришел в себя, начал поправляться. Когда мать стала расспрашивать его, рассказал, что у него даже и мысли не было о добровольной смерти. Учитель так радовался выздоровлению Эйнеса, что и про ногу свою забывал. Но занятия пришлось на время прервать: учитель не хотел, чтобы в ярангу набивалось много ребят, Эйнесу нужен был свежий воздух.
Когда же Эйнес немного окреп и учитель решил возобновить занятия, к нему пришло только трое учеников Гоном, Кэлевги и Тылык.
— Где же все остальные? — спросил учитель.
— Одни уже уехали, другие собираются, завтра уедут, — ответил Тылык. — Меня тоже завтра отец отвезет.
— Куда?
— В тундру, к оленным чукчам. Здесь мяса мало, совсем охота плохая.
— Так, ясно…
Всеволод Ильич несколько секунд лежит с закрытыми глазами, а затем спрашивает:
— Скажи, Рультынэ, бывали раньше годы, когда охота была такая же плохая?
— Бывали, Севалот, конечно. Ещё хуже бывали. Годы разные бывают, один на другой не похож.
— А отправляли детей к оленным чукчам?
— Нет… Ну, может, некоторые отправляли, у кого поблизости где-нибудь оленные родственники есть. А так, чтобы сразу столько детей отправлять, — нет, этого не было.
— Значит, опять шаман действует. Не успокоился ещё старый черт!
Гоном придвигается поближе к учителю и тихо говорит:
— Это он, я слышал, как он отца пугал.
— Чем же он пугал?
— Говорит, что, как только пароход придет, русский учитель всех детей капитану отдаст. А капитан в Хабаровск нас увезет.
— Интересно! Зачем же я стал бы вас отдавать?
— За деньги. Эвынто говорил, что тебе за нас деньги дадут. «Для того, — говорил, — он их и учит. Разве здесь ученые нужны? Здесь без ученья жили, без ученья и проживут. Охотнику, — говорил, — грамота не нужна, ему меткий глаз нужен. А от грамоты глаза устают, слабеют. В Хабаровске дело другое, там грамотные нужны. Там, — говорил, — за неграмотного хороших денег не заплатят».
— Нечего сказать, отличный бизнес он мне придумал. Что же я, торговец живым товаром, что ли?
— Да. «Везите, — говорил, — всех школьников в тундру, в горы. Пускай там переждут, пароход у нас долго не простоит. Увезите, пока пароход не пришел. А скажем, что ребята тощать стали, вот и пришлось их к оленным чукчам отвезти».
— Какой мерзавец! Какая подлая тварь! — Всеволод Ильич резко приподнимается, садится, морщится от боли. — А тут эта проклятая история с ногой!.. Ну, ничего, мы ещё посмотрим, чья возьмет! Скажите, ребята, вы верите этому старому обманщику?
— Нет! Нет, не верим!
— А мне верите? Учиться хотите?
— Тебе верим. Хотим учиться. Вчера, когда Ринтувги увозили, так он даже драться стал, не хотел уезжать. Его связанного увезли.
— Тогда всё в порядке. Ну-ка, друзья, помогите мне перевести на чукотский такое письмо: «Уважаемый товарищ Атык, прошу тебя зайти ко мне по важному делу…»
Коллективными усилиями перевод был сделан, и Тылык записал его. Учитель велел отнести записку отцу, а по дороге забежать к дяде Мэмылю, попросить и его, чтоб зашел.
И вот Тылык приносит отцу записку.
— Слушай, письмо я тебе принес.
— Письмо? — удивленно переспрашивает Атык. — Говорящую бумажку?
— Да.
— Что же она говорит?
— Вот слушай: «Уважаемый товарищ Атык, прошу тебя зайти ко мне по важному делу. Зашел бы к тебе сам, да не могу, нога ещё сильно болит. Всеволод Вербин».
Атык слушает записку, как слушают музыку. Ему очень нравится. Но, убедившись, что сын закончил, он спрашивает:
— А зачем там стоит моё имя?
— Так ведь это тебе письмо!
— Мне?!
— Конечно, тебе. Вот видишь, тут так и написано: «Уважаемый товарищ Атык».
— Ты смеешься, Тылык. Смеяться над отцом — это очень нехорошо. Я могу рассердиться, и тогда будет совсем нехорошо.
— Да вовсе я не смеюсь, это тебе письмо. Тебе!
— Говорящие бумажки пишут только тому, кто умеет читать. А я не умею. Где ты взял эту бумажку? Кто тебе дал её?
— Это ничего, что ты не умеешь читать, — ведь я тебе прочел, значит, ты теперь знаешь всё, что тут написано. А дал мне это письмо Севалот, наш учитель.
Тылык давно уже умеет правильно произносить имя учителя, но он нарочно подражает сейчас произношению отца и других охотников. Тылыку кажется, что так отцу будет понятнее.
— Севалот, говоришь?
— Да. Это я от него письмо тебе принес.
— Ну-ка, прочти ещё раз.
Тылык снова читает записку вслух. Когда он заканчивает, Атык удовлетворенно кивает головой.
— Хорошая бумажка, — говорит он. — Правильная. «Нога ещё сильно болит» — это у Севалота нога болит. Это Вэльпонты ему ногу разбил. Старый человек Вэльпонты, а глупый. Глупый и злой… А скажи мне, Тылык, зачем там, в конце, стоят имена учителя? «Севалот Вербин» — и больше ничего не сказано. Может быть, ты мне не всё прочел?
— Это подпись. Это так полагается — и в самом конце своё имя ставить. Чтобы знали, от кого письмо.
Отец кажется Тылыку удивительно непонятливым. Ещё ни разу в жизни так не бывало! Атык — отличный охотник, смелый моряк. Знаниями и умом он не уступит даже дяде Мэмылю, а в искусстве играть на яраре и складывать песни Атыку нет равного на всём побережье. Столько интересного Тылык узнал от отца!
И вдруг роли переменились, приходится объяснять отцу такие простые вещи. Объясняешь, а он всё равно не понимает. Мальчик и горд своим превосходством, и в то же время ему немного совестно. То ли ему стыдно за отца, проявившего вдруг такую непонятливость, то ли он смутно ощущает, что гордое чувство превосходства не совсем законное, не совсем справедливое. Ведь всю долгую чукотскую зиму Всеволод Ильич упорно добивался, чтобы грамота была Тылыку ясна и понятна, тогда как для Атыка вся его тяжелая жизнь делает темной и непонятной такую удивительную вещь, как письмо. Никогда не получал он писем, никогда и ни от кого.
— Всё-таки, Тылык, ты, наверно, путаешь что-нибудь. Говорящие бумажки могут говорить по-русски, это все знают. У американцев тоже есть говорящие бумажки. Но ещё ни одна бумажка не говорила по-чукотски. Этого не бывает. У кого хочешь спроси — каждый тебе скажет то же самое.
Тылыку кажется, что так и не удастся ему договориться с отцом. И зачем только учитель придумал писать письмо, да ещё по-чукотски?! Разве не мог он передать на словах? Но Тылык с малых лет знает, что даже из безногого скорее может получиться хороший охотник, чем из нетерпеливого. Нет, нетерпения он не проявит! Он произносит спокойно, с достоинством:
— Эта бумажка говорит по-чукотски, я ничего не спутал. Что же я мог спутать? Ты же сам слышал, я ведь читал тебе.
— А может быть, ты выучил эти слова на память? Как песню?
— Нет, я читал их с бумажки. Здесь так написано.
— По-чукотски?
— Да. По-чукотски. Я сам писал.
— Ты сам писал эту говорящую бумажку?
— Да. Севалот говорил мне, а я писал.
— Ну, хорошо. Тогда пойдем, Тылык. Насколько я понял, учитель хочет, чтобы я пришел к нему…
В яранге Рультынэ, возле больного учителя, они застали дядю Мэмыля и ещё нескольких охотников.
— Вы знаете, — говорил Всеволод Ильич, — что в Анадыре и в Уэлене уже работают государственные факгории. Они покупают пушнину и продают всякие товары, которые нужны охотникам. Сейчас там торгуют русские люди, а когда чукчи станут грамотными, они сами смогут торговать в таких магазинах. А такие магазины будут созданы во всех больших поселках. Значит, нужно много грамотных чукотских людей. Верно?
— Верно, — сказал Мэмыль.
— Дальше. Вы знаете, что на южном берегу, на Беринговом, уже второй год работают две школы, а одна школа — даже третий год. Увозили оттуда детей в Хабаровск?
— Нет, не увозили, — сказал Вамче. — У меня в бухте Лаврентия брат живет, его дочка там учится. Оттуда никого не увозили, я знаю.
— Конечно, не увозили. И отсюда никого увозить не будут. Грамотные люди здесь ещё нужней, чем в Хабаровске. Советская власть требует, чтобы везде были школы, чтобы все дети учились. И чтобы учились они на своем родном языке. Так нам ещё Ленин говорил. Значит, нужно чтобы сами чукчи учителями стали, нужно, чтобы было много чукотских учителей. Значит, шаман неправду говорит, никуда я ваших детей не собираюсь отправлять. Даже простому охотнику грамота нужна будет. Скоро у вас моторные вельботы появятся, а грамотному легче мотор изучить, чем неграмотному. Правильно я сказал?
— Может быть, ты сказал правильно, — уклончиво ответил охотник Гэмалькот. — Может быть, ты сказал правильно, но мои уши не привыкли слышать такие слова. Я слыхал про моторные вельботы, есть такие вельботы. Но никогда ни один чукча не был учителем.
— Никогда, — подтвердил Атык.
— Хорошо, — сказал Всеволод Ильич. — Хорошо, я тогда спрошу так. Где нужны люди, которые грамотны по-чукотски, — здесь, на Чукотке, или в Хабаровске? Если бы я собирался отправлять отсюда ваших детей, зачем я стал бы учить их чукотской грамоте?
— Да, — сказал Атык. — Севалот учит наших детей чукотской грамоте. Мой Тылык принес мне сегодня бумажку, говорящую по-чукотски. Он прочел мне её, и я почти сразу все понял. Он сам её написал. Вот она.
— Совершенно верно, я просил Тылыка передать тебе это письмо. Твой сын хорошо учится, я даже не думал, что за одну зиму он сделает такие успехи. Пройдет несколько лет, и вы будете читать на своем языке не только письма, но и газеты и целые книги.
— А разве есть такие книги и газеты? — спросил Вамче.
— Нет, их ещё нет. Но они будут, в этом я уверен. Очень скоро будут — через год или через два. И тогда каждый чукча захочет знать грамоту… Но я ещё не услышал вашего ответа, охотники. Для чего советская власть послала меня сюда? Для чего советская власть поручила мне учить ваших детей? Для того, чтобы отнять их у вас, или для того, чтобы помочь вам наладить на Чукотке хорошую жизнь?
— Говори, Мэмыль, — сказал Вамче.
— Я мог бы сказать, — отозвался Мэмыль. — Я сказал бы, что никуда не увезу свою дочь, пусть учится. Но Севалот не принимает мою Тэгрынэ, говорит, что она ещё мала для этого. Будет лучше, если скажет тот, у кого дети учатся в школе.
— Мой сын учится в школе, — сказал тогда Атык. — Мой сын Тылык, вот этот. Зачем я буду мешать ему? Пусть учится дальше. Шаман меня не запугает.
— А что думают другие охотники?
— Мы все так думаем, — ответил Гэмалькот.
— Все, — подтвердил Вамче. — А те, которые уже увезли своих детей, они привезут их обратно. Вот увидишь.
Так и случилось. Занятия возобновились уже на следующее утро. Через день, удрав из стойбища оленеводов, вернулся Ринтувги. Вопреки его ожиданиям ему даже не влетело от отца за самовольное возвращение. А к концу недели в поселок вернулось большинство школьников — родители сами съездили за ними в тундру, к оленным чукчам. Учебный год не был сорван, школу удалось сохранить.
Прошло три года; Тылык уже заканчивал четырехлетку. Да, это было именно тогда, в последнюю весну, которую Тылык встречал в своем родном поселке.
Впоследствии он почти каждый год приезжал к родным. Сначала — из Анадыря, потом — из Хабаровска, потом — с реки Омолон, а в последние годы — из Ленинграда. Правда, из Ленинграда удалось съездить только два раза. Уж очень далеко от Ленинграда до Чукотки — каникулы чуть не целиком на дорогу уходят. Но ничего, летом, в июле, он, наверно, поедет туда на преддипломную практику.
Да, Тылык много раз приезжал к родным, в охотничий колхоз «Утро». Но только летом. Всё остальное время он занимался. Сначала в Анадырской семилетке, потом в Хабаровском педучилище, потом несколько лет учительствовал в далекой тундре, на реке Омолон, а теперь вот учится в Ленинградском университете. Весна все эти годы была для него горячей порой: экзамены! Так что та весна, когда он заканчивал четырехлетку, была последней, проведенной им на побережье Чукотского моря.
Что ж, выходит, значит, что прав был шаман, а не учитель? Ведь Тылык действительно уехал из родного поселка и в конце концов очутился даже не в Хабаровске, а гораздо дальше, в Ленинграде… И всё-таки прав был учитель, а не шаман!
Одни и те же факты в разное время имеют разное значение. То, что сегодня воспринимается как успех, завтра будут, может быть, считать неудачей. А бывает и наоборот. Если бы Тылык уехал из поселка тогда, когда это предсказывал шаман Эвынто, все охотники считали бы, что на семью Атыка свалилось большое несчастье. Тогда Атык ни в коем случае не согласился бы отпустить сына по доброй воле. А через три года он даже гордился тем, что отправляет сына в Анадырь, в семилетку.
Сказать, что он делал это с легким сердцем, было бы, конечно, неверно. Нет, совсем нет. Но если за три года до того он воспринял бы предстоящий отъезд сына как тяжелую беду, то теперь он воспринимал это как дело хоть и рискованное, но достойное, нужное и даже заманчивое. «Ну что ж, — думал Атык, — разве не рискованно повстречаться в тундре с медведем? А какой охотник не мечтает о такой встрече? Пусть едет сын, пусть едет! Прав был учитель, когда не дал забрать Тылыка из первого класса, и прав он сейчас, когда советует отправить Тылыка в Анадырь, в пятый класс».
Атык сидит у очага, в руках у него тонкая палочка и ярар — чукотский бубен с резной рукояткой из моржового бивня. Мать и сестренка Туар куда-то ушли. Отец слегка постукивает палочкой по ярару; тихие, рокочущие звуки наполняют ярангу. Будто рокочет море вдалеке, будто волны, подгоняемые ветром, перекатывают камешки по дну. Отец шевелит губами, — наверно, он напевает про себя какую-то песню.
Тылык примостился на шкуре, возле жирника, распространяющего теплый желтоватый свет. Перед мальчиком лежит раскрытая книга, но он не читает. Под звуки отцовского ярара он размышляет о том, как быстро пролетит весна, как пройдет недолгое чукотское лето, как в самом начале осени он уедет вместе с Эйнесом в Анадырь, как они поступят в семилетку… В Анадыре, говорят, все дома деревянные, ни одной яранги нет. Там не только учатся в домах, там даже живут в них.
Начиная со второго класса, Тылык учился в школе, помещавшейся уже в деревянном доме. Тот пароход, который, по уверениям шамана, должен был увезти в Хабаровск всех школьников, никого из поселка не увез, а привез в поселок бревна для школьного дома, стекла для окон, толь для крыши, кирпич для печей… Маленькая Туар считает, что каждый деревянный дом — это школа. Недавно Тылык рассказывал матери и сестре про Анадырь. Правда, сам он ещё не бывал там, но очень много слышал об Анадыре. Когда он сказал, что там вовсе нет яранг, Туар спросила: «А где же там люди живут? В школах?»
Тылык слышит, что в рокочущие звуки ярара вплетается голос отца. Тихий, будто неуверенный, будто нащупывающий что-то. Тылык вслушивается; он понимает, что рядом рождается новая песня.
Иногда Атык по нескольку раз повторяет одну и ту же фразу. То одно слово в ней изменит, то другое. Иногда напевает без слов, иногда совсем замолкает, только ритмично постукивает палочкой по ярару. То возвращается песня к началу, как путник, выбравший неверную тропку, то льется песня легко и свободно.
Начало знакомо Тылыку, — речь там идет о северном ветре. Но это не та, давно знакомая песня, это совсем другая, новая, только начало у них одинаковое. В новой песне поется, что северный ветер напрасно нашептывал сказку про недоступный остров. Другой прилетел на Чукотку ветер — южный, весенний. Радостные вести принес он.
Он рассказал не про сказочный остров, где счастье — только несбыточная мечта, только призрак, привидевшийся в морском тумане, а про большую счастливую землю, над которой взошло беззакатное солнце. Он рассказал о свободной жизни, о счастье, к которому путь никому не заказан. Он и чукчам помог выйти на этот верный путь. «Южный ветер! С тобой возвращаются птицы, улетавшие в дальние страны, с тобой возвращаются травы и мхи, замиравшие в тундре под снегом, с тобой возвращаются волны, тосковавшие подо льдом. Весна приходит с тобой. Но вести, которые ты нам принес, дороже всего! Снова птицы в дальние страны умчатся, снова мхи покроются снегом, а волны — льдом; та весна, которая тело согрела, пройдет. Но та весна, которая чукчам глаза открыла, останется навсегда. Будут зимние вьюги приходить, и холод и тьма полярной ночи будут возвращаться каждую зиму. Но никогда не вернется байдарный хозяин, никогда не вернутся шаман и скупщик. Хорошие вести, мудрые, могучие слова донес до Чукотки южный ветер. Горы не сбили его с пути, тундра не истощила его сил. Стали теперь мы сами — простые охотники и пастухи — хозяевами моторных байдар и богатого стада оленей; на побережье Чукотского моря выросли школы для наших детей. Будут зимние вьюги к нам приходить, будет северный ветер в горах с южным ветром бороться, но никогда не померкнет над нами солнце великой ленинской правды. Дуй, весенний ветер, покрепче дуй! Бури вынянчили сердце народа чукчей, и это сердце радо тебе, добрый гость, прилетевший к нам с юга!»
Через несколько дней, на весеннем празднике Спуска байдар, Атык впервые спел эту песню перед всеми охотниками колхоза «Утро». Вскоре «Песню о двух ветрах» знали уже по всему побережью.
В августе Тылык уехал в Анадырь. Вамче ехал туда на курсы колхозного актива, Тылыка и Эйнеса отправили вместе с ним.
Накануне, в воскресенье 31 декабря, Юра и Вася ещё с утра уехали к каким-то Юриным родичам, а Тылык и Сергей, подсмеиваясь друг над другом, стали готовиться к новогоднему студенческому балу: брились, гладили брюки, примеряли галстуки. Ещё не был решен вопрос о том, какой из галстуков больше подходит к синему костюму Тылыка, а какой — к серому костюму Сергея, когда пришел Гэутэгын — земляк Тылыка, студент математического факультета.
— О чём это вы расшумелись? — спросил он, снимая пальто. — Даже в коридоре слышно.
— Да никак вот не можем выбрать, кому какой галстук надеть, — сказал Сергей.
— Кому какой галстук? — переспросил Гэутэгын. — Ну что ж, попытаюсь помочь вам. Прежде всего надо четко представить себе существо вопроса, его объем. Если Тылык наденет полосатый, то ты, Сергей, можешь надеть либо светлый, либо пестро-клетчатый. Если Тылык наденет светлый, то ты сможешь надеть либо пестро-клетчатый, либо полосатый… Словом, при трех галстуках и двух шеях общее количество вариантов равно шести. Из этих шести вам и предстоит выбрать один вариант.
— Вот что значит четкая постановка вопроса, — рассмеялся Тылык. — А мы-то здесь голову ломаем!
— Пожалуй, ты на самом деле сможешь нам помочь, — сказал Сергей, не отводя глаз от груди Гэутэгына. — К твоей темной рубашке очень пошел бы светлый галстук. Твой галстук вполне подходит к костюму Тылыка, а я, так и быть, выбрал бы себе один из двух оставшихся.
— Нет, дорогой товарищ, этот номер не пройдет. Если мы включим в игру один мой галстук и одну мою шею, то количество возможных вариантов сразу возрастет с шести до двадцати четырех. Это значительно затруднит выбор.
— Сразу видно — математик! — воскликнул Тылык.
— К тому же математик, не желающий расставаться со своим галстуком! — добавил Сергей.
— Совершенно верно, — подтвердил Гэутэгын, взглянув на часы. — А кроме того, математик, желающий включить в повестку дня вопрос, гораздо более срочный.
С этими словами он подошел к вешалке, вынул из кармана своего пальто бутылку вина и торжественно поставил её на стол.
— В вашем хозяйстве, надеюсь, найдется пробочник и три хрустальных бокала?
Пробочник нашелся, а роль хрустальных бокалов пришлось выполнять двум стаканам и одной чашке
— Ты что же это, — спросил Сергей, предусмотрительно убирая со стола галстуки, — решил встретить Новый год досрочно?
— Нет, не досрочно, а точно в срок. Через десять часов Новый год подойдет к Ленинграду, и мы будем встречать его вместе со всеми ленинградцами. Но к восточным границам Советского Союза он уже подходит. И первыми встретят его люди Чукотки.
Тылык посмотрел на часы и сказал:
— Через пять минут на Чукотке уже наступит Новый год.
— Совершенно верно, — продолжал Гэутэгын. — Вот я и предлагаю встретить его одновременно с жителями Анадыря и Уэлена.
— С полярниками Ванкарема, с пограничниками острова Ратманова и шахтерами бухты Угольной, — поддержал Тылык.
— С охотниками колхоза «Утро» и оленеводами долины Омолона! — добавил Сергей, показывая, что хоть и не бывал на родине своих друзей, но кое-что всё-таки знает о ней.
Гэутэгын налил вино в стаканы. Сергей, поднимая стакан, сказал:
— За чукотский Новый год!
— За страну, на востоке которой Новый год в эту минуту уже встречают! — сказал Гэутэгын. — Да здравствует единственная в мире страна, через которую даже такая быстрая штука, как минута, не может перелететь быстрей чем за двенадцать часов!
Так начался этот день. А вечером Тылык и Сергей были в Доме культуры, на новогоднем студенческом балу. Вскоре после полуночи гостей пригласили в концертный зал. Тылык оказался в одном из первых рядов. Он слушал стихотворный фельетон и игру молодого скрипача — лауреата международного конкурса; смотрел балетные номера, вместе со всем залом хохотал во время выступления кукловодов. После кукловодов выступал известный композитор; он сыграл на рояле увертюру и вальс, написанные им для нового фильма, ещё не вышедшего на экран. Тылык горячо аплодировал композитору, потом заговорился со студентом, сидевшим рядом, и когда конферансье объявлял следующий номер, услышал только самые последние слова: «. исполнит песни народов Советского Союза».
На эстраду, встреченная аплодисментами, вышла молодая светловолосая женщина. Она спела русского «Соловья-соловушку», потом украинского шуточного «Комарика», потом грузинскую «Суляко». Ей аккомпанировал худощавый, уже немолодой пианист. Они были немного похожи: можно было подумать, что это отец и дочь. После каждой песни он вставал и, переждав, пока отгремят аплодисменты, объявлял следующую песню — то узбекскую, то эстонскую, то молдавскую. С чуть заметным нерусским акцентом он прочитывал перевод песни, снова садился и играл. А светловолосая женщина пела. Она пела так легко, с такой простотой и свободой, что каждый раз казалось, будто это её родной язык, будто эта песня знакома ей с детства. Судя по внешности и по имени (аккомпаниатор называл её «Салми Аугустовна»), она была скорее всего эстонкой. Но Тылыку казалось, что каждый раз она преображается даже внешне — в её жесте, в чертах её лица появляется то что-то грузинское, то узбекское, то молдавское. Что-то неуловимо изменялось в выражении её глаз, в движении её рук; новая мелодия неслась с эстрады — и вот артистка, казавшаяся только что задумчивой дочерью Кавказских гор, превращалась в задорную девчонку с молдавских виноградников. Наверно, не только у Тылыка было такое впечатление, потому что двое студентов-грузин что-то восторженно кричали артистке по-грузински после того, как она спела «Сулико»…
Артистка подала руку своему аккомпаниатору, они поклонились и ушли за кулисы. Потом она несколько раз выбегала раскланивалась, а аплодисменты всё не стихали. Вышел конферансье, пытался что-то сказать и сразу же убедился, что перекричать студентов — дело нелегкое. Концерт был хороший, всех артистов принимали горячо, но даже композитор и балерина, которых тоже долго не отпускали, не вызвали такого единодушного восторга, как эта певица. Зал успокоился только тогда, когда она снова вышла в сопровождении аккомпаниатора и, дружески улыбаясь студентам, заняла свое место около рояля. Аккомпаниатор объявил:
— Салми Аугустовна споет чукотскую «Песню о двух ветрах».
Переждав новый взлет аплодисментов, он стал читать перевод песни: «Обветренны лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки. Обвеяны ветрами, просолены брызгами с гребней морской волны…»
Он сел за рояль — и тихие, рокочущие звуки, похожие на шум далекого морского прибоя, наполнили зал. Тылык слушал зачарованный; только много позже он удивился тому, что рояль может с такой точностью передать напевный рокот ярара. Артистка пела о грустной сказке, которую рассказывал чукчам северный ветер, и о великой радостной правде, которую принес им южный ветер. Тылык увидел, что не ошибся, — артистка пела как настоящая чукчанка.
Когда она закончила, Тылык поднялся и стал пробираться к выходу: ему уже не хотелось оставаться, хотелось, чтоб концерт закончился на этом. Конферансье объявлял следующий номер, но Тылык, не слушая, вышел.
Он подумал было отыскать артистку, поблагодарить её, расспросить, откуда узнала она «Песню о двух ветрах», но постеснялся, передумал и направился в большой зал Дома культуры, откуда доносилась музыка вальса.
Сергей Ширяев оказался там. Он танцевал с Ксюшей. Тылык подождал, пока кончится танец, и спросил, не хотят ли они погулять. Сергей вопросительно посмотрел на Ксюшу.
— Нет, — сказала она, — я бы, пожалуй, ещё потанцевала.
Тылык попрощался и пошел в гардероб. Когда он одевался, по лестнице торопливо спусился очень высокий худощавый человек.
— Простите, — спросил он, — ваша фамилия — Тылык?
— Да… То есть это почти так. Это мое имя.
— Очень рад, очень рад, — говорил, пожимая Тылыку руку, худощавый человек, в котором Тылык уже узнал пианиста — аккомпаниатора эстонской артистки. — Нам сказали, что вы здесь. Салми Аугустовна очень хотела бы познакомиться с вами. Вы торопитесь?
— Нет, нет, нисколько не тороплюсь. Я сам хотел зайти к вам… Но потом подумал, что вам, может быть, некогда… А кто вам сказал обо мне?
— Один из устроителей; я не знаю его фамилии. Он, кажется, тоже из университета, ваш товарищ. Он сказал Салми Аугустовне, что её слушали студенты всех народов, песни которых она пела, и даже один чукотский студент. И он рассказал нам про вас… Если вы подождете минутку, я поднимусь к Салми Аугустовне. Мы тоже собирались уезжать.
Он ушел и скоро вернулся вместе с ней. Она крепко пожала Тылыку руку и сказала:
— Мне повезло. Это очень хорошо, что Генрих разыскал вас. Вы мне очень нужны.
— Напротив, это мне повезло… Я по крайней мере могу теперь поблагодарить вас. Иначе я так и ушел бы, не сказав вам, как вы хорошо пели… То есть я, конечно, не специалист, не ценитель; вы и без меня знаете, как вы хорошо поете… Я только хотел сказать, что ваша песня… Она буквально перенесла меня домой, на Чукотку! За много тысяч километров, через весь материк!
Она серьезно слушала сбивчивые слова Тылыка. Потом сказала улыбаясь:
— А вот мы сейчас и проверим, заслужила я вашу благодарность или нет.
Они вышли на улицу, сели в «Победу», которую успело порядочно припорошить снежком. Пианист умело повел машину по ленинградским улицам. Тылык украдкой поглядывал на свою соседку. Она была, пожалуй, немного старше, чем казалась с эстрады. Это, конечно, не отец и дочь. Скорее всего это муж и жена, А как она собирается проверять, достойно ли благодарности её пение?.. Но Тылыку не пришлось спрашивать, — она заговорила сама:
— Мы с Генрихом много ездим. Все песни, которые я пою, мы взяли не из нот. Мы слышали, как они звучат в народе, как они звучат там, где сложены, где стали частью народной души… «Песня о двух ветрах» — единственное исключение. На Чукотке мы не бывали. Уж очень это далеко!
— Далеко, — подтвердил Тылык. — Я и то в прошлом году не сумел домой съездить.
— Я очень мечтала о том, чтобы побывать там. У нас даже есть один план… Можно рассказать, Генрих?
— Конечно.
— Вы знаете, обычно мы никому не говорим за ранее о таких планах. Может быть, летом у нас будут гастроли на Дальнем Востоке — в Хабаровске, во Владивостоке, в Комсомольске и в Магадане. А из Магадана, может быть, удалось бы слетать ненадолго и на Чукотку.
— Из Магадана тоже ещё не близко.
— Я знаю… Да, я понимаю, что шансов очень мало. Но это я только так рассказала, к слову… Так вот, «Песня о двух ветрах» — единственная, которую мы включили в свой репертуар, не послушав её непосредственно на её родине, в народном исполнении. Случилось это так… Вы, может быть, знаете профессора Степанова?
— Знаю. Он ведь читает на нашем факультете.
— Вот как? А мы с ним познакомились прошлым летом. Он напел нам эту песню. И она так понравилась нам, что мы решили отступить ради неё от своего обычного правила. Я попросила профессора научить меня этой песне. Я, наверно, порядком надоела ему, но всё-таки научилась. Во всяком случае, он уверял, что я не делаю ошибок.
— Я могу подтвердить это, — сказал Тылык. — Даже трудно поверить, что вы не говорите по-чукотски, а знаете только одну эту песню.
— А мелодия? Мы не слишком удалились от оригинала? Вам приходилось когда-нибудь слышать эту песню на Чукотке?
— Да, не раз. Я чувствую, что вы чуточку что-то изменили, обогатили мелодию. Но самая сущность напева передана замечательно. Мне казалось, будто я слышу ярар — наш чукотский бубен.
— Это обработка Генриха. А консультировал ему профессор Степанов. Он, видимо, прекрасный знаток вашего края?
— Ещё бы! Ведь он вырос на Чукотке. Отец его был пекарем в Анадыре. Отец у него русский, а мать чукчанка. Чукотский язык он знает с детства… А потом он уже отсюда к нам приезжал, уже известным ученым. Собирал чукотские песни, сказки.
— Да, он рассказывал нам об этих экспедициях. И всё-таки мне очень хотелось бы проверить себя построже. Мне очень хотелось бы услышать слова этой песни в вашем произношении. Вы мне не откажете?
— Конечно… Если только это может вам пригодиться.
В это время машина остановилась. Тылык посмотрел в окно.
— Это, кажется, улица Гоголя?
— Да, здесь живут наши друзья. Мы обещали приехать к ним после концерта. Хоть под утро.
Тылык взялся за ручку дверцы.
— Погодите, я выйду, а Генрих довезет вас до дома! Но прежде всего нам надо условиться о встрече.
— Лекции у меня до трех. В любой день после трех я свободен.
— А что, если мы не будем откладывать? И ноты и текст у нас здесь, в папке. А? Я задержала бы вас совсем ненадолго.
— Это было бы, пожалуй, вернее всего, — сказал Генрих. — Завтра у нас опять два выступления, а послезавтра мы уже должны отправляться в Таллин.
— Хорошо, — согласился Тылык.
— Я не зову вас к нашим друзьям, — сказала Салми Аугустовна, — потому что там, наверно, обстановка совсем не деловая. А здесь нам никто не помешает.
Она раскрыла на коленях папку, полную рукописных нот, и отыскала «Песню о двух ветрах».
Со стороны это выглядело необычно, даже немного странно. В праздничную, новогоднюю ночь, когда повсюду ещё1 не утихло веселье, когда даже через двойные рамы на улицу доносились из квартир звуки радиол и хотя не очень стройное, но зато вполне непринужденное пение, а по шторам двигались тени танцующих пар — в это время в освещенной машине три человека серьезно, по-деловому обсуждали что-то, склонившись над исписанными листами бумаги.
Но большинство прохожих было в эту ночь в том замечательном настроении, в котором почти ничему не удивляются. Некоторые, правда, подходили в поисках спасительного шахматного пояса, отличающего такси от всех других машин, но, убедившись, что это не такси, продолжали путь на своих собственных, хотя и вышедших из повиновения ногах. Только милиционер походил немного вокруг «Победы» и, не найдя, видимо, ничего предосудительного, перешел на другую сторону улицы, чтобы поболтать с дежурной дворничихой.
Салми Аугустовна медленно, по одной фразе произносила слова песни. «Так, — говорил Тылык, — правильно». Тогда Салми Аугустовна просила его произнести ту же фразу, повторить её по три, по четыре раза. «Ты слышишь, Генрих, ты слышишь?!» — спрашивала она, когда улавливала разницу в звучании. И они ставили над строками текста какие-то значки, иногда по нескольку значков над одним словом. Потом Салми Аугустовна, тихонько поупражнявшись, снова произносила ту же фразу, напевала её вполголоса и спрашивала, не изменилось ли звучание слов. Да, теперь и Тылык улавливал разницу: он слышал, что слова звучат ещё естественнее, свободнее, ещё ближе к обычному чукотскому произношению. Впрочем, таких слов, которые пришлось переучивать, на всю песню оказалось не больше десятка.
Тылык поражался тому, с каким упорством, забыв обо всём на свете, работают эти артисты. Час назад, слушая их выступление, он и не предполагал, что песни этой светловолосой женщины требуют такой кропотливой, такой напряженной черновой работы над каждым словом. Любую интонацию, любой звук она обтачивала с таким же терпением, с каким косторез Гэмауге вырезает на неподатливой кости моржового бивня и легкое облачко, и тонкий узор мхов, и свободный бег волны. Тылык подумал о том, какой неустанный труд, какая непримиримая требовательность нужны даже самому талантливому художнику, чтобы в песне или в картине возникла естественность и свобода подлинной жизни. И человек, которого во время концерта Тылык считал только аккомпаниатором, был, оказывается, руководителем этой большой работы. Артистка старательно выполняла все его указания — видно было, как верит она его слуху, его художественному вкусу. Труд этих артистов напомнил Тылыку, что сейчас, в эту ночь, когда чуть не за каждым окном чувствуется дыхание праздника, тысячи людей стоят на своих рабочих местах. Работают люди на электростанциях, чтобы не погас в домах свет; работают люди на хлебозаводах, чтобы утром у жителей города был свежий хлеб. Доменщики тоже работают — плавку нельзя остановить даже в новогоднюю ночь… Видно, в сердце настоящих артистов горит огонь, которого нельзя загасить. Да и то верно, что песни нужны народу не меньше, чем выплавляемый в домнах металл!
Когда работа была закончена, Салми Аугустовна спросила Тылыка, не знает ли он Атыка — певца, сложившего «Песню о двух ветрах». Тылык сказал, что знает, что много раз слышал его пение. Он подробно рассказал им об Атыке, они узнали об авторе песни гораздо больше, чем от профессора Степанова. Одного только Тылык не сказал: того, что Атык — его отец. Он умолчал об этом не столько из скромности, сколько потому, что ни перед кем не хотелось ему сейчас до конца раскрывать радость сегодняшней ночи, её удивительных событий. А почему не хотелось, этого он и сам не сумел бы объяснить. Может быть, просто боялся, что, если рассказать, всё окажется вовсе не таким уж удивительным.
Тылык подумал, что его могут спросить, откуда он так хорошо знает певца Атыка, и поэтому сразу заторопился.
— Генрих довезет вас, — повторила свое предложение Салми Аугустовна.
— Спасибо, не нужно. Я с удовольствием пройдусь.
— Вы напрасно отказываетесь, — сказал Генрих. — Выходит, что мы завезли вас куда-то и оставили.
— Нет, это было мне по пути. Отсюда мне уже совсем недалеко. В самом деле не нужно, спасибо.
— Ну, как хотите. — Салми Аугустовна пожала Тылыку руку. — До свидания, Тылык. Я очень вам благодарна.
— Спасибо вам, Тылык, — сказал Генрих. — Для нас новый год начался очень удачно!
— Для меня тоже! — сказал Тылык. — До свидания.
Тылык пошел домой, в университетское общежитие. Почти всё, что случилось с ним дальше в эту новогоднюю ночь, ты уже знаешь, мой дорогой читатель. Он перешел Неву, потом вместе с незнакомой девушкой в пестрой шапочке попал ненадолго в плен к разгулявшимся студентам-горнякам, потом пришел в общежитие, лег, стал вспоминать родной поселок, школу в яранге Рультынэ, учителя, отца, рождение «Песни о двух ветрах»… «Обветренны лица у чукчей, с детства обвеяны ветрами люди Чукотки…»
Когда Сергей Ширяев, проводив Ксюшу, тоже возвратился в общежитие, Тылык уже спал. Он спал, и ему снились какие-то необыкновенные приключения Большой Снежинки, не успевшей растаять на брови у Пестрой Шапочки.
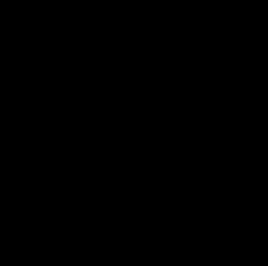 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |