"Чукотская сага" - читать интересную книгу автора (Рытхэу Юрий Сергеевич)
 |
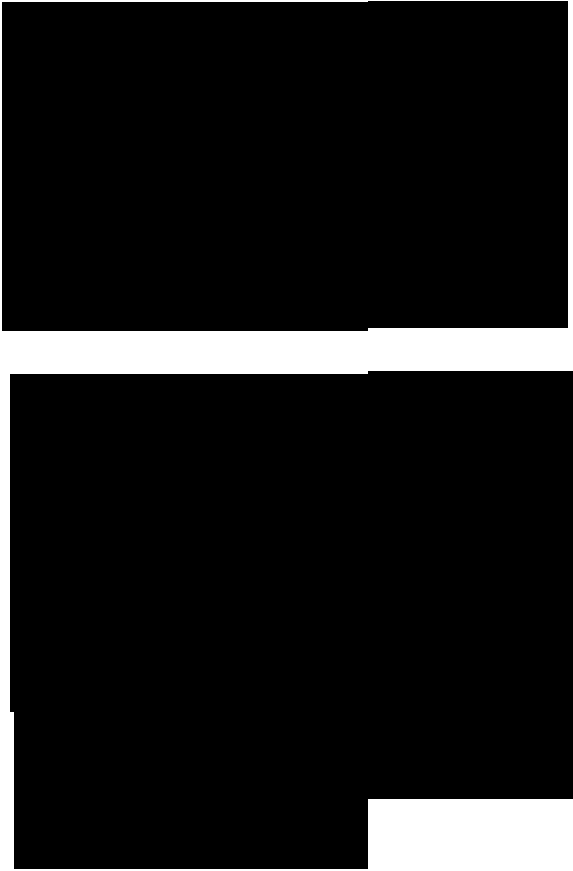 |
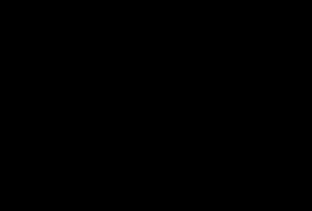 |
ОКОШКО
Старый Гэмалькот сидит у входа в свою ярангу и, тихонько напевая, строгает чурку; давно уже пора подновить нарты — с правой стороны двух копыльев не хватает.
Правда, сейчас весна, нарты ещё не скоро понадобятся. Но недаром русские говорят: «Готовь сани летом…» Правильно говорят! Плох тот хозяин, который вспоминает про свои сани только тогда, когда выпадает снег. Гэмалькот не из таких — он хозяйственный человек Он даже лета не будет дожидаться, а приведет свои нарты в полный порядок весной, перед тем как убрать их на теплые месяцы.
— Из этой чурки хороший копыл выйдет, — напевает старик, — крепкий копыл выйдет, ладный…
Он перестает строгать, поднимает голову и видит, что вдоль стойбища идут домой его сыновья — молодой охотник Унпэнэр и школьник Йорэлё. Унпэнэр бережно, обеими руками несет большой кусок оконного стекла, а Йорэлё со своей школьной сумкой из нерпичьей шкуры не идет, а прямо-таки пляшет вокруг старшего брата. То справа забежит, то слева. И все норовит притронуться к стеклу — делает вид, будто помогает нести.
Гэмалькот встает, стряхивает с кухлянки стружки и входит в ярангу. У очага хлопочет его жена Нутэнэут. Старик пододвигает поближе к очагу китовый позвонок, уже много лет с успехом заменяющий ему табуретку, садится и говорит:
— Несут всё-таки.
Нутэнэут понимает, что он расстроен. А ведь как весело напевал только что, строгая чурку! Но стоит ли показывать, что она заметила перемену в его настроении? Как о чём-то совсем ей не интересном, она спрашивает:
— Что несут?
— Что? Будто не знаешь!
Старик подозрительно смотрит на жену, — скорее всего она с сыном заодно. Он разгребает щепкой угольки, откатывает один из них, берет его загрубевшими пальцами и кладет в свою трубку. Закурив, он собирается, наконец, ответить, но в это время на него нападает приступ кашля. А когда приступ кончается, отвечать уже не надо: сыновья пришли. Унпэнэр осторожно опускает стекло на земляной пол и, прислонив его к стене, говорит:
— Вот. Принесли.
Никто не откликается. Отец взглядывает на Унпэнэра так, словно тот принес в ярангу не оконное стекло, а по меньшей мере бешеную собаку. Затем отворачивается к огню и снова начинает кашлять, хотя, по совести говоря, мог бы уже и не делать этого.
Йорэлё чувствует, что между отцом и старшим братом назревает ссора. А ему так не хочется, чтобы они ссорились! Правда, Унпэнэр спокойно счищает грязь, налипшую на торбаса; отец покуривает трубку; мать как ни в чём не бывало продолжает возиться у очага, от которого уже доносится аппетитный запах вареного моржового мяса. Никто ещё не сказал ни одного худого слова. Но Йорэлё чувствует, что гроза вот-вот разразится. Ему не по себе.
Йорэлё мечтал о том, что, придя домой, они с Унпэнэром сразу же возьмутся за сооружение окна. Об этом, конечно, сейчас лучше и не заикаться. Хорошо бы сейчас рассказать что-нибудь, чтобы нарушить эту напряженную, неприятную тишину… Но, как назло, Йорэлё ничего не может вспомнить: в школе его сегодня не вызывали, ничего интересного, кажется, не произошло.
Йорэлё снимает с себя школьную сумку. Из неё торчит свернутый трубкой лист бумаги — большая журнальная иллюстрация, которую Йорэлё ещё утром выменял у товарища на красный карандаш. Как же он мог забыть об этом?! С тех пор как он встретил Унпэнэра, несущего стекло, всё остальное сразу вылетело у него из головы.
— Смотрите! — радостно кричит Йорэлё, развертывая иллюстрацию и старательно разглаживая её ладонью на низеньком столе. — Это я у Марата выменял. Его отец в Уэлен ездил, оттуда привез. Смотрите!
Нутэнэут и Унпэнэр склоняются над большой, во всю журнальную страницу, цветной фотографией. Йорэлё читает:
— «Москва сегодня. Высотное здание Московского университета на Ленинских горах».
— Вот это да! — говорит Унпэнэр и, медленно ведя по фотографии пальцем, начинает считать этажи: — Раз, два, три…
— Тридцать девять этажей! — восклицает Йорэлё. — Я считал! Марат говорит — тридцать восемь, а я пересчитал — выходит тридцать девять.
— Не сбивай, — отмахивается Унпэнэр, снова переставляя палец на первый этаж.
— До самого неба дом! — тихо произносит Нутэнэут. — До самых облаков! А что это внизу? Машины?
Гэмалькот тоже с удовольствием поглядел бы на эту картинку. Интересно посмотреть, как выглядят новые московские дома. Но подойти и смотреть через плечи сыновей он считает ниже своего достоинства. К тому же они могут истолковать это как шаг к примирению. Подумают, чего доброго, что можно начать разговор насчет окна… Притащили, несмотря на все его возражения, стекло… Нет, он совсем не собирается простить их так скоро!
А что касается картинки, так могли бы, если уважают отца, сами подойти и показать ему. Рассматривают, будто они тут одни.
Старый Гэмалькот не прав на этот раз. И жене и сыновьям очень хотелось бы показать ему, какой огромный, какой красивый дом построили в Москве. Нутэнэут даже подталкивала к нему младшего сына. Но Йорэлё, видя, что отец всё ещё сердится, не решается подойти.
Нутэнэут возвращается к очагу: пусть старик не думает, что она против него, пусть не чувствует себя одиноким в семье. А картинку она успеет досмотреть и после, когда старика не будет дома, или тогда, когда душа его снова станет веселой и доброй.
— В самом деле тридцать девять! — восхищенно произносит Унпэнэр, кончив считать этажи.
Гэмалькот знает, что в Москве строят новые здания необычайной высоты. Недавно, когда на стойбище приезжала передвижка, он даже видел кинохронику, в которой показывали, как строят один из таких домов. Но дом этот ещё не был закончен, к тому же на экране всё промелькнуло слишком быстро. Тридцать девять этажей? Нет, эта цифра кажется Гэмаль-коту невероятной, тем более что её называет Унпэнэр. Что бы ни сказал сейчас Унпэнэр, даже если бы он вспомнил, что пора обедать, отец не смог бы согласиться, хотя и сам уже порядочно проголодался.
— Что? — переспрашивает он. — Тридцать девять? Нарисовать можно всё что хочешь. Хоть все сорок.
— Так ведь это не нарисовано, это фото! — говорит Йорэлё, обрадованный тем, что отец вступил всё-таки в разговор. — Вот посмотри. Это вправду такой дом. Высотное здание!
Мальчик произносит это с таким жаром, с такой гордостью, будто он, чукотский пионер Йорэлё, своими руками построил этот чудесный дом.
— Высотное, — повторяет отец. — Эх ты, школьник! В пятый класс переходишь, а по-русски правильно говорить не умеешь. Не «высотное» надо говорить, а «высокое».
Йорэлё очень уважает отца. Гэмалькота в колхозе все уважают. Но печатному слову мальчик верит ещё больше. Отец все-таки иногда ошибается, а всё то немногое, что до сих пор успел прочитать Йорэлё, было правдой, умной и светлой правдой.
— Нет, высотное, — тихо, но убежденно говорит он. — Тут так напечатано.
К счастью, Нутэнэут уже приглашает обедать. Семья садится вокруг приземистого столика. Некоторое время едят молча. Потом Унпэнэр спрашивает:
— Ну, где окно будем делать?
— Нигде не будем делать, и довольно об этом разговаривать. Нечего ярангу дырявить.
— Я всё равно сделаю. Не хочу больше в темноте жить.
— Не хочешь с нами жить — строй себе другую ярангу. Живи тогда как хочешь. А тут я хозяин.
Так и есть. Ссора все-таки разгорелась. И Йорэлё, глубоко обиженный за брата, говорит, укоризненно поглядывая на отца:
— А ещё член правления!.. Если Унпэнэр уйдет, я тогда тоже уйду.
— Вот как? — старик гневно смотрит на младшего сына, потом на старшего. — Вот как? Старший против отца идёт и младшего за собой тянет? — Он тяжело переводит дыхание и немного спокойнее продолжает: — Пустое дело ты затеял, Унпэнэр. Подумай сам. Одну дыру в пологе пришлось бы делать, другую — в самой яранге. А как зимой будем жить? Холодно будет, замерзнем. Где это видано, чтобы в яранге окно делать? Соседи нас на смех поднимут! Вон у Атыка сын студент, а не гнушался в простой яранге жить, без всяких окон.
— Тылык за два года один только раз приезжал. Если бы он всегда тут жил, обязательно вставил бы. И я вставлю.
— Нет, не вставишь!
— Нет, вставлю. Всё равно вставлю! Человек не мышь: не должен света бояться, не должен в темной норе прятаться.
— Значит, мы, по-твоему, мыши? Да? — Гэмалькот резко поднимается и так отшвыривает ногой китовый позвонок, что тот отлетает до самой стены. — Ну, Унпэнэр, говори! Мыши? Молчишь? Слышишь, Нутэнэут, сын мышами нас называет. Дожили! Родная яранга для него, оказывается, темная нора. А где ты вырос? Не в яранге? В высотном доме? Да кто ты такой? Мальчишка, щенок паршивый — вот кто ты такой! Зазнался! Я тебе покажу, кто здесь хозяин!
В ожесточении Гэмалькот бросает на пол трубку, подбегает к стеклу и с силой ударяет в него ногой. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы Йорэлё видит отблеск огня в одном из осколков, упавшем возле очага.
Гэмалькот понемногу успокаивается. Он даже чуточку жалеет о том, что так разбушевался. «Ничего, — подбадривает он себя, — пускай знает. Пускай помнит, кто в семье старший».
— Вот и весь разговор, — произносит Гэмалькот. — Вот и всё твое окно.
Унпэнэр не отвечает. Старик нагибается, поднимает трубку и выходит из яранги.
Нутэнэут убирает со стола посуду, Йорэлё время от времени вопросительно поглядывает на Унпэнэра: «Что же теперь будет?» Но Унпэнэр даже не замечает его вопрошающих глаз. Тяжело сдвинув брови, молодой охотник смотрит на костерок, догорающий в очаге. Брови сдвинуты так, что две большие родинки, примостившиеся у него над переносьем, почти слились в одну. Йорэлё знает, что когда эти родинки сходятся, старшего брата лучше не трогать.
Гэмалькот шагает посреди улицы, сердито поглядывая по сторонам.
Уже скоро год, как старого Гэмалькота выбрали в правление колхоза. Правление поручило ему заведовать общественным хозяйством. Вамче — председатель колхоза — сказал тогда так:
— Мы тебя знаем, Гэмалькот. Мы спокойно можем доверить тебе такое ответственное дело. Общественное добро — это основа всей колхозной жизни. Мы его можем доверить только опытному человеку, хозяйственному.
Как тут было не согласиться?
Вначале Гэмалькот боялся, что не сумеет справиться. Если бы не колхозный счетовод Рочгына, он определенно запутался бы. Но у аккуратного Рочгыны всё колхозное имущество было на строгом учете. Всё было занесено в его «говорящие листочки» (так называли старики любую бумагу, на которой что-нибудь написано).
А имущество было такое, что в старые времена даже сам хозяин стойбища не мечтал о подобных богатствах. В тундре пасется хорошее оленье стадо; в земляных хранилищах лежат запасы мяса; на берегу прочно закреплены вельботы, выкрашенные белой краской; байдары, обтянутые моржовой кожей, подняты на высокие подмостки, чтобы не добрались охочие до кожи собаки; в колхозной мастерской у механика Кэлевги стоят блестящие руль-моторы… Всего не перечислишь. Большим хозяйством заведует Гэмалькот, много добра у колхоза «Утро»!
Колхозники, выбравшие Гэмалькота, не ошиблись в нём. Он взялся за дело по-хозяйски. Первым почувствовали это мотористы: бензин стал отпускаться строго по норме. Старик разузнал, сколько горючего полагается на километр, и заставлял мотористов отчитываться за каждый израсходованный литр. Вскоре он ввел ещё новое правило: потребовал, чтобы охотники возвращали все стреляные гильзы. Вначале мотористы и охотники поворчали, попробовали даже жаловаться председателю Вамче. Но потом подчинились и стали уважать Гэмалькота ещё больше, чем раньше.
Гэмалькот вечно хлопотал, старался, чтобы всё колхозное имущество было в образцовом порядке, ругал нерадивых, нисколько не заботясь о том, нравятся им его выражения или не нравятся. А выражения бывали всякие.
Уж кто-кто, а Гэмалькот не был врагом нововведений. Разве молодые охотники, привыкшие ходить в море на моторных байдарах, могут по-настоящему ценить мотор? Вот если бы пришлось им, как приходилось в молодости Гэмалькоту, до кровяных мозолей, до обмороков поработать веслами, тогда поняли бы, какая замечательная штука — мотор. Или, например, новые ружья. Знала бы молодежь — только не понаслышке, не по рассказам стариков, а по тяжелому опыту, по глубоким шрамам на своём теле, — с каким оружием приходилось охотиться в прежние времена! Тогда не ленились бы лишний раз почистить ружье, смазать его как следует.
Моторы, новые охотничьи ружья — это, конечно, нужные вещи, стоящие. Да мало ли нового приходит в чукотские стойбища! Взять хотя бы кино. Гэмалькот любит кино; каждый раз, когда приезжает передвижка, он радуется почти так же, как Йорэлё, хоть и старается, чтоб никто этого не заметил.
Бревенчатые дома Гэмалькот тоже одобряет. Что говорить, дом и просторнее яранги и светлей. Пожалуй, что и теплее, если, конечно, хорошо проконопачен мохом. Школа для стойбища — первейшее дело, а для школы, каждому ясно, требуется именно дом, а не яранга Правление колхоза тоже, конечно, удобнее в доме…
Но переселяться в дом для жилья — это Гэмалькот считал излишней роскошью. Ведь лесов на Чукотском полуострове нет — все материалы пароходами привозят издалека. Это во сколько же обходится провоз каждого бревна?
И так ли уж плохо жить в яранге? Зайдешь в неё — сначала в сенки попадешь. Тут очаг, тут вдоль стен припасы хранятся. Отсюда можно во внутренний шатер пройти — в полог. В пологе жирники горят, от них и светло и тепло… Испокон веку жили чукчи в ярангах, а теперь вот многие в дома потянулись.
А другие в дедовские яранги мебель тащат. Кровати, например. И деды и отцы без кроватей обходились, и Гэмалькоту трудно на старости лет менять свои вкусы, видеть, как изменяется привычная обстановка. Ведь и так хорошо стало жить — сытно, богато. Что ж ещё нужно людям?
Старик ускоряет шаги, чтобы Эйнес и Ринтувги, стоящие у школы, решили, будто он идет куда-то по делу. К тому же быстрая ходьба, говорят, успокаивает. Но растревоженные мысли не хотят успокоиться. Опять и опять возвращаются они к одному и тому же — к тому, как быстро меняется всё вокруг. Старик усмехается про себя, вспоминая, как появилась кровать в его собственной яранге.
Унпэнэр привез её с полярной станции. То ли купил там у кого-то, то ли какой-то приятель, уезжая с зимовки, подарил её Унпэнэру на прощание. Кровать была не новая — шарики, украшавшие её спинки, кое-где промялись, — но всё же ярко и весело поблескивала никелировкой.
По крайней мере половину первой ночи кровать эта никому не дала спать. Улеглись на нее Унпэнэр и Йорэлё. С непривычки они поминутно ворочались, и неимоверный скрип поминутно наполнял ярангу. В конце концов отец встал, молча стащил с кровати младшего сына и уже хотел взяться за старшего, но тот соскочил сам и помог отцу выдворить из полога в сенки это злополучное ложе. После этого сыновья постелили себе, как обычно, на полу, завернулись в меховые одеяла и сразу же уснули.
Однако на следующий вечер кровать снова была в пологе. Чуть не полдня Унпэнэр и Йорэлё провозились с ней — чистили, смазывали. С тех пор она вела себя вполне прилично, тихо.
Потом Унпэнэр смастерил из жести колпак с вытяжной трубой, чтобы дым от костра сразу уходил наружу, а не плавал в сенках, под сводом яранги. Еще через некоторое время он притащил столик — не приземистый, на котором можно обедать даже сидя на полу, а высокий, чуть не по пояс Йорэлё.
Водворение столика прошло не совсем гладко: на неровном, покрытом моржовой шкурой земляном полу он ни за что не хотел стоять спокойно. Однако Иорэле заявил, что ему для приготовления уроков необходимо отдельное место, что, занимаясь на полу, трудно писать без клякс. Это подтвердил и Всеволод Ильич — школьный учитель математики, ровесник и приятель Гэмалькота. Унпэнэр и Йорэлё долго ползали вокруг столика на коленях — подбивали снизу кусочки кожи, выравнивали землю, пока он не стал, наконец, крепко на все свои четыре ножки.
Гэмалькоту было очень смешно видеть, как его младший сын занимается за этим столиком, сидя на высоком табурете. «Будто птица на жердине», — смеялся старик. Но Йорэлё уверял, что ему удобно.
«Хорошо, — думает Гэмалькот, — пусть сидит на своем табурете, если ему удобно. Хотя скорее всего мальчишка врет: не может быть, чтобы на табурете было удобнее, чем на полу. Знает, что русские так сидят, вот и старается подражать. Впрочем, может быть, писать и в самом деле лучше за столиком? Когда пишешь на ровном, так и строчки получаются ровнее… Ладно, пусть Йорэлё занимается как хочет. А насчет окна — нет, об этом пусть и не мечтают. Тут уж я не сдамся».
Гэмалькот идет по поселку, недовольно поглядывая на мальчишек, гоняющих мяч, на собак, бегающих вдоль берега, на море. Море кажется слишком сумрачным — пожалуй, к ночи буря разыграется; глаза у собак злые, можно подумать, будто для них не хватает корма; мальчишки не делом занимаются: у них, может, завтра экзамен, а они мяч гоняют… Наверно, это те, на которых жаловался Севалот. Провалятся на экзамене, тогда будут знать…
А попробуй им хоть слово сказать — они тебе сразу десять в ответ. Один скажет, что им ничего не задано, другой — что он уже всё выучил, а третий, чего доброго, спросит, знает ли сам Гэмалькот все те премудрости, которым учат в школе. И Йорэлё таким же растет: чуть что — сразу начинает спорить с отцом. Впрочем, с Йорэлё нетрудно было бы справиться, если бы старший не сбивал его с толку. Он во всём за старшим тянется, за Унпэнэром. Наверно, сидят сейчас оба над разбитым стеклом и на все лады ругают отца. А Нутэнэут, вместо того чтобы заступиться за него, наверно, молчит.
То ли от этих мыслей, то ли по другой причине Гэмалькот поперхнулся дымом собственной трубки. А прокашлявшись, заметил, что вышел уже за пределы поселка. Куда же теперь идти? Ах, да, Вамче просил присмотреть место для нового мясохранилища.
Старик направляется дальше, как будто можно уйти от своих мыслей. Нет, от них и на самолете не улетишь! Нехорошо, когда нет мира между отцом и сыновьями. Конечно, из Унпэнэра получился неплохой охотник. Об этом и говорить нечего. А кто его научил? Разве не отец? Уж больно Унпэнэр зазнался в последнее время. Особенно после того, как его назначили бригадиром. Гэмалькот предупреждал тогда. «Не назначайте, — говорил, — молод он ещё. Если бригада молодежная, так это не значит, что и бригадир должен быть мальчишкой. Наоборот, пусть хоть бригадир у них будет солидный, опытный». Не послушали, назначили всё-таки. Вамче тогда сказал: «Для тебя, Гэмалькот, он ещё долго будет мальчишкой. А для всего стойбища он уже давно вполне самостоятельный охотник. Лучшего бригадира мы не найдем».
Вот и стал парень зазнаваться. Другой бы на его месте спросил, посоветовался с отцом. Так, мол, и так, не сделать ли нам окно в яранге? Тогда совсем другой был бы разговор, можно было бы спокойно обдумать это дело. А Унпэнэр советоваться не хочет, напролом лезет… «Самостоятельный охотник»!
Гэмалькот совсем не помнит сейчас, что сын начинал именно так — с вопросов, с попыток договориться. Уже месяца два прошло с тех пор, как Унпэнэр впервые заговорил относительно окна. Но тогда Гэмалькот вовсе не обнаруживал готовности «спокойно обдумать это дело». Сначала он только посмеивался над замыслом сына, а потом, когда тот заговорил серьезнее, просто велел «выкинуть это из головы». Теперь же он помнит только сегодняшний разговор.
«Грозился, что всё равно вставит, — думает старик, стараясь доказать себе, что не зря рассердился на сына, не зря разбил стекло. — Принес, распорядился как хозяин, Йорэлё помогал ему где-то стекло добывать, Нутэнэут тоже, наверно, обо всём заранее знала. Один я не знал, будто я в своей семье последний человек. Принесли подарочек, обрадовали отца. Хорошо, что я остался нарты починять. А если бы я в тундре был на охоте? Дожидаться не стали бы, сразу бы продырявили ярангу… Так вот же нет, Унпэнэр, не по-твоему вышло'»
Гэмалькот ошибался, полагая, что сыновья ругают его на все лады, а жена молчит. Они не ругали его — по крайней мере вслух, а она не молчала. Всё было как раз наоборот: Нутэнэут сурово отчитывала сыновей за непочтительность, за то, что «довели отца», а они мрачно помалкивали.
— Прав отец или не прав, а разговаривать надо спокойно, — сказала Нутэнэут.
Унпэнэр тяжело вздохнул.
— Подняли крик на весь поселок, — продолжала она. — «Нет, вставлю, вставлю!» Даже слушать стыдно было!
Йорэлё загнул пятый палец, так как Нутэнэут сказала это уже в пятый раз. Он приготовился продолжать счет на другой руке, но Нутэнэут вышла из яранги, чтобы кинуть собакам остатки обеда.
Унпэнэр присел на корточки, поднял самый большой кусок стекла, осторожно смахнул с него мелкие осколки. Йорэлё присел рядом и спросил:
— Ничего теперь не выйдет?
— Одна шибка, может, и вышла бы. Для полога.
— Одна?
— Да.
— А что такое «шибка»?
— Это… — Унпэнэр немного задумался. — Это, я так понимаю, одно стекло. На каждую рамку идёт по шибке. Кабицкий говорил — две шибки нужно: одну для полога, а другую, побольше, для самой яранги, для наружного шатра. Он с таким расчетом и дал мне это стекло, чтобы на две части его разрезать. В домах всегда две рамы делают.
— А ты знаешь, — вдруг спрашивает Йорэлё, — знаешь, чем дядя Степан стекло режет?
— Знаю. Чем все режут, тем и он.
— А вот и не знаешь! Думаешь, каким-нибудь ножом? Дядя Степан ногтем стекло режет! Я сам видел!
— Чем? — громко хохочет Унпэнэр. — Ногтем?!
— Не веришь? Он мне сам показывал! У него такой ноготь! Крепкий, острый! Ни у кого такого ногтя нет!
Йорэлё уже чуточку поколеблен в своей уверенности, но недоверчивость брата все-таки обижает его.
— Плохо ты смотрел, — говорит Унпэнэр. — Степан Андреевич с тобой шутил, а ты и поверил. У него в руке специальный инструмент был зажат. Маленький такой инструмент с острым камешком. Алмаз называется.
— Так я ж видел! Когда первоклассники разбили стекло… Он тогда новое вставлял, а я смотрел.
— Смотрел, да не понял. Не всё разглядел. Ногтем рядом с алмазом ведут, по линейке. Чтобы ровней получилось. Понимаешь?
— Не знаю… Может, и так… Послушай, Унпэнэр, а что, если хоть одно… хоть одну шибку вставить? Вот сюда. А? Все-таки, смотри, какой кусок
— Ну, здесь, в сенках, посветлей будет. А в пологе опять при жирниках сидеть? Нет уж, делать надо как следует.
— А где ж мы теперь другое стекло возьмем?
— В том-то и дело, что негде его взять.
Нутэнэут вернулась в ярангу. Унпэнэр встал, досадливо махнул рукой и добавил:
— И стекло нелегко достать, а с отцом договориться ещё трудней.
Пригнувшись, он влез в полог, достал из-под кровати свой сундучок и бережно уложил в него выбранный из осколков кусок стекла. Вылез обратно в сенки, надел шапку и сказал:
— Я приду поздно.
Через часок после ухода Унпэнэра зашел школьный сторож Кабицкий, или дядя Степан, как называют его все школьники.
— Здравствуйте, хозяева. Гэмалькота нету?
— Здравствуй. Гэмалькот, наверно, скоро вернется. Садись подожди.
— Спасибо. А Унпэнэр дома?
— И Унпэнэра нет.
— Я Унпэнэру хотел помочь насчет окошка. Обещался завтра прийти, да вот сегодня время выдалось. Завтра-то у меня много дела. Верней всего, не выберусь. Придется тогда до воскресенья отложить.
— Оно и лучше, — говорит Нутэнэут. — Всю жизнь без окон жили, можем и подождать. Торопиться тут ни к чему.
— Был такой, что торопился, да скоро и умер, — подтверждает Кабицкий — не потому, что согласен, а просто из любви к поговоркам. — Торопыга не разувшись парится…
Но в это время его взгляд падает на осколки стекла. С трудом удержавшись от прямого вопроса, он говорит:
— Ну, я тогда, значит, в воскресенье зайду. Так Унпэнэру и передай.
— Передам. Он, может, завтра сам к тебе зайдет.
— Пускай заходит, я Унпэнэру всегда рад. Хороший гость — хозяину честь.
Уж поднявшись, он спрашивает, теребя свою рыжеватую густую бороду:
— А вы как вообще — насчет окошка-то? Гэмалькот не против?
— Против или не против, — уклончиво отвечает Нутэнэут, — об этом теперь дети не думают. У отца своя голова на плечах, у сына — своя.
— Так, так, это точно… — И, сделав вид, будто только сейчас заметил осколки, Кабицкий восклицает, обращаясь к Йорэлё: — Это что же такое? Разбили?
— Разбили.
— Ай-ай-ай! Вот обида-то! Как же так? До дому донесли в целости, а тут не уберегли? Кто же это?
Не зная, как ответить, Йорэлё смотрит на мать. Нутэнэут растерянно молчит. А Кабицкий, не обращая внимания на их замешательство, продолжает.
— Аа-ай-ай, какая авария! Ведь оно у меня последнее было. Никому, кроме Унпэнэра, я бы его и не отдал. Сегодня — будто сердце чуяло — говорил Унпэнэру, что сам принесу стекло. Я бы дома разрезал, в рамки вставил и принес бы завтра обе оконницы. Да уж больно заторопился Унпэнэр… Кто ж это из вас так расстарался? А?
— Гэмалькот, — тихо произносит Нутэнэут.
— Гэмалькот? — переспрашивает Кабицкий и уже без обиняков задает последний вопрос: — Как же это он — по нечаянности или, может, нарочно?
Нутэнэут видит, что ей не отмолчаться. Ей и врать не хочется и правду трудно сказать. Может, она и покривила бы душой, но при сыне не может этого сделать.
— Нарочно разбил, — говорит она. — Разгорячился. Сыновья его довели. Только ты, Степан, не рассказывай никому. Не расскажешь?
— Никому! — обещает Кабицкий. — На этот счёт можешь быть спокойна. Могила! Я в таком деле надежней немого… А осколки я возьму. Вам от них — ничего, кроме вреда, а мне они сгодятся.
Он становится на колени и подбирает осколки стекла.
— Для чего они вам? — удивленно спрашивает Йорэлё. — Для чего, дядя Степан?
— Сгодятся, сынок, — повторяет Кабицкий. — Они мне для столярного дела нужны, для обработки. Вместо наждачной шкурки. После рубанка пройдешься по доске острым стеклышком — и ровно будет и гладко.
Уже попрощавшись и направившись к выходу, он останавливается и говорит:
— А в воскресенье я, значит… Не приду, значит, если так.
Он уходит, и только тогда Йорэлё вспоминает, что так и не спросил дядю Степана про его «ноготь».
Нехорошо стало в семье у Гэмалькота. Отец старается пореже бывать дома, чтобы не встречаться со старшим сыном. Старший сын старается пореже бывать дома, чтобы не встречаться с отцом. Йорэлё и Нутэнэут скучают без них. Особенно неспокойно на сердце у Нутэнэут по вечерам. Даже если она знает, что Гэмалькот сидит у Всеволода Ильича, а Унпэнэр, скорее всего, разгуливает где-нибудь с Аймыной — хорошей девушкой, дочерью охотника Кымына, — всё равно тревожится старое сердце, всё равно замирает оно при каждом порыве ветра. Будто муж и сын находятся в открытом море, а не на берегу. Наверно, у жен и матерей морских охотников так уж устроены сердца, что им неспокойно всегда, когда мужчин нет дома.
Но в те редкие часы, когда и Гэмалькот и Унпэнэр дома, радости от них тоже немного: оба хмурые, молчаливые. Каждый из них старается прийти попозже в надежде, что другой уже будет спать. А тот, кто всё-таки придет первым, торопится лечь, наскоро поужинав или даже совсем отказавшись от еды.
Йорэлё хотел бы поговорить с братом, порасспросить его. А вдруг Унпэнэр задумал поставить себе отдельную ярангу? Как тогда быть? Оставаться с отцом и матерью или уйти к брату? А отпустят ли родители? Да ещё захочет ли Унпэнэр взять с собой Йорэлё? Вдруг не захочет?
Унпэнэр и на самом деле подумывает о том, чтобы отделиться. Он даже говорил об этом с Аймыной. Поженятся, поставят себе отдельную ярангу. Уж Аймына-то не будет возражать против того, чтобы сделать окошко. Правда, жаль расставаться с братом и с матерью. Да и без отца, пожалуй, скучно будет жить, непривычно. С кем посоветуешься насчет всяких охотничьих дел? Отец в этих делах самый лучший советчик.
Не хочется Унпэнэру всерьез рассориться с отцом, но обида все не утихает. Во всяком случае, прошло уже около недели, а они стараются не встречаться.
Легко сказать «не встречаться»! Это, может быть, в Хабаровске или в другом каком-нибудь городе есть возможность разминуться, а попробуй разминуться в нашем колхозном поселке!
Впрочем, раньше хоть и невелик наш поселок, но случалось, что за целые месяцы Гэмалькот и Унпэнэр нигде, кроме собственной яранги, не встречались. А тут, как назло, чуть не каждый день перекрещиваются их дорожки. Может, именно потому, что оба стараются поменьше бывать дома, они и встречаются то на берегу, то в клубе, то в правлении колхоза.
Гэмалькот сам надоумил Вамче, что надо бы проверить состояние оружия в бригадах. Вамче пошел в первую бригаду, во вторую послал Мэмыля, а в молодежную — Гэмалькота. Как откажешься? Ведь не скажешь: «Посылай Мэмыля в молодежную, а меня — во вторую. Я к Унпэнэру не пойду, я с ним поругался». На смех поднимут! Пришлось пойти, проверить, разговаривать как ни в чем не бывало с Унпэнэром.
На другой день Всеволод Ильич предложил зайти в клуб, почитать свежие газеты. Гэмалькот пошел, совсем позабыв, что в библиотеке дежурит Аймына. Только когда увидел её, понял, что и Унпэнэр где-нибудь здесь же. Так и оказалось.
В клубе по крайней мере можно было не замечать друг друга. Никто на это и внимания не обратит: у отца своя компания, у сына — своя, а меж собой отец с сыном и дома наговорятся.
Но так могли думать только до тех пор, пока история со стеклом оставалась тайной. А тайной она оставалась только несколько дней. Потом о ней узнали в поселке все до единого. Повстречавшись на улице с Гэмалькотом, охотник Кэнири сказал:
— Слушай, Гэмалькот, одна моя собака лапу себе порезала. Я её спрашиваю: «Где порезала?» А она говорит, что возле твоей яранги. «Там, — говорит, — столько битого стекла валяется — лучше не ходи, торбаса изрежешь».
Охотники, стоявшие рядом, рассмеялись — видимо, они знали, на что намекает Кэнири. А Гэмалькот проворчал:
— Вот и не ходи. Я тебя и не звал возле моей яранги гулять.
«Если уж Кэнири знает, — подумал он, — так сегодня же весь поселок будет знать. Но кто этому болтуну рассказал? Неужели Унпэнэр?»
Кэнири известен, однако, не только своей болтливостью, — ещё больше известен он своей ленью. Поэтому через полчаса, когда по улице проходил Унпэнэр, Кэнири не стал утруждать себя придумыванием новой шутки, а почти слово в слово повторил то, что говорил Гэмалькоту.
— Так и сказала тебе твоя собака? — переспросил Унпэнэр.
— Так и сказала.
— Нехорошо, Кэнири, когда у собаки слишком длинные уши и слишком длинный язык.
На этот раз охотники, стоявшие рядом, рассмеялись над Кэнири. Но Унпэнэра это не утешило. «Рассказать такому бездельнику, — подумал он, — может только тот, кто хочет, чтобы узнали все. Неужели это сделал отец? Мало того, что разбил стекло, так еще и хвастает!»
С этого дня Гэмалькот и Унпэнэр ещё больше разозлились друг на друга. Унпэнэр решил, что Гэмалькот смеется со своими приятелями над неудавшейся затеей сына. А Гэмалькот решил, что сын жалуется на него своим дружкам-комсомольцам, изображает отца самодуром, скандалистом, противником новой жизни.
От кого же действительно всем стало известно о ссоре? На этот вопрос я могу ответить только предположительно.
Ни Гэмалькот, ни Унпэнэр никому, конечно, не рассказывали о ней. Йорэлё и Нутэнзут тоже предпочитали не болтать. Правда, Нутэнэут вынуждена была сказать Кабицкому правду, но ведь Кабицкий — это не какой-нибудь болтун вроде Кэнири. Кабицкий в таком деле надежней немого!..
А так ли уж надежен немой?
Я вовсе не хочу сказать, что Степан Андреевич нарушил свое обещание. Секрет мог раскрыться почти что сам собой. Это могло произойти примерно следующим образом.
Вот Кабицкий пришел домой. Осторожно вынул из кармана собранные в яранге Гэмалькота стеклышки и ссыпал их в одно из бесчисленных отделений ящика, в котором хранит свои инструменты. Жена спросила:
— Где же это ты, Степан, столько битого стекла нашел?
— Шёл, шёл, да и нашёл, — неопределенно ответил Кабицкий.
— А где ж это? — повторила она.
— Где было, там нету, — ответил он фразой, которой отвечают на такие вопросы довольно часто, хотя ещё не было случая, чтоб она успокоила чьё-нибудь любопытство.
— Не скажешь?
— Не скажу, Вээн. Секрет.
— Ишь ты! На старости лет секреты завел?.. В школе, кажется, все стёкла целые.
— Сказал, не скажу — значит, не скажу. Ты меня не первый год знаешь.
— Ну и не говори, никто тебя за язык не тянет. Твоё дело молчать, если не желаешь ответить по-человечески. А моё дело спрашивать, если мне интересно узнать. Я школьные стекла не хуже, чем ты, знаю. И те, что в окнах, и те, что в шкафах. Все целые.
Они помолчали немного. Кабицкий стал что-то мастерить в своем углу. Но через минуту жена спросила, конечно:
— В клубе, что ли?
Он ничего не ответил.
— Вот безобразники! — возмутилась она. — Как напьются, так сразу стекла бить. Вертятся пьяные возле клуба, будто возле кабака. Лучше бы они носы друг другу поразбивали, хулиганье такое!
— Да откуда ты взяла? Никто в клубе окон не бил!
— Неужели же в правлении?
Когда в поселке имеется всяких учреждений и организаций не больше, чем пальцев на любой из рук, перечислить их не сложно. А услышав несколько отрицательных ответов, уже совсем просто предположить, что печальная судьба постигла именно то стекло, которое было дано Унпэнэру.
В ответ на это предположение Кабицкий снова произнес:
— Сказал, не скажу — значит, не скажу.
Лучшего подтверждения его жене и не требовалось. С возмущением, которое, по всей вероятности, казалось непритворным, она накинулась на мужа:
— А ты ещё хвалил его! Хвалил-нахваливал! Такую дорогую вещь мальчишке доверил! Это тебе не Хабаровск, тут в магазине стекла не купишь!
Кабицкий пытался отмолчаться, но Вээн не унималась:
— Думаешь, я не знала, что он его до дома не донесет? Знала! Не привык он с такими вещами обращаться. А тут еще Йорэлё вертелся у него под ногами. Я ещё тогда догадалась, что пришел этому стеклу конец, только вмешиваться в твои дела не хотела.
Кабицкий всё крепился, безуспешно пытаясь заглушить её слова стуком сапожного молотка. А Вээн кипела все сильней и сильней.
— Эх ты! Нашел кому стекло доверить! Унпэнэр привык с моржами дело иметь, а не с такими хрупкими вещами. Я бы даже удивилась, если бы он не разбил. У него ещё ветер в голове гуляет. Может, он это даже нарочно сделал — неизвестно!.. Что ты на меня смотришь? Да, да! Ты не знаешь, такому парню всякое может в голову взбрести. Захочется проверить, крепкое ли стекло, он и стукнет камнем. А может, просто подрался с кем-нибудь по дороге…
— Ну что ты мелешь?! — не выдержал Кабицкий. — Кто тебе сказал, что Унпэнэр стекло разбил? Не он это вовсе, он его донес в полной сохранности.
— Не он? — воскликнула Вээн, и в ее глазах сверкнул огонек Круг сужался, она чувствовала, что истина уже почти в её руках. Если стекло разбито в яранге Гэмалькота и Унпэнэр тут не повинен, то, значит… Йорэлё? Нет, Вээн видела, с каким благоговением прикасался к стеклу Йорэлё. Нутэнэут? Конечно, нет. Не такие руки у Нутэнэут! Про таких хозяек говорят, что медвежьи одеяла, подаренные им ещё в день свадьбы, и через тридцать лет годятся обратно на шубы для живых медведей… Но если не Йорэлё и не Нутэнэут, так, значит, Гэмалькот? Или, может, кто-нибудь из посторонних? Чаще всего к ним заходит Севалот. Нет, на него это не похоже, скорее всего уж сам хозяин. И ещё неизвестно, случайно ли это произошло. Может быть, Гэмалькот не хотел, чтобы Унпэнэр окошко делал? Наверно, не хотел! Вот и произошло у них что-то такое, из-за чего Степан стал секреты строить. Если Гэмалькот разбил стекло нечаянно, так тут и секретничать нечего. А ведь самое интересное именно то, из чего делают секрет.
Вээн была уже почти уверена, что стекло разбил Гэмалькот, но не спешила с окончательными выводами. На всякий случай надо ещё прощупать Степана насчет Севалота…
Так, шаг за шагом, она приближалась к истине. Не имея понятия о том, что это называется методом исключения, она владела им в совершенстве и, применяя его, могла выведать у мужа всё что угодно.
Нет, Степан Андреевич ничего не рассказывал, если не хотел. Он даже не подтвердил ни одного из её предположений, не ответил ни на один из её вопросов. Да она, собственно, почти и не спрашивала. Она просто выбирала какой-нибудь из возможных вариантов и высказывала вслух свои мысли. Только мысли при этом нужны были такие, которые наверняка не по сердцу Степану Андреевичу. Особенно не нравится ему, когда плохо отзываются о людях, зря кого-нибудь ругают. Он этого терпеть не может. А когда, не стерпев, он отвергает очередное предположение, Вээн переходит к следующему. Правды Степан Андреевич отвергать не станет. Поглядит, поглядит молчком, а потом отвернется и пробурчит: «Сказал, не скажу — значит, не скажу». И при этом очень удивляется догадливости своей старой подруги.
Я, повторяю, не могу поручиться, что описал этот разговор с достаточной точностью. Сам я при нём не присутствовал. Но я часто навещал стариков Кабиц-ких и не раз был свидетелем подобных бесед.
Вээн секретов не любит. Когда Степан Андреевич начинает секретничать, она сразу превращается в неутомимого следопыта, в охотника, который не успокоится, пока не добьётся своего. А разузнав всё, что хотела, она, как и полагается настоящему охотнику, щедро делится своей добычей с друзьями.
Вот почему соседи Вээн узнали о гом, что Гэмалькот поссорился со своим сыном, намного раньше, чем соседи самого Гэмалькота.
Вскоре Гэмалькот понял, что болтовня исходит не от Унпэнэра: Нутэнэут сама призналась мужу, что вынуждена была рассказать о семейной ссоре школьному сторожу Кабицкому. А затем понял Гэмалькот и то, что люди относятся к его поступку неодобрительно.
Как-то подошла к нему в правлении Рультынэ — бригадир пошивочной бригады
— Что, Гэмалькот, не помирился ещё с сыном?
— А у меня с ним ссоры и не было, — неохотно ответил Гэмалькот.
— Люди говорят — была.
— А про тебя люди ничего не говорят? Может, у тебя с Эйнесом тоже ссора была?
Рультынэ удивилась. Её единственный сын Эйнес — директор школы, человек образованный, спокойный. У неё самой тоже ровный характер. Да она, пожалуй, за последние пятнадцать лет ни разу громкого слова ему не сказала.
— Что-то я тебя не пойму, Гэмалькот.
— Сейчас поймешь. Эйнес в школе живет, в доме? Да?
— Да.
— А ты в яранге живешь, не хочешь к нему в дом перебраться?
— Нет, мне в яранге удобней, привыкла я к ней.
— Ну вот, такая в точности ссора и у меня с Унпэнэром: он хочет окно делать, а я не хочу.
Но не так-то легко сбить с толку Рультынэ.
— А это не одно и то же. Мы с Эйнесом отдельно живем, друг другу не мешаем.
— А если мы вместе живем, так я, выходит, должен во всем потакать Унпэнэру?
— Зачем потакать? С Унпэнэром всегда можно сговориться. Надо только помнить, что дети вперед смотрят, тянутся к новому. Не надо у них поперек дороги стоять.
— А если бы Эйнес задумал твою ярангу дырявить? Хотел бы я послушать, как бы ты тогда рассуждала.
— Думаешь, он меня в покое оставил? — смеется Рультынэ. — Он хочет мне в ярангу электричество провести.
— Электричество — в ярангу? Нет, это опасно. Пожар будет.
— А почему в домах не опасно? Разве дерево хуже моржовой шкуры горит?
— Дом — совсем другое дело! Разве ты не понимаешь?
— Я понимаю, Гэмалькот. Эйнес говорит, что это не опасней, чем жирник. От жирников пожары бывают гораздо чаще. Просто у нас кто-то выдумал, будто в яранги нельзя проводить электричество. Есть колхозы, в которых электричество во все яранги проведено. И никаких там нет пожаров.
— Нужно по крайней мере посоветоваться с Кэлевги.
— Эйнес приводил его ко мне. Кэлевги говорит, что можно.
— Сейчас говорит, что можно, а потом скажет, что ветряк не тянет. Он должен в первую очередь обеспечить школу, в клуб должен дать свет. — Гэмалькот стал загибать пальцы. — Дальше… Магазин, мастерская…
— Подожди, Гэмалькот. Кто не хочет пить, тому и ближний ручей далек.
— Разве я неправильно сказал?
— Конечно, неправильно. Кэлевги говорит, что ветродвигатель у нас всё равно недогружен. Просто ты, Гэмальнот, немного сторонишься нового. На моём месте ты, наверно, не согласился бы.
— А ты согласилась?
— Да. Мне, конечно, и при жирнике неплохо было, но Эйнес уже отвык. Хоть он и отдельно живет, а ведь ест-пьет у меня. Пускай делает как хочет, мне от этого хуже не будет.
И она заторопилась домой: скоро Эйнес придет, надо приготовить обед.
Пошел домой и Гэмалькот. Почему, собственно, он должен сторониться собственной яранги? Враги его там поджидают, что ли? Смешно!
Унпэнэра ещё не было дома, пообедали втроем. После обеда Йорэлё убежал к товарищу, а Гэмалькот снова принялся за починку нарт: так ведь и не успел тогда новые копылья поставить; один копыл выстрогал, а для другого только чурку приготовил.
Он садится у входа в свою ярангу и начинает обстругивать чурку. Надо бы, пожалуй, поговорить с Унпэнэром, не вечно же бегать друг от друга. А как поговоришь? Этот мальчишка, чего доброго, подумает, будто отец прощения просит. Сначала надо поговорить с Нутэнэут, пусть она ему объяснит. Позвать её и сказать: «Ты бы, Нутэнэут, объяснила Унпэнэру, что нехорошо это…»
— Ты меня звал, Гэмалькот?
— Что?
— Мне показалось, ты позвал меня.
Оказывается, она вышла из яранги и стоят рядом. Он замечает это не первый раз: ещё только собираешься позвать её, а ей слышится, будто уже позвал.
— Не знаешь, Нутэнэут, Унпэнэр скоро придет?
— Наверно, не скоро. Он теперь поздно приходит. Наверно, тебя боится.
— Чего же ему бояться? Я своему сыну не враг.
— Вот в том-то и дело. О том и я говорю.
Это можно понять двояко: то ли это значит, что именно так она говорила Унпэнэру, то ли — что Гэмалькоту самому не следует об этом забывать. Дескать, если не враг, так нечего скандалить, обзывать взрослого сына паршивым щенком, нечего стекла бить… Но муж предпочитает не уточнять. Он спрашивает:
— Как там у него, не знаешь? Нового стекла не достал?
— А где ж он достанет? У Кабицкого больше нет. А если и есть, так он теперь всё равно не даст. Может, сказать Унпэнэру, чтоб у Вамче попросил?
— Как что, так сразу — к Вамче! Где ему Вамче возьмет? Из кладовой я не дам, у меня только два стекла осталось. Если в парнике разобьется, Вамче с меня спросит, не с кого-нибудь. То же самое, если в правлении или в мастерской… На Кабицком одна только школа, а на мне — целый колхоз!
— Вообще-то Унпэнэр, может, и достал бы…
— Где?
— Кабицкий осенью на полярной станции окна стеклил. У полярников, говорит, большой запас — за три года не израсходуют. Говорит, что для такого дела начальник станции даст, не пожалеет.
— Отчего ж… Конечно, если большой запас… Если бы у колхоза был запас, так и Вамче, наверно, дал бы…
— Унпэнэр говорит, что ему совсем немного надо. Только на одну рамку. А на другую у него есть. От того куска осталось, тот кусок всё-таки не весь разбился.
Гэмалькот придирчиво смотрит на чурку. Что это, не сучок ли на ней? На копыле никаких сучков не должно быть! Нет, это просто пятнышко какое-то. Сострогалось — и нет его.
— Унпэнэр хотел пойти к начальнику станции, — продолжает Нутэнэут. — Уговаривал Кабицкого вместе сходить. А тот не соглашается: «Я, — говорит, — никогда в жизни ни в чём не шел против своего отца. И тебе, — говорит, — не советую».
— Правильно.
— «А то, — говорит, — что же это такое у нас получится? Ты опять стекло принесешь, а Гэмалькот опять его разобьет»
С минуту старик молчит. Только мелкие стружки далеко отлетают от чурки. Некоторые из них долетают даже до ног Нутэнэут. Наконец старик произносит:
— Ладно, скажи ему, что не разобью. Делайте уж как хотите.
— Хорошо, — отвечает Нутэнэут и, постояв ещё немного, исчезает в яранге так же тихо, как вышла оттуда.
Ну что ж, хорошо уж и то, что в семье водворится мир. Унпэнэр перестанет смотреть волком. Он ведь весь в отца — горячий, но не злой. Сразу повеселеет, заговорит как ни в чём не бывало.
Это и верно, что «весь в отца», и неверно. Лицом похож, характером похож, а смотрит на всё по-другому. Всё хочет переиначить, по-новому сделать.
Да, не хотят молодые по-старому жить. Что ж, Гэмалькот за старое цепляться не будет. Уж он-то лучше молодых знает, какой тяжелой, какой горькой была для чукчей прежняя жизнь. И всё-таки человеку, прожившему больше полувека по обычаям, завещанным предками, нелегко привыкать к другим обычаям, пусть даже лучшим. Об иной вещи всякий поймет, что она хороша… Понять-то нетрудно, да вот пойди привыкни к ней, к этой вещи!
Сначала кровать в яранге поставили, потом колпак с трубой над очагом приспособили, столик внесли. Теперь окно хотят делать. Будет в яранге дыра. Небось в своей кухлянке Унпэнэр не стал бы дыру прорезать!
Впрочем, это, конечно, не одно и то же. Тем более что дыры, собственно, не будет, будет стекло.
Ещё неизвестно, как отнесутся к этому соседи. Скорее всего будут смеяться. Особенно старики — Атык, Мэмыль, Амтын. Наверно, соседи даже посочувствуют Гэмалькоту. «Ничего, — скажут, — не огорчайся. Можно, на худой конец, жить и с окном. Не ругаться же из-за этого с сыном! У нас тоже есть дети. Разве они слушают нас? Что хотят, то и делают. Твой Унпэнэр по крайней мере хороший охотник. Его бригада — первая в колхозе. Таким сыном можно гордиться».
Приятное течение мыслей успокаивает Гэмалькота. «Что ж, пожалуй, они говорят правду», — думает старик, как будто соседи и в самом деле обратились к нему с этими утешительными словами.
Кстати, уже и вторая чурка обработана. Гэмалькот откладывает её, достает берестяную коробочку и набивает табаком свою трубку.
Всё уже подготовлено, стекло раздобыто, Йорэлё пришел из школы вместе с Кабицким. Они принесли две маленькие рамы без внутренних переплетов, деревянный метр и круглый ком замазки, которая распространяла такой вкусный запах и так послушно поддавалась малейшему нажиму пальцев! Йорзлё обязательно попросил бы кусочек замазки, чтобы вылепить из неё медведя, если бы только она не предназначалась для другой, гораздо более важной цели.
Унпэнэр уже дома. Они начинают выбирать место для окна. Раз двадцать прикладывают одну из рам к стенке внутреннего шатра — то в одном месте, то в другом, то в третьем. Получается довольно нескладно: ведь стенки у полога выгнутые, неровные.
— Да, — говорит Кабицкий, — этого мы с вами, други мои, не учли.
Он садится на шкуру посреди полога и задумывается.
Йорэлё смотрит на Кабицкого, на его густую бороду и вспоминает русских крестьян из рассказов Тургенева. Книжку этих рассказов ему подарил директор школы Эйнес ещё год назад в награду за успешное окончание третьего класса. Эйнес объяснил, что нынешние русские колхозники не похожи на крестьян, описанных Тургеневым. Зато в чертах школьного сторожа Кабицкого Йорэлё смутно ощущает сходство с каким-то из тургеневских героев.
Мальчику очень хотелось бы повидать этих удивительных людей, которые умеют выращивать хлеб. Не ружьем, не охотой добывать себе пищу, а выращивать её на земле — это казалось Иорэлё почти чудом. Если когда-нибудь ему доведется поехать на юг, он обязательно побывает в деревне, на полях. Он читал о том, как тургеневский Герасим, шагая среди полей, «чувствовал знакомый запах поспевающей ржи», и ему казалось, что он тоже чувствует этот запах, что ему тоже известно, как пахнет рожь. Никакие чудеса техники не представлялись ему такими поразительными, не занимали его воображение так сильно, как чудесное умение человека подчинять себе землю.
Иорэлё уже много раз приставал к Кабицкому с расспросами, но тот ничего не мог ему рассказать на этот счет. Стефана Кабицкого, обрусевшего поляка, ещё в молодости занесло каким-то суровым ветром на северо-восток Сибири. Побывал он и в царском остроге и на каторге, потом жил пушным промыслом, бродил с ружьем по тайге. Потом пришел как-то на Анюйскую ярмарку; приглянулась ему одна чукотская девушка, — посватался к ней, женился, поселился на Чукотке. Здесь и состарился. Он умеет немного сапожничать, знает плотницкое дело и ещё два-три ремесла, но о сельском хозяйстве, пожалуй, имеет такое же понятие, как Иорэлё.
Насмотревшись на Кабицкого, Иорэлё прерывает его молчаливые размышления:
— Дядя Степан! Вы алмаз с собой взяли?
— Взял, взял. Обожди-ка, не мельтеши. Я, ребятушки, вот что придумал: надо в потолке окно делать.
Братья сразу понимают, что это самое разумное решение. Потолок у полога ровный, прямой — не то что стены. Кабицкий встает во весь свой немалый рост, голова его чуть не достает до шкуры, натянутой в качестве потолка. Он прикладывает к шкуре, раму и школьным мелком намечает квадрат, который надо вырезать для окна.
Работа закипела. Унпэнэр, встав на табурет, вырезает отверстие. Кабицкий в сенках возится со стеклом, вмазывает его в рамки. Иорэлё бегает от одного к другому, подает инструменты; в сенках он рассказывает Кабицкому и матери, что успел уже сделать в пологе Унпэнэр; возвращаясь к брату, он сообщает ему, как продвигается работа у Кабицкого. Словом, он полон энергии и тратит её не жалея. И когда он будет рассказывать товарищам по классу об этом знаменательном событии, то с полным правом сможет употреблять местоимение «мы»: «Мы с дядей Степаном размяли замазку… мы с Унпэнэром дыру вырезали: он резал, а я ему табуретку поддерживал…»
Гэмалькот вернулся с работы часа через полтора после того, как всё уже было готово. Его дожидался старый учитель Всеволод Ильич. Нутэнэут угощала учителя чаем с лепешками, жаренными на нерпичьем жире. Всеволод Ильич очень любит эти лепешки, а у Нутэнэут они всегда получаются особенно вкусными.
Унпэнэр беседует с Всеволодом Ильичом о делах международных. Учитель увлеченно жестикулирует, держа в одной руке лепешку, а другой то снимая, то снова водружая на нос пенсне. Йорэлё почтительно молчит, он становится неузнаваемым в присутствии учителя. Только с осени Йорэлё будет у него учиться. Всеволод Ильич преподает лишь в старших классах. Старшеклассники рассказывают, что преподаватель математики очень строг, и хотя тут, в яранге Гэмалькота, он держится совсем просто, но Иорэлё всё-таки робеет перед ним. Иногда мальчику хочется вставить своё словечко в беседу взрослых, но он только открывает рот, и тут же, не произнеся ни звука, закрывает его, заливаясь краской до ушей. К счастью, никто этого не замечает.
С Гэмалькотом Всеволод Ильич дружит уже давно. Трудно сказать, что именно сблизило их, но если несколько дней они не видят друг друга, оба начинают чувствовать, будто им чего-то недостает. Беседуют они на самые разные темы, но чаще всего молчат. Просто сидят вместе, покуривают, изредка роняют одно-другое слово. И тем не менее расстаются отдохнувшими от дневных забот, вполне довольные друг другом. Расстаются с таким чувством, будто провели время в интереснейшей и поучительной беседе или общими усилиями решили какой-нибудь важный вопрос.
Войдя в ярангу, Гэмалькот здоровается с гостем и присаживается к столу.
— Когда едешь? — спрашивает он.
— В субботу. В понедельник в городе буду. Оттуда самолетом.
Всеволод Ильич получил путевку в крымский санаторий. Путь ему предстоит немалый, с Чукотского полуострова до Крымского!
Наполовину всерьез, наполовину в шутку Гэмалькот говорит:
— Смотри, Севалот, обратную дорогу не забудь. А то пригреешься под южным солнышком — не захочешь к нам возвращаться.
— Нет, — смеется Всеволод Ильич, — я Чукотку не променяю ни на какие курорты. Здесь климат крепкий, здоровый. Здесь по крайней мере ещё не было случая, чтобы солнечный удар кого-нибудь хватил.
Йорэлё очень хотел бы вытащить из сумки школьный атлас, разыскать Крымский полуостров, поделиться своими знаниями о виноградарстве… Он снова открывает рот, как вытащенная из воды рыба, и снова, как та же рыба, беззвучно закрывает его.
— Ну, как твоё сооружение, Унпэнэр? — спрашивает Всеволод Ильич, похлопывая рукой по жестяному колпаку, укрепленному над костром. — Тяга хорошая? Не дымит?
— Ничего, — снисходительно говорит Гэмалькот, — Нутэнэут довольна. Что сыновья ни сделают, оно всегда довольна. С них станется, что они и для моей трубки колпак сделают. А? Чтобы, скажут, не дымил в яранге.
Пользуясь тем, что сыновья ещё не сделали этого, он выпускает из трубки порядочную порцию дыма и добавляет:
— Ты знаешь, Севалот, что они еще придумали? Окно! Хотят в пологе окно делать.
— Вот как? Интересная мысль!
— Это уже не мысль, уже сделали! — вырывается у Йорэлё. Сказал, зарделся и сразу — как тюлень в лунку — юрк в полог. Только босые пятки мелькнули.
— Что же вы, скромники такие, молчите? Это ведь не шуточная вещь. Столько лет живу на Чукотке, а про яранги с окнами никогда не слыхивал.
Всеволод Ильич развязывает торбаса, снимает их и вслед за Йорэлё влезает в полог.
В сенках молчат, прислушиваются. Некоторое время из полога не доносится ни звука, и Унпэнэр уже начинает тревожиться. Но тут раздается голос Всеволода Ильича:
— Где же оно, это проклятое пенсне?! Погляди-ка, Йорэлё. Вот здесь где-то. Обронил, понимаешь ли, пролезая. Есть? Спасибо, дорогой.
И через секунду тот же голос, но уже другим тоном восклицает:
— Замечательно! Превосходно! Кабицкий, наверно, помог? Молодец Степан Андреевич… Ай да молодец!
Тревога Унпэнэра улеглась. Он торжествующе поглядывает на отца, но тот так внимательно рассматривает старую царапину на чубуке своей трубки, что глаза их не встречаются.
Учитель вылезает обратно в сенки, натягивает торбаса и восхищенно повторяет:
— Молодцы ребята, ничего не скажешь! Ну, Гэмалькот, окно у тебя есть, теперь за немногим дело стало: печь сложить, стены поставить да крышей накрыть. И будет настоящий дом.
— До этого ещё далеко, — неопределенно отвечает Гэмалькот.
— Так ли уж далеко? Вамче говорил Эйнесу, будто нам пяток домов выделили. Будто уже официальное сообщение пришло. Один дом школе, для учителей, а четыре — для колхозников. Верно?
— Верно, Севалот, верно.
Вся семья — и Нутэнэут, и Унпэнэр, и тихонько вылезший из полога Йорэлё — с интересом прислушивается к разговору. Гэмалькот ничего не рассказывал об этом раньше. Правда, в колхозе уже давно поговаривают насчет домов, но о том, что дело это уже совсем близкое, они узнают впервые.
— Пять домов для нас выделили, это верно, — продолжает Гэмалькот. — Заявку-то мы давно послали, а недавно ответ пришел. Вамче письмо получил, читал нам. Только это ещё не скоро будет.
— Почему же?
— А потому, Севалот, что письмо — это не дом; в письме жить нельзя. Вон колхозу имени Сергея Лазо ещё в прошлом году три дома выделили. А где эти дома? До Анадыря пароход дошел — и стоп: навигацию закрыли. И пришлось дома в Анадыре ставить. Теперь лазовцам обещают другие отгрузить.
— Мало ли что случается, — вмешивается Унпэнэр. — В прошлом году уже в августе снег пошел. Ранняя зима была, сам знаешь. Рано навигация кончилась. А правительство нам во всем навстречу идет. И лесоматериалы выделяет и доставку обеспечивает. Советская власть хочет, чтобы чукчи хорошо жили, по-культурному, как полагается советским людям жить. Летом получат лазовцы свои дома.
— Они-то, может, получат, а нам еще подождать придется. Ещё, может, и деревья те не выросли, из которых дома для нас будут делать.
Гэмалькот чувствует, ему не удалось ещё охладить пыл сыновей, и специально для них добавляет:
— А мне вообще об этом нечего думать. Мы эти домики не для членов правления получаем, а для лучших колхозников.
Но тут в разговор вступает Нутэнэут.
— А кто ж у нас в колхозе лучше Унпэнэра работает? — ревниво спрашивает она. — Нет, уже если Унпэнэру не дадите, тогда лучше последним лодырям давайте. Пусть тогда лежебока Кэнири в деревянном доме живет!
Гэмалькот понимает, что промахнулся. Молодежная бригада Унпэнэра давно уже держит красное знамя, о ней даже в «Комсомольской правде» заметка была. Но почему Нутэнэут говорит с таким жаром о деревянном доме? Неужели она хочет расстаться с ярангой?
— Не знаю, — говорит Гэмалькот. — Не знаю, кому дадут, а кому не дадут. Собрание будет распределять. Как народ скажет, так и будет… А Унпэнэр всё-таки молод ещё. И семьи у него нет.
Всеволод Ильич улыбается, видя, что приятель запутался в собственных доводах.
— А ты ему кто? Не отец разве? Нутэнэут — мать, Йорэлё — братишка. Вот тебе и семья. Или обязательно женатым нужно быть? Так за этим, по-моему, дело не станет. Я уже давно примечаю: где Аймына — там и Унпэнэр, где Унпэнэр — там и Аймына Разве не так? Я всё вижу, недаром пенсне ношу. Да ты, Унпэнэр, не смущайся. Аймына — девушка хорошая. Чего ж тут смущаться?
Гэмалькот очень рад, что разговор перешел на другую тему. Сам-то он убежден, что не попадет в число колхозников, которые получат дома. По правде сказать, у него имеются некоторые основания для таких мыслей. Но говорить об этом ему не хочется.
Дело в том, что на заседании он был единственным членом правления, голосовавшим против того, чтобы посылать заявку на дома. Но об этом теперь лучше, конечно, не рассказывать!
Когда дойдет до распределения домов, было бы хорошо, если бы его имя вообще не называли. Правда, на это рассчитывать трудно: не его, так Унпэнэра обязательно назовут. А тогда уж кто-нибудь из членов правления наверняка вспомнит, как Гэмалькот возражал против того, чтобы посылать заявку. И будет совершенно прав, что вспомнит! Зачем в самом деле переселять старика, который прирос к яранге, когда многие колхозники давно мечтают перебраться в дома?
«Ох, глупый старик! — мысленно ругает себя Гэмалькот. — Что теперь будешь делать? Тебе-то всё равно, где доживать, а сыновьям не всё равно. А теперь они из-за тебя тоже должны будут в яранге оставаться. Пускай хоть окошком своим забавляются. Пускай что хотят, то и делают».
С этими невысказанными мыслями Гэмалькот слушает Всеволода Ильича, подшучивает над Унпэнэром, спрашивает, знает ли Аймына, какой тяжелый характер у её будущего свекра. С этими мыслями он и засыпает вскоре после ухода гостя.
…Унпэнэр с утра ушел в свою бригаду, Йрэлё — в школу.
Гэмалькот влез в полог, где Нутэнэут занималась приборкой, подошел к окошку, потрогал раму, легонько стукнул пальцем по стеклу, поежился.
— Холодно как-то.
Нутэнэут подставила ладонь под окошко — в одном месте, в другом. Нет, нигде не дует, прибито на совесть.
— Я не про то говорю. Не от ветра, а от света. У жирника свет желтый, теплый, какой в пологе должен быть. А этот белый. Будто на улице.
«Ну, это ничего, — думает Нутэнэут. — Привыкнет».
— А что в потолке его сделали, — продолжает Гэмалькот, — так это даже лучше. Нам-то все равно, а снаружи не так заметно. Может, старики и не увидят. Мы, старики, больше вниз смотрим, а не наверх.
Вопреки своему утверждению, он почти не отрывает глаз от вставленного в потолок окошка.
— Всё равно узнают, — говорит Нутэнэут.
— Шучу я. Конечно, узнают. Ничего, Нутэнэут, в этом позора нет. Как ты думаешь?
— Какой же тут может быть позор? Конечно, нет.
Нутэнэут вылезает в сенки, захватив с собой несколько шкур, чтобы проветрить их. Сегодня она убирает в пологе с особой тщательностью.
Гэмалькот осматривается. Освещенное утренним светом, все выглядит совсем не так, как обычно. Портрет Ленина, ещё до войны подаренный Гэмалькоту знакомым капитаном, тоже ярко освещен, яснее виден.
Подойдя к жирнику, Гэмалькот гасит его. Странное дело — глаза совсем не замечают разницы в освещении. Каким, значит, слабым был свет жирника в сравнении со светом утра!
Если бы Гэмалькота спросили сейчас, доволен он или нет, ему трудно было бы ответить. Он сам этого ещё не знает. С одной стороны, стало как будто лучше в пологе, а с другой стороны, очень уж непривычно.
Он снова поднимает голову и смотрит в окно. Промелькнула белая чайка. Медленно проплыло белое облачко.
Осенний ветер гонит по улице клубки стружек. Ребятишки ловят их, играют ими. Йорэлё, хоть он уже пятиклассник, тоже поглощен этой игрой. Стружки длинные, некоторые из них — словно желтоватые ленты, пахнущие смолой, Йорэлё опоясал этими ломкими лентами своего товарища, сделал из них подобие упряжи, и оба мальчика понеслись вдоль улицы: Йорэлё — седок, его товарищ — олень.
Пять новых домиков резко выделяются среди темных яранг селения. Два. домика уже заселены, остальные достраиваются. Отсюда и разносит ветер по всей улице витые ленты стружек.
Уже смеркается, но работа идет полным ходом. На крыше одного из домиков, уже наполовину покрытой, молодые колхозники из бригады Унпэнэра разматывают рулон толя. Кабицкий с двумя девушками навешивают оконные рамы.
Йорэлё и его «олень» останавливаются отдохнуть, подбирают по дороге обрезки толя. Подойдя к окну, Йорэлё спрашивает:
— Дядя Степан, скажи, это какого зверя шкура?
— Это, сынок, не шкура, — отвечает Кабицкий. — Это называется толь. А из чего её делают, эту толь, честное слово, не знаю. Не хочу врать. Лучше у своего учителя спроси.
— Вот видишь! — торжествует мальчик, только что изображавший оленя. — Я ж говорил, что это не шкура. Это вроде картона. Вот спросим завтра у Всеволода Ильича.
Немного смущенный Йорэлё пробует, крепок ли толь, и говорит:
— Не очень-то она крепкая. Рвётся всё-таки. Лучше бы моржовыми шкурами крыши покрыть.
— А, нет, — отзывается Кабицкий. — Моржовая шкура от сырости гниёт, её почти каждый год менять надо. А эта шкура ни дождя, ни снега не боится. Она не один год продержится. Не порвется, будь спокоен, — кто её на крыше рвать будет? Надо только прибивать аккуратно.
В сотне шагов отсюда в одном из домиков живет теперь Гэмалькот с семьей. Он сидит у окна на китовом позвонке. Позвонок перенесен сюда из яранги и занял здесь место на равных правах с четырьмя новенькими табуретками, на одной из которых сидит сейчас Всеволод Ильич, только сегодня возвратившийся из отпуска с Черного моря.
Старики разговаривают неторопливо, больше молчат, покуривают свои трубки, прислушиваются к голосам, доносящимся из кухни сквозь полуоткрытую дверь. Там, возле плиты, хлопочут Нутэнэут, Аймына и её подруга Раиса — повариха с полярной станции. Хозяйничает Раиса. Нутэнэут и её будущая невестка пока ещё только присматриваются, помогают: все-таки плита — это совсем не то, что простой костер. Тут и поддувало, и духовка, и две конфорки разной величины, и труба, которую надо вовремя открыть, вовремя закрыть. Зато уж и сготовить на плите можно много такого, чего на костре не сготовишь. Раиса собирается сегодня же доказать это на практике.
— Аймына уже с вами живет? — спрашивает Всеволод Ильич.
— Нет ещё.
— За чем же дело стало?
— Она завтра в Анадырь едет, на полтора месяца её посылают. Будет на библиотекаря учиться. А уже как вернется после курсов, тогда переедет к нам. Комнату мы Унпэнэру выделили. Хорошая комната, вроде этой. Только поменьше немножко. Им-то хватит. Всё равно посвободней, чем в яранге было.
— Нравится тебе тут?
— Ничего, нравится. Просторно, как в тундре, воздуху много. Только не привык я ещё, Севалот. Слишком просторно, стены далеко слишком. Проснусь иногда ночью и удивляюсь: почему это я на улице сплю? А вот сыновья сразу привыкли. Мы со старухой, когда в комнату входим, пригибаемся, будто в полог влезаем. А они даже головы не нагнут. Словно и родились не в яранге, а в доме!
Старики снова замолкают. О том, как были доставлены дома, как происходило распределение их, Всеволод Ильич узнал ещё в дороге. Ему рассказал об этом в Хабаровске один из его бывших учеников, приехавший туда поступать в институт.
Да, вопреки пророчествам Гэмалькота, колхоз «Утро» получил дома даже раньше, чем их ожидали. Сначала пароход остановился неподалеку от колхоза имени Лазо, выгрузил три домика (вместо тех, которые в прошлом году пришлось оставить в Анадыре), а затем колхозу «Утро» доставили его груз: пять домиков — один к одному — и бревна, и кирпич, и толь, и всё остальное, вплоть до оконных шпингалетов.
На общем собрании кандидатура Гэмалькота была названа одной из первых. И никто, конечно, не стал вспоминать, что говорил когда-то Гэмалькот о деревянных домах. Наоборот, председатель Вамче сказал об успехах бригады Унпэнэра и о том, сколько пользы колхозу приносит хозяйственный глаз Гэмалькота, его забота об общественном добре. Вышло так, будто если колхоз «Утро» получил пять домов, то отчасти именно Гэмалькот способствовал этому своей работой. Колхозники единогласно постановили предоставить один из домов Гэмалькоту.
Всеволод Ильич встает и, слегка припадая на больную ногу, прохаживается по комнате. Позже, когда вернется с работы Унпэнэр, когда с улицы прибежит Йорэлё и все усядутся за стол, он расскажет про Черноморье, покажет фотографии, раздаст подарки, привезённые с юга, — сейчас они лежат в углу комнаты, в его дорожном мешке.
— Слушай, Гэмалькот, — говорит Всеволод Ильич, — а ведь я уж давно знал, что придет время и будешь ты жить в настоящем доме. То есть знать-то, конечно, не знал, а… Как бы точнее выразиться…
Он останавливается, потому что слово «чувствовал» кажется ему как математику недостаточно точным, недостаточно определенным. Но, не найдя более подходящего, он продолжает:
— Ну чувствовал, что ли. Помнишь, когда я первый раз к тебе в гости пришел? Давно это было. Смотрю — самая обыкновенная яранга. В пологе Йорэлё на четвереньках ползает, совсем ещё малыш. Ни кровати, конечно, ни колпака над костром — никаких таких нововведений у вас ещё не было и в мыслях. Посидел, глаза малость попривыкли, увидел портрет на стене. Вот этот самый портрет. «Нет, — думаю, — недолго Гэмалькот в темной яранге жить будет. Недолго ему ползком к себе забираться». Где Ленин, там жизнь обязательно на правильную дорогу выходит. Где раньше, где позже, а выходит. Это уж непременно.
Подойдя к приятелю, он внимательно смотрит в окошко.
— Вот какое теперь окно у тебя! Все море видать! Можно отсюда зверя высматривать, не надо и на сопку подниматься. Увидел зверя — сразу в соседнюю комнату стучи: «Выходи, Унпэнэр, на охоту».
Старики смеются, весело подмигивая друг другу, Всеволод Ильич садится за столик Йорэлё, перебирает новенькие учебники для пятого класса, рассматривает висящую над столиком цветную фотографию — журнальную вкладку, на которой изображено высотное здание Московского университета.
— А ты знаешь, — говорит Гэмалькот, — я к тому окошку, что в яранге было, привык. Маленькое совсем, по сравнению с этим — дырка от шила. Да ещё в потолке. Что в него увидишь? Только если птица пролетит. А всё-таки привык, даже жалко было отдавать.
— Кому ж ты его отдал?
— Атыку подарил. Он пришел, просит ему окошко продать. «Хочу, — говорит, — в своей яранге поставить. Вам оно, — говорит, — всё равно не нужно, вы скоро в дом перейдете». Ну, я ему так дал, подарил. Сосед всё-таки, товарищ. Теперь то окошко у него в яранге вставлено. Мои ребята ему и вставлять помогали. Как думаешь, Севалот, скоро все чукчи в настоящих домах будут жить?
— Очень скоро, — уверенно отвечает учитель.
— С настоящими окнами? Знаешь, Севалот, окно — это для человека очень важная вещь. Ты думаешь, что знаешь про это, а на самом деле все-таки не совсем знаешь, потому что с детства к окнам привык. По-чукотски свет называется «кэргыкэр». А окно по-чукотски — «кэргычын». Как это по-русски сказать? Светлота? Нет? Ну, словом, ты понимаешь… Вот что такое для чукчи окно!
Выйдя в тот вечер от Гэмалькота, Всеволод Ильич медленно, чуть прихрамывая, зашагал по направлению к школе.
В этот поздний час улица селения была уже совсем пуста и тиха. Всеволод Ильич спустился с дороги, подошел к самому морю, вслушиваясь в негромкий, неумолчный плеск воды. Темное и холодное расстилалось перед ним Чукотское море.
Прежде чем пойти домой, он оглянулся назад. Там светилось окно нового домика Гэмалькота. Свет этот отразился улыбкой на лице учителя.
— Кэргычын! — произнес он тихонько — Светлота!
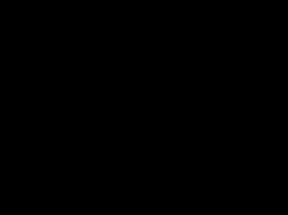 |
(support [a t] reallib.org)