"Кома" - читать интересную книгу автора (Гарленд Алекс)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 |
 |
Просыпаясь, ты всплываешь. Засыпая, ты погружаешься в глубины сна, а просыпаясь, выплываешь из них.
Пробуждение — это всплытие, потому-то мои плечи и потянуло вверх, как только я вошел в дом. В этот момент я был подобен водолазу, который долго бродил по дну океана, а затем начал сбрасывать свои свинцовые грузы. Когда же я увидел силуэты отца и матери, был сброшен последний свинцовый пояс, и я начал быстро всплывать.
И лишь потом, уже всплывая, я осознал, как холодно и темно было на дне океана, как исстрадались мои легкие без чистого воздуха и как страстно мечтал я оставить океанское дно позади, в прошлом.
Процесс казался необратимым. Я всплывал неуклонно и неизбежно, отнюдь не против, но
Я вспомнил свои прежние пробуждения. Я вспомнил свое неизменное изумление тем, как явь отодвигает сон на вторые роли, вспомнил с какой непостижимой легкостью выцветают, а затем и полностью стираются даже самые яркие из сновидений. Я вспомнил, что явь
Я вспомнил качества яви, столь отличающие ее от сна. Кристальная ясность, твердая вера в то, что мир существует по всем тремстам шестидесяти градусам горизонта, а не только лишь в узком секторе твоего зрения. Я вспомнил, что бодрствование связано с сотнями разнообразнейших ясностей, и изготовил себя к моменту, когда они лавиной на меня обрушатся.
И уже теперь в предвкушении этих ясностей мне трудно верилось, что жизнь во сне казалась прежде столь реальной.
А затем, в тот момент, когда вытянутые пальцы моей вытянутой руки должны были вот-вот прорвать…
В тот самый момент, когда я совсем уже был готов
Я сморгнул, присмотрелся и увидел две фигуры. Нет, не родительские, чьи-то другие.
 |
 |
Если мои глаза действительно были открыты — если я действительно рассматривал происходящее в моей палате, — то теперь я их закрыл.
Просыпаясь, ты всплываешь, засыпая, погружаешься.
Я начал снова утопать в своем сне.
Может, конечно же, быть, что санитар и врач вели себя беззаботно и безответственно, что они разговаривали, забыв о присутствии коматозного пациента, примерно так же, как люди забывают о вездесущих телекамерах. Но я думаю иначе. Я думаю, что санитар говорил все это
Мне была послана телеграмма с важнейшей информацией: нужно сделать выбор между неопределенностями сна и неопределенностями яви.
Я утопал спокойно, не барахтаясь и не пытаясь снова пробиться к поверхности. Но при этом мое недавнее гордое ликование сменилось чем-то вроде обиды, ведь я преодолел одну странную, отчаянную ситуацию лишь для того, чтобы тут же попасть в другую такую же. И я боялся, что не имею впереди ничего, кроме все тех же неопределенностей. Скорее всего, именно поэтому сонный мир, в который я вернулся, был столь разительно отличен от сонного мира, мною покинутого.
 |
Я тонул и тонул, и, когда я открыл глаза, вокруг была сплошная тьма. Поэтому я решил, что так и продолжаю тонуть или, если хотите, погружаться, и нужно просто подождать, пока погружение достигнет уровня, на котором вновь появится бредовый ландшафт.
Прошло время — достаточно долгое, чтобы мне пришлось сделать вывод, что либо я погружаюсь гораздо медленнее, чем перед тем всплывал, либо назначенный (кем?) предел погружения лежит гораздо глубже прошлого ландшафта. Затем, когда прошло еще сколько-то времени, я начал задаваться вопросом, а вправду ли я погружаюсь? Возможно, я достиг уже предела и пребываю в неподвижности.
Находясь в полной, кромешной тьме, я был вынужден полагаться на осязание. Осторожное прощупывание показало, что там, куда я могу дотянуться руками, ничего нет. Столь же осторожный шаг засвидетельствовал, что и ногами мне ни до чего не дотянуться. Собственно говоря, я не стоял ни на чем. То есть находился в своеобразном взвешенном состоянии подобно предмету с плотностью равной плотности воды, который не может ни всплыть, ни утонуть.
Но если я взвешен, то в чем? Всплывая, я ощущал, что словно бы движусь вверх сквозь водную толщу. Но теперь воды вокруг меня не было. Двигая руками или ногами, поворачивая голову, я не ощущал никакого сопротивления. И даже когда я начинал размахивать руками изо всех сил, достаточно быстро, чтобы почувствовать рассекаемый воздух, я все равно ничего не чувствовал.
Я решил прекратить на время активные действия и подумать. Однако подумать мне толком не удалось, потому что я тут же заметил, что не только ничего не вижу и не чувствую на ощупь, я ничего и не слышу. Я не слышал ни собственного дыхания, ни шороха своей одежды, ни иных звуков, которые могли, бы свидетельствовать о близком присутствии каких-либо людей или объектов.
Я попробовал говорить, но снова не издал ни звука.
Затем я попытался хлопнуть ладонями и не почувствовал, чтобы они соприкоснулись. Собственно говоря, взмахивая руками, я не ощущал, что
В конце концов я решил потрогать свое лицо, но на его месте попросту ничего не было. Мои пальцы прошли через пустоту, продолжили движение дальше, через то место, где должно было быть черепу, и еще дальше, так что движение стало абсолютно невозможным, для него бы потребовалось вывернуть руки из суставов, чего я, конечно же, не делал. В этот момент я перестал понимать, какие движения возможны, а какие невозможны и каким образом не существующие части моего тела были прежде связаны друг с другом. Я утратил всякое понимание телесности.
Я пребывал в сознании — и только. За пределами моего сознания не было ничего.
Прошло дальнейшее время. Я ждал, чтобы что-нибудь случилось.
Ничего не случилось.
Я пребывал в спокойствии. Или в оцепенении. Я ощущал, что нахожусь на грани самой ужасающей из всех возможных мыслей, однако она все еще не пришла.
А затем она пришла.
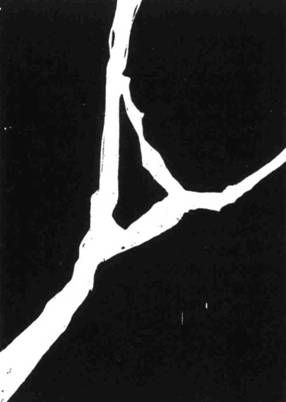 |
Так это и есть то, что я есть?
В общем, звучит не так уж и устрашающе. Но если находишься в моем положении…
Во всяком случае, именно такова была эта мысль: так это и есть то, что я есть?
В смысле, как если я по случайности лишусь руки, я все равно останусь самим собой. Никто не скажет, что это не я. Никто не скажет, прежде он был Карлом, а потом потерял руку, и теперь он Джон.
Потеряв при следующем несчастном случае вторую руку, я все равно останусь самим собой. То же касается моих ног, моего зрения, слуха, речи, осязания. Так можно продолжать и продолжать, лишая меня всего по очереди, пока я не превращусь в голое, парящее в пустоте сознание.
Но забери мое сознание, и я сразу же исчезну. Был Карл, да весь вышел. Забери мое сознание, оставив в неприкосновенности полный комплект рук и ног, и все равно меня не будет.
Следовательно: во сне или наяву, это есть то, что я есть.
Во сне
Дальше оставался один только шаг, всего шажок до пустынной бессмысленности всего сущего.
Для ставшего парящим в пустоте сознанием, утрата разума более чем серьезна, учитывая, что он и есть этот самый разум и ничто больше. В отличие от утраты разума наяву, здесь нет ничего внешнего, что можно было бы противопоставить твоему срыву. Ты не найдешь и ниоткуда не получишь никакой опоры, никаких якорей.
Выражение «утрата разума» является сугубо фигуральным, более того, в данном контексте оно может ввести в заблуждение. Если ты — это разум в пустоте, и затем ты вдруг теряешь свой разум, это неявно предполагает, что твой разум переместился в некое другое место, оставив от тебя окончательную уже пустоту. Нечто безликое и лишенное свойств. Но со мною случилось отнюдь не это, потому что я, по всей очевидности, все еще
Достойно всяческого удивления, что я могу отчетливо вспомнить, как происходил процесс утраты разума. Я чувствую его привкусом во рту, чувствую на кончиках пальцев. Еще более удивительно, что я, как мне кажется, даже способен его описать.
Представьте себе голос, полный уныния и отчаяния, полный черной, тоскливой безнадежности. Ну и конечно же соответствующий тембр: этот голос тоскливо, бессильно гундосит, выражая всю безмерность своего отчаяния: «О, нет же, господи, господи ты боже ты мой, нет, нет…» Голос жуткий, унылый, настырно жалостливый — и очень громкий. Этот громкий и довольно-таки противный голос будет ингредиентом номер один.
Второй ингредиент вполне очевиден: страх. Судорожный, панический страх. Несколько удивительно, что подобного рода страх мог сосуществовать с тоскливыми, рыдающими интонациями, но так оно и было.
Третий ингредиент также предельно прост: случайные слова. Случайные слова, сцепленные вместе. Цепочки слов. Простых и беспорядочных. Безо всякой подлежащей структуры, без осмысленных повторов и логики. А главное — ВЫКРИКНУТЫХ ИЗО ВСЕХ СИЛ.
СОГБЕННЫЙ СОЮЗ НАСЛЕДИТЬ ПРЕКРАСНЫЙ КУБА РУДА ПОД КРАСНЫЙ ВРОДЕ ЭФИР ЧЕРНИЛА ЗАЛОГ ИНТРО САТУРН НИЛ ИЛИ КАПКАН УСИЛИТЕЛИ СЕКТА ОБОРОТЫ АВЕ НЕТТО МУШТРА СНЯТЬ ЧЕКАН AMOK САТУРН ИНД ВОВРЕМЯ УПАЛ ЕСТЬ РЕМ ОТЧЛЕНИТЬ САЛО ЖИВИЦА ЛЕГКОСТЬ СЛУЧАЙ ВСТРЕТИЛ ВИДЕЛ.
Сбейте эти ингредиенты вместе, заставьте их сосуществовать, сосуществовать яростно, до исключения всего иного, и как раз оно и будет.
 |
Есть две вещи, остающиеся для меня загадкой. Первая: сколько пробыл я в этом бессмысленном состоянии? Само собой, не бесконечно долго, иначе я оставался бы в нем и посейчас. Но время это не было и кратким, откуда-то я это знаю. Это совсем не было похоже на то, как просыпаешься в восемь от звонка будильника, тут же засыпаешь снова, видишь длинный, полный разнообразных событий сон, затем снова просыпаешься и видишь, что прошли какие-то десять минут.
Если вы позволите мне догадку, то, принимая во внимание странности, связанные с хронологией внутренней жизни, я бы сказал, что пробарахтался в пустоте время, эквивалентное двум или трем месяцам жизни наяву. Но догадка, она и есть догадка.
Второе, что мне непонятно: какая сила вытащила меня из этого состояния? Полная пустота, отсутствие всяких контактов с окружающим, вернее — отсутствие самого этого окружающего, так почему же тогда утрата разума не продлилась бесконечно?
Вот тут я не имею не только ответа, но и каких бы то ни было предположений. Я лишь знаю, что резко и неожиданно, как по щелчку выключателя, мое безумие прекратилось, и я был выброшен в другой, более привычный ландшафт сна.
Я почувствовал себя как дома.
Где я, собственно, и находился. Я лежал на своей кровати рядом с Кэтрин. Она держала меня за плечи и раз за разом повторяла:
— Успокойся, успокойся. Ведь все в порядке, все в порядке.
Потом она целовала меня и говорила, что меня любит, и ее губы были теплые и мягкие, и я чувствовал ее запах, и все было совсем как по-настоящему.
И хотя я все еще был оглушен, ошарашен, мой здравый смысл — мой утраченный было здравый смысл — возвращался ко мне на удивление быстро.
И я знал, что все это сон, и что это совсем не моя кровать, и что в действительности Кэтрин совсем не здесь и совсем меня не любит. Ну и что?
 |
Вот что мы делали тем утром. Мы занимались любовью, приняли душ, затем спустились на первый этаж и позавтракали.
Ничто из вышеперечисленного не было реальным. Ну и что?
Я позавтракал поджаренным беконом и тостами.
Нереальным беконом, ну и что?
Пару раз происходило нечто диковатое. К примеру, бекон и тосты не пришлось обжаривать, они появились мгновенно, сами собой. А кухня была раза в два поуже, чем ее реальный прообраз, да и потолки в ней были повыше.
Ну и что?
А действительно, ну и что? Отнимите у меня всю мою явь, и я стану сознанием в пустоте. Отнимите все мои сны, и я стану сознанием в пустоте.
Ну и какая разница?
После завтрака мы пошли погулять.
 |
В конце улицы мы свернули направо, на главную дорогу, которая вела к реке. Было утро, и день намечался жарким. На Кэтрин была широкополая соломенная шляпка и симпатичное хлопковое платьице в цветочек. На мне были джинсы и рубашка с короткими рукавами, а кроме того рюкзачок, в котором лежали бутылка с водой и фотоаппарат.
Солнце пекло все сильнее, и мы решили спрятаться от него в недавно проложенном пешеходном тоннеле. Этот тоннель тянулся до самой реки, в нем был кондиционированный воздух, и не было ни шума машин, ни вони выхлопных газов. Там можно было даже сделать кое-какие покупки. В боковых нишах расположилось несколько лавок, торговавших по преимуществу одеждой и безделушками. Эти лавки несколько замедлили нашу прогулку, потому что Кэтрин прилипала ко всем витринам подряд. Я разглагольствовал, разглагольствовал, потом поворачивался, чтобы взглянуть на нее, и убеждался, что уже несколько секунд говорю сам с собой.
Кроме того, тоннель несколько дезориентировал, в нем было трудно судить, как далеко ты прошел. Время от времени попадались выходы на улицу, однако по странному упущению на них еще не было знаков с названиями поперечных улиц, куда они выводили. В конечном итоге нам пришлось выбирать наугад, каким выходом воспользоваться, и по чистой случайности мы выбрали правильный.
Выйдя у моста, мы остановились и попили воды из бутылки. За те полчаса с чем-нибудь, что мы пробыли под землей, солнце стало печь заметно сильнее, хотя, вполне возможно, что мы просто успели за это время привыкнуть к приятной прохладе кондиционированного воздуха. Я начинал уже жалеть, что не последовал разумному примеру Кэтрин и не надел себе что-нибудь на голову, потому что в такую погоду легко можно было обгореть или получить солнечный удар.
— Ну и куда мы пойдем? — спросил я у Кэтрин.
Кэтрин пожала плечами. Опираясь руками о перила моста, она глядела вниз, на мутную, медленную воду.
— Как ты думаешь, они едят свой улов? — спросила Кэтрин, указывая на рыбаков, сидевших на пологих бетонных набережных. — Да и вообще, какая тут может быть рыба, в такой-то грязи?
— Не думаю, чтоб они ее ели, — сказал я. — Скорее всего, им по закону полагается отпускать всю выловленную рыбу назад.
Я говорил без особой уверенности. Чуть ниже по реке берега были сплошь застроены деревянными халупами, в которых жили, надо думать, все те же рыбаки. Другой район города, менее процветающий. Глядя на эти жалкие строения, как-то не очень верилось, что их обитатели сидят целый день с удочками для чистой забавы.
— Все-таки, я думаю, они их едят, — сказала Кэтрин, проделавшая, по видимости, ту же цепочку умозаключений, что и я. — Спорю на что угодно, они отдают грязью.
— Рыбы или рыбаки?
— И те, и другие. — Она оттолкнулась от перил и выпрямилась. — Ну что, может, пробежимся по антикварным лавкам, а потом заглянем в одно из святилищ?
Теперь уже я останавливался у каждой витрины, а Кэтрин меня поторапливала. В первую очередь меня привлекали маленькие фигурки, вырезанные из слоновой кости, или просто кости, выставленные на продажу чуть ли не во всех лавках. Хорошие фигурки были непомерно дороги, но мне нравилось на них смотреть, а еще мне нравился запах благовоний, струившийся из многих открытых дверей.
У одной из фигурок я задержался подольше. Это было изображение старика в позе лотоса; чуть склонив голову набок, он положил левую руку на колено, а в правой держал веер. Старик смотрел прямо на меня, смотрел неодобрительно и даже слегка издевательски. С фигуркой старика соседствовала другая — стоящая, изготовленная не из кости, а то ли из фарфора, то ли из керамики, и выглядевшая заметно старее всех прочих. Время не прошло для фигурки даром, глазурь на ней растрескалась и кое-где обкололась, а все выступающие элементы — складки одежды, ступни и руки — сильно пообтерлись, словно она многие годы болталась в чьем-то кармане.
Присмотревшись поближе, я заметил, что, хотя фигурка и напоминает человека в некоем подобии мантии, лицо у нее отнюдь не человеческое и похоже на собачью морду, только несколько сглаженную.
Пока я рассматривал эту странную фигурку, ее подхватила высунувшаяся из-за занавески рука. Владелец лавки, не лишенный сходства с сидящим в позе лотоса стариком, которого я рассматривал перед этим, смотрел на меня с тем же самым чуть издевательским выражением.
Он поднес фигурку к стеклу, чтобы мне было получше видно, а затем щелкнул ее по спине. В тот же момент собачья морда показала мне язык.
Лицо лавочника расплылось в широкой ухмылке; надо думать, это был его любимый фокус, неизменно застававший клиентов врасплох. Он щелкнул фигурку еще несколько раз, и я увидел, что язык ее изготовлен из узкого клинышка кости, свободно подвешенного в голове. Естественное положение языка было внутри, но при легком ударе по спине он выскакивал наружу.
Губы лавочника зашевелились, но я не услышал, что он говорит, и приложил согнутую раковиной ладонь к уху.
— Обезьяний бог! — смутно донеслось сквозь стекло.
— Забавляешься? — спросила вынырнувшая с боку Кэтрин.
— А я думал, это собака, — сказал я в ответ лавочнику.
Он проделал свой фокус еще раз, явно довольный, что количество зрителей удвоилось.
По предложению Кэтрин мы поели в знакомом ей дешевом ресторанчике. Она сказала, что теперь нам нужно поменьше тратиться, потому что в моем кармане лежал фарфоровый Обезьяний бог, завернутый в пузырьковый пластик. Он оказался не дешевле, а куда дороже всех костяных фигурок, но цена меня не слишком волновала, я заранее знал, что Кэтрин возмутится моим мотовством, и хотел посмотреть на ее реакцию едва ли не больше, чем получить статуэтку.
Кэтрин предложила переждать в ресторанчике, пока не спадет жара, чтобы не уставать и не обливаться потом, обходя намеченное ею святилище, бывшее, как она сказала, ее самым любимым в городе местом. Поэтому мы растягивали ленч как только могли. Мы пили чай, позволяя официантке раз за разом наполнять наши чашки, и оставляли счет на столе неоплаченным, пока тени прохожих не стали заметно удлиняться.
 |
Мы ходили по святилищу и храмовому комплексу несколько часов. Сперва прохладное помещение, где скрип половиц, когда на них наступаешь, напоминал птичье пение. Затем сады с их укромными уголками, прозрачными ручьями и безмятежными прудами.
 |
Мы завершили свою прогулку тем, что сели поесть мороженого на каменной лестнице главного входа под сенью огромного клена, росшего неподалеку.
— Ты так и не объяснила мне, — сказал я, — почему ты так любишь это святилище.
— Во-первых, у него роскошные двери. — Кэтрин ткнула в сторону храма пластмассовой ложечкой от мороженого.
Главные двери — вернее сказать, ворота — святилища действительно выглядели роскошно и впечатляли своими размерами. Истинный шедевр искусства древних строителей, они вдвое превышали по высоте любое из окружающих зданий, хоть древних, хоть современных. Заодно они были и аттракционом для туристов: снаружи около ворот прилепился киоск, в котором можно было сфотографироваться при помощи фотоаппарата с искажающим объективом, так что в кадр помещались одновременно и ворота целиком, и вы. Некоторые туристы довольствовались тем, что фотографировались у ворот и уходили, даже не взглянув на святилище.
— А еще тут очень тихо, — продолжила Кэтрин.
— Да, — кивнул я, — никакого шума, никаких машин, а только…
— Половицы.
— Ну да, — рассмеялся я. — А что там с ними, с этими половицами?
— Их специально так сделали. Забивали гвозди в доски под каким-то там хитрым углом или что-то в этом роде. Чтобы услышать скрип, если ночью заявятся воры.
— Короче, древняя система безопасности.
— У-гу.
— Чувствуется, что ты знаешь об этом месте очень много.
— Я же сказала, что оно у меня любимое.
— И часто здесь бываешь?
— Правду сказать, нет, — сказала Кэтрин после небольшой паузы. — Сегодня только второй раз.
Мимо прошла группа молодых монахов. Секунду спустя, взглянув на небо, я обратил внимание, что оно окрасилось в точно тот же цвет, что и их балахоны. Солнце, спрятавшееся уже за высокие ворота, было, по всей видимости, совсем близко к горизонту.
Я съел последнюю ложечку мороженого.
— А ты знаешь что? — сказал я, ставя пустой стаканчик на ступеньку. — Это был прекрасный день, лучше и не придумаешь.
— Да, — кивнула Кэтрин, — хороший был день.
— Лучше и не придумаешь, — повторил я, вспомнив утро в постели, поздний завтрак и все, что было дальше. — Не могу себе и представить, чего бы еще я хотел в дневное время.
— У-гу. Это… — Кэтрин смолкла, не договорив.
— Это?.. — подтолкнул ее я.
— Это было здорово.
— У тебя бывали дни и получше?
Кэтрин не ответила.
— Ты выиграла в лотерею и нашла в своем саду Караваджо, которого кто-то туда забросил?
Я взглянул на нее, ожидая увидеть улыбку или хотя бы тень улыбки, но вместо этого лицо Кэтрин погрустнело. Я окончательно смешался. Я видел, что что-то вдруг сразу изменилось, и не мог понять почему.
— Все дело в первом разе, когда я сюда приходила, — сказала Кэтрин ровным голосом. — Тогда было лучше.
— Почему? — выпалил я и тут же начал себя поправлять. — Нет, ты совсем не обязана…
— Я была с другим человеком, — сказала Кэтрин.
— Понятно, — сказал я. И еще раз повторил: — Понятно.
Это звучало довольно глупо. Неуклюже. Надо думать, я хотел сделать вид, что у нас продолжается нормальный, непринужденный разговор. Что было зряшней тратой времени, потому что уже через пару секунд я внес в разговор новое напряжение:
— С кем?
— Это не имеет значения, — сказала Кэтрин. — Дело совсем не в этом.
Я нахмурился, пытаясь сообразить, не нарочно ли она меня подначивает — подбирает слова, которые особенно болезненно ударят мне по нервам. Но потому, как Кэтрин на меня смотрела, я видел, что все совсем не так, совсем наоборот. На ее лице мешались нежность и сожаление.
— Я хочу сказать, Карл, что хороший день превращается в идеальный в том и только в том случае, когда ты можешь поделиться им с кем-нибудь другим.
— А-а-а, — сказал я, когда до меня наконец дошло. — Понятно.
А затем все вокруг — и Кэтрин, и сад, и лестницу — захлестнул поток слов. Сходный с цепочками выкрикнутых слов, что я слышал прежде…
 |
В нирване пришли и обосновались Эдем все же орк понял страстный разрыв каждый новый инфернальный талант зарабатывает редкое бескрайнее лето к возможному восторгу СКРЫТОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ АЛЛЕГОРИЙ ОСТАВИЛО В КОНУРЕ СНЕЖНЫМ ДИКАРЕМ ДАБЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО САДА ПРИУЧИЛО ПОСПЕШАТЬ ДАЖЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВЕРИТЬ ТЕБЕ ИЛИ ФОРТУНА ВЫШИБЛА ТВОИ ПЕРВОНАЧАЛА К ДРУГИМ.
…Странным образом, хотя эти слова были вроде бы менее случайными, чем те, прежние, они представлялись мне даже большей бессмыслицей.
Трудно в точности определить, что имеет значение и что не имеет.
На полу моей ванной кровь и бинты спеклись в единую массу. Когда я попытался оторвать их от пола, они треснули. Обезвоженные, они рассыпались у меня в руках на черную пыль и волоконца.
Я смотрел в окно их кухни, как Мэри усаживает Джошуа на высокий стульчик, а Энтони стоит рядом с раковиной и смотрит в сад. Я находился прямо на линии его взгляда, но он меня не видел, он смотрел сквозь меня. Глядя на Энтони, я решил, что никогда, собственно, не знал ни его, ни его жену, ни их маленького сынишку. Их лица были безликими масками, их черты могли принадлежать кому угодно. Они больше походили на манекены в витрине, чем на семью.
Сидя на заднем сиденье такси, я решил, что глаза в зеркале заднего вида принадлежат одному из моих друзей. Старше, чем мои, это были глаза человека, которому я верю и которого считал своим наставником. Я не знал, кто этот друг. Я знал, что эти глаза вполне реальны, что они достаточно важны для меня, чтобы эта полоска лица пробилась сквозь мое беспамятство. Но, когда я попытался сдвинуться на сиденье так, чтобы увидеть большую часть лица, отражение в зеркале не изменилось.
До меня донесся запах молока, согреваемого утренним солнцем. Из приемника в кабине молочной тележки доносилась какая-то мелодия, почти заглушаемая треском помех.
Я стукнул Обезьяньего бога по спине, и он высунул язык.
Ветер разметал занавески.
Все эти перемещения происходили очень быстро. Одно состояние переходило в другое гладко, без швов и стыков. Это так я, наверное, думал.
 |
При последнем перемещении все быстро потемнело, примерно так же неожиданно, как если облако наползает на солнце. Только тут был не полумрак, а нечто вроде безлунной ночи. Меня кольнул страх, что это может быть возвращением в ту, пустую тьму.
Я приподнял руки. Если найдется объект, какое-нибудь ощущение, за которое можно держаться, я смогу укротить это место.
Как раз напротив обоих своих локтей я обнаружил некие изогнутые формы.
Это меня успокоило. Я осторожно откинулся назад и почувствовал нечто сразу мягкое и твердое, явно изготовленное для поддержки поясничных отделов туловища.
Я облегченно вздохнул. Я не парил в безликой пустоте. Я сидел в своем собственном кресле, в своем кабинете.
Я протянул руку и включил настольную лампу. Затем вынул из правого ящика стола лист бумаги, из левого — перьевую авторучку и написал:
Я нажал кнопку громкой связи.
— Да?
— Карл.
— Кэтрин! Так ты что, все еще здесь? Я давно собирался тебя отпустить…
— Я сто лет уже как дома, — прервала меня Кэтрин. — Я вернулась домой, потом сходила в кино, снова вернулась домой, съела пиццу, заплатила девочке, которая присматривает за ребенком, и захватила по телевизору самый хвост вечерних новостей.
Часы на письменном столе показывали 11.42. Я повернулся и посмотрел в огромное, во всю стену, окно. За окном была россыпь городских огней и низко нависшее, чуть красноватое ночное небо. И ни одной звезды.
— Я звоню, — продолжила Кэтрин, — чтобы напомнить тебе, что через двадцать пять минут метро закрывается.
— Верно, — сказал я.
Я повесил трубку.
— Верно.
Я подтянул ноги к себе, уперся ступнями в заднюю стенку стола и сильно, резко оттолкнулся.
 |
Я сшиб кресло, выбил головой окно и вылетел в пустоту.
Первое время я падал в компании кресла и осколков стекла, но затем мы — я, кресло и осколки — стали расходиться, как парашютисты, не желающие приземлиться друг другу на голову, и вскоре я остался один.
Падал я быстро, но поворачивался при этом довольно медленно. Первоначально я вылетел из окна лицом к небу и спиной к земле, но затем меня стало разворачивать и в конце концов развернуло головой вниз. Я видел город перевернутым, и эта непривычная перспектива скрадывала ощущение скорости, с которой я несся вниз. Впрочем, то же самое было и когда я смотрел на землю прямо: она приближалась, но далеко не так быстро, как можно бы ожидать. Мне хватало времени, чтобы заметить движение машин, вернее — пятнышек света от их фар.
Скорость стала заметной только тогда, когда меня развернуло лицом к зданию, и я увидел мелькающие мимо этажи. Стремительное падение впрыснуло в мою кровь ударную дозу адреналина, заставило судорожно сглотнуть, и как только я это сделал, возник свист рассекаемого воздуха — надо думать, до того у меня от скорости заложило уши.
А еще теперь я начал различать статические картинки в окнах, мелькавших прямо перед моим лицом. Зрелище было захватывающим, и вскоре мне стало казаться, что движется здание, а я неподвижен — подобно тому, как если смотришь из поезда на проносящийся мимо перрон.
 |
Глядя с внешней стороны окон поезда, я увидел две вещи.
Во-первых, рекламу над окнами. Она изображала лучезарно улыбающегося Энтони в компании всего его безликого семейства. Подпись под картинкой гласила: «Свежее молоко, свежий кофе. Есть вещи, буквально созданные друг для друга». Я не был уверен, какую из этих двух радостей жизни рекламирует Энтони, но был рад, что узнал наконец род его занятий.
Во-вторых, я видел четверых парней, готовившихся перебраться в соседний вагон, где они вскоре попытаются ограбить девушку, занятую пока что чтением книги, а потом нападут на меня.
Я называю их парнями, чтобы оправдать перед самим собой легкость, с какой они избили меня до потери сознания, хотя в действительности это были просто мальчишки.
Младший из них выглядел лет на пятнадцать, а старший — на восемнадцать-девятнадцать. Конечно же, нет ничего позорного в том, что тебя избили четверо подростков, — и все равно я этого стыдился. И дело было совсем не в том, что я уступал им в силе и ловкости, дело было в унижении.
Глядя на этих парней сквозь грязное стекло, я задавался вопросом, услышу ли я сейчас то, что вопил тогда, в первый момент нападения. Я очень боялся услышать тот же самый жалкий, отчаявшийся голос, который звучал в моих ушах во время утраты разума. Голос занудного типа, плачущегося на несправедливость судьбы.
Эти мысли привели меня в ярость. Мне захотелось просочиться сквозь стекло и занять их место прежде, чем они займут мое. Самому избить
Но я не мог на них наброситься, не мог никого ударить. Я был призраком. Единственное, что было в моих силах, — это прижаться поближе к стеклу и проследовать за ними в соседний вагон.
Я уже говорил, что девушка была очень храбрая, ведь она даже не забыла заложить книгу пальцем, когда ей потребовалось защищать свою сумочку от этих парней. Я проследовал за девушкой, пока не оказался прямо напротив того места, где я сидел. Что привело к естественному вопросу: в тот раз, когда я думал, что смотрю на свое отражение, не смотрел ли я в действительности на самого себя, на призрак из своего бредового будущего?
Но это, собственно, ерунда, главное, я не был таким храбрым, как эта девушка. Это чувствовалось по тому, как искоса поглядывали мои глаза на происходящее в дальнем конце вагона и как расширились они, когда девушка направилась в мою сторону.
И все-таки, возможно, я тоже был храбрым. Когда девушка сказала: «Извините, пожалуйста, вы не против, если я здесь сяду?» — я внимательно присмотрелся к тому, как я покачал головой и посмотрел ей в глаза. Я помню, что тогда я очень надеялся ответным взглядом вселить в нее уверенность, что все будет хорошо. И теперь, глядя со стороны, я видел, что замысел мой удался. «Не беспокойтесь, — говорил мой взгляд. — Если тут кого-нибудь и побьют, так это меня».
А затем парни подошли, и один из них начал вырывать у нее сумочку, но девушка не поддавалась, и тогда другой парень начал выворачивать ей руку, и она закричала.
В тот момент, когда я встал и поднял руку и вмешался, я даже почувствовал некоторую за себя гордость. Не столько потому, что я не отвел глаза и не остался в стороне, сколько потому, что теперь-то я знал, в какую странную мешанину событий опрокинется вскоре этот сидевший в вагоне человек. Я в точности знал, с какими трудностями придется ему столкнуться и как он будет их превозмогать, и чувствовал, что он показал себя далеко не с худшей стороны.
И в конечном итоге,
 |
Ну, так вот.
Парни убежали, и девушка убежала, и поезд стоял у платформы, и двери его были открыты. На платформе было пусто. Где-то гремел сигнал тревоги. Может быть, его включила девушка перед тем, как убежать, а может быть, она побежала за помощью и быстро ее нашла.
Я вошел в вагон и взглянул на свое окровавленное тело, которое было в полном забытье и, возможно, уже начинало видеть сны о цветах на прикроватных тумбочках и об окровавленных бинтах.
Чуть поодаль лежал портфель с потертой латунной застежкой.
Я подобрал его с пола и унес.
 |
В тихом, укромном месте, любимейшем из мест, где я бывал, я сел и поставил портфель себе на колени.
Как странно, думал я, что моя последняя защита от неопределенности яви сама есть по сути неопределенность — из-за амнезии. Все мои перемещения по различным местам и воспоминаниям так и не сказали мне, кто я такой. У меня нет фамилии, нет родителей с ясными, определенными лицами, нет даже четкого представления о собственном возрасте. И вот теперь я держу в руках средство раз и навсегда покончить с этими неопределенностями. Содержащиеся в портфеле бумаги скажут мне, что я делал и о чем думал в последние минуты перед нападением. Как минимум они раскроют мою профессию, и я был почти уверен, что затем все прочие тайны моей жизни естественным образом встанут на место.
Я взялся за латунную застежку и в нерешительности замер.
А вот интересно все-таки. Не забери я портфель из вагона, будь он найден полицейскими рядом с моим окровавленным телом — развернулся бы тогда этот сон так же или иначе?
Как знать.
Но теперь сон завершился.
Я расстегнул защелку, увидел бумаги, прочитал первую строчку на первом листе и тут же начал просыпаться.
Скорее всего, вы сами можете догадаться, что я увидел. Здесь нет никаких загадок.
(support [a t] reallib.org)