"Грозовая ночь" - читать интересную книгу автора (Тамаши Арон)
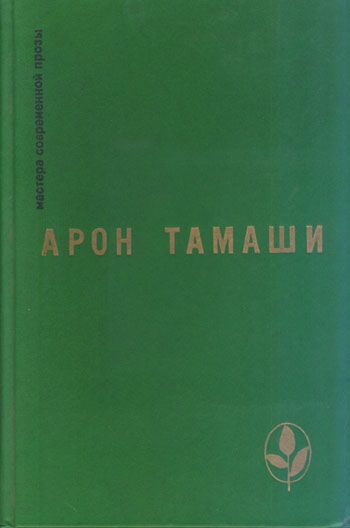 |
 |
Арон Тамаши ГРОЗОВАЯ НОЧЬ
Скрытое брожение происходит в мире.
Лишь зерно с наступлением весны наливается такой напряженной тишиной, какая вызревает, накапливается над плоскогорьем в вешнюю пору. Выжидательно, каждая на свой лад хоронятся в чащобе птицы; замирает влекомое извечным чутьем и тяжкой жаждой бытия четвероногое зверье.
Скрытое брожение происходит в мире и нагнетается тишина.
Только воды Кюкюлле гудят где-то вдали. Видно, и без дождей насытился горный поток, вобрав в себя обильные вешние воды. Теперь он катит их с неудержимым ревом, но в лесу, конечно, теряет свою мощь: слабенькие, нежные листочки словно процеживают громоподобный его глас и в щедрой испарине весны поток изливается на плоскогорье с легким, певучим журчаньем.
Вскинув острые уши, собака вслушивается в этот дальний, неясный гул. Мягким движением склоняет голову вправо, потом влево, сверлит, буравит лес блестящими глазами и надолго застывает, настроив остроконечные уши-воронки на процеженный лесом шум воды.
— Ты чего это насторожился, Чутак? — окликает собаку хозяин.
Шума далекой реки как не бывало — собака моментально о нем забывает. Она бурно радуется человечьему слову, даже шерсть на спине становится дыбом. Минуту-другую Чутак топчется на месте, перебирает лапами от избытка чувств, потом даже повизгивает, будто говорит: да пусть сердце хоть разорвется от радости жизни, от преданности — ничего мне не жаль!.. Собака устремляет на хозяина блестящие глаза и ждет.
От усердия что-то тикает у нее внутри, как механизм в часах.
Внутри — движение, снаружи — ожидание.
Чутак[1] в самом деле похож на пучок соломы: весь плотный, сбитый, а морда будто обрезанная. За передними лапами — черная лента в обхват, у хвоста тоже черное пятно — словом, природная упряжь. А вообще-то шерсть у собачонки белая, то есть была бы белая, если б за зиму не подсмолилась дымком.
«Что ж я стою понапрасну?» — думает собака.
И снова легонько тявкает, коротко, укоризненно.
— Ну, чего тебе? — спрашивает Бенке.
Это он ведь и есть ее хозяин, Бенке Кюлю. Тот самый, что сидит сейчас в летней своей времянке. Халупа, правда, только о трех стенах, зато крыша вполне приличная. Стенки он сделал из досок, крышу покрыл дранкой. И доски и дранка на крыше совсем свежие, от них так и веет смоляным духом. Можно, конечно, именовать эту халупу и домиком, но тогда уж и бабочку за животное нужно считать. Однако же под мастерскую халупа в самый раз, ведь и полевой цветок цветком называется.
Здесь-то и сидит сейчас Бенке Кюлю, плотник.
Но он не только плотник, хотя и это ремесло достойным и славным почитается с тех самых пор, как занимался им еще святой Иосиф. С того времени, однако, мир ушел далеко вперед, а с ним и Бенке — превзошел он назаретского плотника, потому что мастерит все, что только дерево позволяет. Делает кувшины для воды и всяческие кадки, чаны, ушаты, лохани разной формы и величины, изготовляет и вальки, а также корыта и — с особенным удовольствием — легкие качалки-колыбельки.
А сейчас вот трудится он над дранкой.
В великом усердии, окруженный нехитрым плотницким инструментом, сидит он в своем шалаше-мастерской. Сзади да с боков оберегают его от всякой помехи дощатые масляно-желтые стены. Открытым же фасадом, обращенным к закату, скромный этот кров свободно взирает на бескрайние луга плоскогорья. Их зеркально-ровная гладь, лишь кое-где приподнятая холмиком, сплошь поросла весенними травами. Правда, травушка пока слабая и совсем еще бледная от свежего млека земли, но в тоненьких, как дыхание, травинках уже трепещет, пробивается сила жизни.
Собака ждет.
Ее терпение пока непоколебимо, во взгляде, устремленном на хозяина, заключена какая-то своя мудрость. И еще — мысль, что раз уж приходится ждать, так лучше бы употребить это время с пользой. Но — увы! — что может сделать собака, когда она вот так предоставлена самой себе? Она разглядывает своего Мастера-Хозяина, словно он — великое творение художника, неизменно пребывающее в верном сердце своего творца, и думает: а нет ли нужды подправить что-либо? Разглядывает собака длинную шерсть на голове хозяина и удивляется, что не такая она подпаленно-белая, как у нее самой, и никаких черных пятен нет даже в помине — просто взлохмаченный орехового цвета шерстяной куст, только и всего. Лоб у хозяина костистый, как будто темная кожа прикрывает малышку скалу; брови как упавшие пшеничные колоски, а пониже — усы, словно маленькие стожки сена, должно быть, ветер принес их откуда-то да и уронил ему под нос. Подбородок выточен, надо думать, из дуба, но с боков стоило бы, пожалуй, подстрогать немного да заточить поаккуратнее. А вот шея все-таки длинновата.
«Что ж, какой есть!» — говорит себе Чутак.
Пока собака рассматривает его, Бенке с редкостным усердием выкраивает и строгает, обтачивает и приглаживает дранку. Дранок набралось уже с сотню, они громоздятся холмиком, все такие одинаковые, когда вместе. Их все больше и больше, а минуты, сами тому удивляясь, одна за другой скрываются за спиною времени; и только тянется-тянется стружка, то шурша потихоньку, а то и присвистывая, как сонный кузнечик.
Собака ждет.
Мышцы на задних лапах подрагивают, словно в укор сердцу: ладно, ладно, ты-то совсем одурело со своей преданностью, но ведь всякому терпению бывает конец! Ну хоть бы взгляд бросил хозяин — так нет же. Знай копошится, туда-сюда поворачивается, наклоняется и все подкладывает и подкладывает к куче новую дранку да громоздит стружку, которой и без того уже видимо-невидимо, и она так резко пахнет. Или пусть бы на волю выглянул, хоть изредка посматривал бы на ласково зеленеющую поляну, посреди которой, точно одинокий грибок, приютился дом. Да не трехстенный, как вот этот дощатый шалаш, — настоящий, добротный дом, где пахнет теплом и едой. А в доме этом, будто стебелек фиалки в теплом ветерке ласки и покоя, клонится, колышется женская фигура, и — э-эх! — висит там над огнем черный задымленный чугунок, в котором, ей-же-ей, давно уж сварился обед!
Чутак решительно тявкает.
— Ну, что такое? — отзывается хозяин.
Топчет Чутак ни в чем не повинную мураву и словно указывает туда, в сторону дома; да он и в самом деле показывает туда, зовет, вот только обернуться назад, отвернуться от хозяина не смеет: ведь так легко может оборваться эта радуга слов, что засветилась наконец голосом скупого на речи хозяина. А ей нельзя сейчас оборваться, никак нельзя, заешь ее кошка! Нет, уж лучше не спускать с него глаз — и Чутак, не смея пока позволить себе большего, лишь подрагивает мышцами да переставляет в нетерпении лапы и как бы зовет: домой, домой!
Умный поймет.
И в самом деле. Бенке Кюлю встает, отрывается от своей работы и говорит Чутаку:
— Ну ладно уж, ладно.
Ох, какой у него голос — словно теплая булочка, до радостного румянца поджаренная, только что из сказочной чудо-печки вытащенная!.. Постанывает Чутак, повизгивает, совсем потерял голову от счастья — как же, ведь сейчас, сейчас мы пойдем туда, на полдневное пиршество!.. А впрочем, кто знает? Может, хозяин и в мыслях не имеет еще домой идти, может, просто так сказал что-то, лишь бы сказать. Что правда, то правда: эти беспокойные существа — люди — ой как часто отделываются от собаки каким-нибудь пустопорожним словечком!..
Бенке стряхивает с себя стружку и выходит из-под навеса.
Виноват! — словно говорит Чутак.
Вернее, он просто опускает свою короткую морду к самой земле и, повизгивая, кается, что в минуту слабости, одурманенный голодом, позволил себе так забыться. На собачьей морде написано чистосердечнейшее раскаяние, но голос взвивается радостным облачком, что, кудрявясь, уплывает в небо, совсем как дым от благочестивого жертвенника Авеля. А чтоб легче ему, кудрявому, было лететь, Чутак часто-часто подгребает лапами и виляет хвостом.
И вот они уже бредут по зазеленевшему полю.
Но вдруг Бенке останавливается — шут его знает почему. Может, букашку какую увидел или, как весть о возродившейся жизни, выводок мышат после зимнего нищего прозябания. Но нет, какое там, совсем напротив, его взгляд устремлен в сумасбродное весеннее небо, по которому беспрерывно плывут облака. Что же это, ведь еще утром огромный небесный шатер сиял безупречной голубизной! Девственно сияя, небо как будто заверяло клятвенно, что не станет водить дружбу с тучами. Да и ближе к полудню, когда Бенке отрывался изредка от работы, чтобы оглянуться, даже тогда небосвод был совершенно чист. А сейчас, куда ни глянь, отовсюду набегают, теснясь, облака. Правда, плывут они пока лишь малыми островками, словно кто-то беспорядочно разбросал кудель великого небесного владыки да еще изорвал ее в клочья, поддавшись легкомысленному гневу, и перепутал: дымчато-серую — с белой, зловеще-черную — с голубой.
Плывут, скользят в вышине облака.
— Что-то будет! — говорит Бенке.
Собака смотрит на еще слабую травку, потом взглядывает на хозяина, словно говоря: будет так будет, а теперь нам пора идти! Однако хозяин не трогается с места. Понаблюдав за облаками, он медленно обводит взглядом поднебесные дали. На востоке широкой дугой изогнулся лес, и нет ему ни конца ни края; живительная зелень — цвет надежды — вздымается по всему лесному разливу и бесстрашно вступает в бой со злобной чернотой неба. На севере распростерлись почти безлесные, одной лишь травой покрытые горы, и слабая их зелень громко взывает к лесам: эге-ей, торопитесь! А вот там, на западе, далеко-далеко, раскинулась по склону высокой горы пестрая деревенька. На юге же, насколько хватает глаз, поля и поля, а над ними трепещут, подмигивая, беспокойно перебегающие световые пятна.
«Ну пойдем же!» — проникновенно смотрит на Бенке его собака.
Но, так как хозяин все еще медлит, она взмахивает наконец хвостом, как будто снимает с себя всякую о нем заботу. И отправляется в путь одна. Однако переступает медленно, неуверенно и, словно кость, ворочается в голове мысль: обернуться? Не обернуться? Нет, она не оборачивается, только настораживает уши — не идет ли следом хозяин.
И вдруг слышит: идет и даже окликает ее:
— Эй, Чутак, подожди!
Собака охотно поджидает его. Потом, уже вместе, они отправляются дальше, и от восторга Чутак бешено вертит хвостом. Но, увы, опять вдруг лопается в собаке какая-то пружинка — это потому, что хозяин снова ни с того ни с сего останавливается. Он напряженно прислушивается и словно ищет что-то глазами. Очевидно, хочет понять, из какого гнездовья вырвался звук — тот особенный звук, который немного напоминает отдаленный гул реки, а еще больше походит на монотонную песенку пролетающего вдалеке жука.
— Что бы это могло быть? — говорит Бенке, щурясь.
Его острый взгляд уже снова бродит в вышине. И вдруг, пристально всмотревшись в сумасбродное весеннее небо, Бенке замечает, что там, в вышине, плывут дорогою облаков железные птицы. Серебристо отсвечивая, пропарывают они тучи, и веселые лучи полуденного солнца сверкают на их крыльях.
Их девять, если он правильно сосчитал, и держат они путь с востока на запад.
Лицо Бенке Кюлю становится суровым.
— А ну пошли! — командует он собаке.
И они снова трогаются в путь. Чутаку так и хочется показать свою радость, да вот беда — некому. Но, видя полную безучастность Бенке, Чутак лишь внимательнее присматривается, наблюдает за хозяином, который, должно быть, увидел там, в вышине, в этом сумасбродном весеннем небе, что-то важное, — вон как идет он, повесив голову и потемнев лицом, спешит, торопится домой. И гляди-ка, на левую ногу припадает, да так сильно! Что верно, то верно, он и всегда немного прихрамывал, но сейчас так и оседает весь влево при каждом шаге.
Очень сильно хромает сегодня Бенке Кюлю.
И хотя, кроме собаки, никто его не видит, Бенке проявляет к больной своей ноге большое почтение. Да она того и заслуживает, ничего не скажешь, ведь ей одной он, Бенке, обязан тем, что до сих пор не на войне. Здесь, среди гор, в полном безлюдье, он забывает, правда, припадать на ногу посильнее, чтобы сразу видно было — он нестроевик; но лучше все же не искушать судьбу и хромать как следует. Ведь вот же не кончается все война, опять идут в боевом порядке железные птицы!
Впрочем, они довольно быстро приближаются к дому, над крышей которого ветер раскачивает столбик дыма. Бенке, погрузившись в себя, думает о войне, которая вот уже пять лет в огне и чаду движется вместе с немцами по земле. А собака между тем трусит рядом, то и дело поглядывая вперед, словно по кусочку откусывая расстояние; но чаще смотрит она на хозяина, помаргивая всякий раз, как он припадает на левую ногу.
Они подходят все ближе.
Перед домом сохнет выстиранное белье, веревка под ним провисла. И хотя облака по-прежнему неспокойны, здесь, в низине, ветерок нежный, как молодая трава, — под ним даже не шелохнется развешенное белье. Кружки и пузатые кастрюли, что сохнут на суковатом дереве, и те еще не заговорили под его порывами, а ведь как любит ветер насвистывать да нашептывать в утробе кастрюли! И опавший цыплячий пух да перья еще спокойно лежат на земле; только юркий солнечный зайчик, подчиняясь игре облаков, перебегает с места на место в корыте единственного поросенка.
Из дома не слышно ни шума, ни малейшего движения.
Стоит он, этот дом, посреди нежно-зеленой поляны, словно пестрое яйцо какой-нибудь огромной птицы.
— Аннушка! — зовет, еще не дойдя до дому, Бенке.
Никто не отвечает ему.
Собака забегает вперед и через отворенную дверь врывается в дом. Но мгновение спустя она уже возвращается к порогу и молча в упор смотрит на хозяина. Нервы всеми нитями вздрагивают в Бенке и сердце начинает колотиться в тревожном предчувствии. Он сразу забывает о войне и — словно кто-то другой, прихрамывая, брел только что по полю, — торопливо и твердо ступая, шагает к дому. И только подходит к порогу, как лицо его светлеет, как будто умытое живой водой.
Жена лежит на кровати. Платье аккуратно прикрывает всю ее юную фигуру, которая выглядит ладной, несмотря на большущий живот, что так самодовольно вздымается над всем ее телом. Золотисто-каштановые волосы ниспадают волнами с белой подушечки-думки, обрамленной по краю тремя веселыми зелеными полосками. На смуглом бледном лице женщины, словно соревнуясь с волшебницей луной, бархатисто светятся глаза; в руке у нее зеленая веточка, с которой кланяются, покачиваясь, кружевные белые цветы.
— Тяжко тебе, женушка? — спрашивает Бенке, ласково глядя на жену.
— Без того не бывает, — тихо отвечает жена.
Оно так, думает Бенке, женщине тоже несладко, особенно в таком положении, когда вот-вот… Теперь в ней хозяин — ребенок, со всего, что на пользу ему, пошлину собирает — и кровь, и все питательные соки всасывает, какие только есть в теле у матери. Оттого так слабеет она, будущая мать, оттого и борются в ней радость и мука. Гнет, пригибает ее закон природы, как плоды — молоденькое деревце.
И как только она выдерживает…
Чутак нетерпеливо топчется поодаль и красноречиво поглядывает то на хозяина, то на хозяйку — мол, что же это, ведь поздно уже!
— Обед готов? — спрашивает Бенке.
— Должно быть, — чуть слышно откликается Аннушка.
Бенке не торопясь идет к летнему очагу, маленькому и ладному. Он сам подобрал для очага камни на берегу реки и сам смастерил его по собственному своему разумению. Правда, эти две длинные, с развилками на концах железяки, что вставлены по бокам, выковал кузнец, и поперечный железный брус он же сделал, и крюк для котелка — тоже он; но ведь и кузнецу жить надо, раз уж выбрал он себе такое ремесло.
— Сейчас поглядим! — говорит Бенке.
Он раздувает жар посильнее, потом заглядывает в котелок и деревянной ложкой помешивает суп, так что мясо то и дело выглядывает из него, словно посылая голодным блестки-поцелуи.
— Ох, духовито! — молитвенно слетает с губ Бенке.
Он осматривается.
Дымок от очага, как и положено, вьется кверху, жара лениво плывет, прогуливается по комнате, и аромат зайчатины, словно вожак всех запахов, безраздельно властвует в томительном зное.
— Давай обедать, Аннушка! — говорит Бенке.
Жена садится на просторной, застеленной бледно-желтым домотканым покрывалом кровати. Видно, даже это движение ей в тягость, но, собрав все свои силенки, она подымается на ноги. Однако не успевает сделать и шагу, как спазм пронизывает ее тело, точно молнией. Сразу скрючившись, она бережно, осторожно опускается на кровать.
— Вы ешьте! — только и может она выговорить.
Бенке укрывает жену, потом проводит рукой по ее лбу, по щеке, словно чует: она и есть творение божие. Он бурчит что-то ласковое, но, хотя сердце, бьющееся горячей готовностью услужить жене, смягчает голос, все же ласковые слова получаются у него тяжелые, словно глыбины. Впрочем, выказать ласку очень помогает ему Чутак, который тоже стоит рядом и нежно повизгивает.
— Ешьте, — повторяет Аннушка.
— Может, принести тебе хоть тарелочку? — спрашивает Бенке.
Аннушка делает нетерпеливое движение рукой — не надо, мол. И тут же начинает помахивать перед собой зеленой веточкой, словно даже запах мяса хочет прогнать от себя. Да, именно этого она и хочет, ей куда приятнее аромат цветущей ветки, который она вдыхает глубоко-глубоко.
Что ж, такова жизнь.
Бенке выносит стол во двор, ставит на него все, что, по его мнению, может пригодиться к обеду, потом снимает котелок с огня и принимается за еду. Чутак садится на землю у его ног и ждет, томясь и изнывая. Бенке зачерпывает раз, другой — это еще только проба; теперь полагается угостить и собачку, чтобы все было по совести. А по совести, оно и правда, Чутаку следует если уж и не самый первый кусок получить, то хоть есть как равному — ведь это он поймал вчера зайчонка, кому же сейчас и лакомиться, как не ему. Заяц, бедняга, был плохонький, одна кожа да кости, как по весне и всякое зверье, промышляющее на воле. Но и за такого тощего благодарить нужно Чутака. Бенке не колеблясь бросает собаке заячью ножку.
Оба с увлечением отдаются пиршеству, принесенному охотничьей удачей Чутака. Бенке усердно обсасывает кости, то и дело обмакивая в соус хлеб. А для Чутака, окруженного уже целой грудой костей, и вовсе праздник.
Словом, оба трудятся на славу.
Солнце между тем поворачивает на вечер, тучи сгущаются, темнеют и еще быстрее бегут по небу. Вихрь, зародившийся в вышине, спускается к земле пока лишь слабым ветерком. Но трава уже кланяется ему, хоть и против воли, в воздух взлетают оброненные цыплячьи перышки, и все громче хлопает развешанное на веревке белье.
И зловеще нагнетается тишина.
— Бенке! — доносится вдруг из дома.
Голос у Аннушки не тихий и не кроткий, как раньше, — в нем слышится какая-то сила. Быть может, сила эта от боли и страха. Бенке тотчас вскакивает, торопливо подходит, спрашивает, что с ней.
— Какой день сегодня? — с мукой выдавливает жена.
— Воскресенье, — отвечает Бенке. — Последний день апреля.
У Аннушки измученное, желтое лицо, в кулаке она сжимает цветочную веточку.
— Плохо мы считали, — произносит она с трудом, и глаза ее загораются лихорадочным огнем.
В мозгу у Бенке, словно облака на небе, проносятся, обгоняя друг дружку, месяцы, дни. Их гонит, подгоняет ветер страха; вот вспыхивает одно памятное событие, другое, но все это не помогает ему ответить на вопрос: правда ли, что они просчитались? А только не может того быть, что просчитались: ведь в душе у него цвела не знающая сомнений уверенность, которая сулила им первый плод, их первенца, на конец мая!
Да и Аннушка всегда сама же твердила об этом.
— По крайности еще три недели осталось, — говорит Бенке.
— Ох, какое там! — вздыхает жена.
— Но ведь и ты, ласточка, это же самое говорила!
— Обманулась, видно.
Голову Бенке сразу заволакивают думы-заботы, а тут еще и с неба, и со всех сторон надвигается на него беспокойство. И вот он, беззащитный, чуть не с мольбой глядит на свой дом, одиноко стоящий среди гор, словно от него ожидает сейчас спасительного чуда. Но в очаге уже выстыл жар; пробираясь в крохотные щели в дощатых стенах, на полу самозабвенно играет солнечными зайчиками ветер; дранка на крыше безмолвно дыбится в глухом затишье, а под кровлей вместо кусков сала свешиваются со стропил лишь щедрые посулы будущего…
Но его забота не терпит.
Бенке выходит во двор и стоит там под весенним небом, точно дерево, из которого злая судьба охотно выточила бы хоть распятие. Смотрит он на все растущие насупленные тучи, видит, как они на глазах наливаются гневом, разъяряя себя и друг дружку, а ветер между тем точит зубы в густых его волосах. Скрывается за темную тучку закатное солнце; небесное светило озабоченно замирает. Трепещет белое свежевыстиранное белье; в птичьем полете — это видно теперь и простым глазом — уже нет спокойствия, лес словно пригнулся с ворчаньем, и в воздухе поселилась тревога.
Но забота глуха ко всему.
Бенке возвращается в дом.
— Как же теперь-то? — спрашивает он растерянно.
Аннушка лежит испуганная и не откликается. Она устремляет большие вопрошающие глаза на Бенке и не отводит их, наполненные тоской и болью, до тех пор, пока они совсем не застилаются слезами. Тогда Бенке садится на широкую кровать и прячет свое лицо в ладонях. Сидит с тяжелым сердцем, мечется в думах между землей и небом, под гнетом обрушившейся вдруг на него беды, и ничего иного не может, кроме как повторять, твердить про себя, что он сделал все, что было в силах человеческих. Он и правда все сделал — сговорился с повитухой, чтоб она с середины мая перебралась сюда, в горы, гостьей была, коли пришла такая нужда, подрядился и дранки наготовить на целый домище, чтобы к явлению младенца завелись деньжата.
Но вот — обманулись, не рассчитали.
— Поеду, — говорит он наконец, — как-нибудь доставлю сюда повитуху.
— Когда? — спрашивает жена.
И в голосе ее прозвучала встрепенувшаяся надежда.
— Сейчас, — отвечает Бенке.
Он тут же встает, накидывает сермягу на плечи, берет топорик с длинным топорищем — пригодится в пути — и целует жену. Вот он и готов уже в дорогу. Но тут окликает его Аннушка, вся во власти смутной тревоги.
— Когда ж вы вернетесь?
— До деревни тринадцать километров, — отзывается Бенке. — К утру обернусь.
Ветер вдруг яростно бьет по крыше, и в проем двери вливаются в дом сумерки. Надежда меркнет на лице Аннушки, сменяется страхом. И она протягивает вслед мужу руки.
— Не оставляй меня на ночь одну, — молит она.
Бенке опять подходит к жене.
— Ну что ты?
— Умру я.
Бенке до скрипа стискивает зубы. В поле поднимаются тучи пыли, и ветер, набегая сердитыми волнами, то и дело колотится о крышу.
— Возьми меня с собой! — молит Аннушка.
— На руках?
— В возке.
Да, думает Бенке, не следовало все же продавать зимой старую кобылу. А уж коли продал, надо было хоть стригунка к делу приучать, но ведь чертова эта дранка все время отняла. А теперь как его, необученного, в телегу запрячь, когда за спиной в обнимку сама жизнь да смерть сидят и обе только и смотрят, которой же быть победительницей.
Или решиться?!
— Ладно, запрягу, — говорит он с облегчением.
Бенке весь в успокоительной власти деятельности и уже чуть ли не радуется, что можно наконец попробовать Малыша в деле. Он встает и с легким сердцем выходит. Готовит возок, устилает его отавой, набрасывает поверх травы подушки, чтобы было помягче. Ветер уже улегся, но землю все плотнее застилает клубящаяся мгла. На юге вспыхивают сквозь тучи зарницы, но ропот неба еще слышен. Лес глухо гудит, и весенняя земля, куда ни глянь, словно напрягается в ожидании.
Таков сейчас весь мир. Таков и Бенке Кюлю.
Он на руках выносит жену и очень бережно укладывает ее в возок. Потом запрягает Малыша, и они трогаются. Малыш сильно втягивает в ноздри грозовой воздух, неспокойно, трепетно вскидывает ноги и часто оглядывается — в какую это странную, мол, историю я попал! Но вскоре он весь отдается новой игре — тянуть за собой возок — и, полный сил и молодого задора, быстро бежит по шелковистому полю. Ветер развевает гриву лошадки, как и волосы ее хозяина, но у Бенке сейчас так хорошо на душе, что он и в свирепые эти тучи не колеблясь сунул бы свою головушку. Иногда он окликает бегущую спереди собаку, которая умело высматривает путь для повозки, иногда сердечно расспрашивает жену и на каждый свой вопрос получает самый обнадеживающий ответ.
Они держат путь к югу.
Тучи плывут все ниже, и солнце совсем уходит на покой. А когда окончательно спускаются на землю тревожные сумерки, в тот же час кончается и плоскогорье. Они останавливаются на его краю, как останавливается, замирает все живое, чуя какую-то перемену. Бенке сам с собой держит совет, да и Чутак, наверное, тоже: ведь дальше дорога идет под уклон, прямо в большой сосновый лес, что покрывает весь склон горы, цепко удерживая ее всеми своими полчищами, чтоб не развеял ее ветер и не размыли извечные воды. И самую дорогу лес тоже защищает — он прикрыл ее сверху шатром ветвей да еще набросил на нее мягкий ковер.
Бенке накидывает цепь на одно колесо, чтобы возок на спуске не наехал на Малыша.
— Чутак, вперед! — приказывает он собаке.
Бенке крепко держит Малыша под уздцы, ласково его уговаривает — так они и спускаются потихоньку в густом лесу. Повозка идет бесшумно, потому что дорога совсем мягкая, вот только узковата немного. Особенно сейчас, когда и солнца уже нет, а из-за туч и вовсе темно. Но Бенке знает здесь каждый поворот, а впереди бежит, указывая путь, верный Чутак. Он тоже что-то прикидывает, рассчитывает и бежит по самой середине дороги, то и дело коротко тявкая в знак того, что телега может смело спускаться.
«Только бы не разыгралась гроза!» — думает Бенке, и не напрасно, потому что оттуда, с юга, уже надвигаются с ворчанием страсти небесные. Густая тьма придавливает лес, он стонет и словно корчится в судорогах. А над ним громыхает, непрерывно громыхает в вышине и все чаще поблескивают зарницы. Они не вспарывают воздух, не рассекают его, а словно вглядываются во тьму, вспыхивая все чаще и ослепительней, так что лес уже весь трепещет в этих потоках света.
— Конец нам пришел! — содрогается Аннушка.
— Не бойся, и на том свете проживем! — кричит ей Бенке в ответ.
Он мертвой хваткой держит Малыша, хотя тот почти не беспокоится, храбро выдерживая и небесные зарницы, и глухое ворчание земли.
— Хоть виднее стало! — говорит Бенке.
— Что ж, что видно, коли все равно помирать! — дрожит сзади голос жены.
Но все же они спускаются ниже и ниже под полыхающим небом и скоро достигают реки, что течет уже в долине. Перебравшись через речку, Бенке останавливает Малыша, утирает вспотевший лоб и, склонившись к воде, долго-долго пьет. Потом подходит к жене, заботливо оправляет на ней одеяло и, приблизив лицо к ее лицу, говорит:
— Видишь, это ради тебя зажглись свечи небесные!
Аннушка обхватывает слабыми своими руками Бенке за шею и, вся дрожа, заливается слезами. Она совсем ослабела от боли, а страх лишил ее и последних сил.
— Правда, ведь не умру я?
— Мы не умрем, нас только прибавится, — говорит ей Бенке.
Собака тоже быстро лакает, утоляя жажду, а причудливая река то и дело серебряно поблескивает всеми своими излучинами. Есть чему тут подивиться — как играет она, как переливается радостно в извечном своем одиночестве, но Чутак уже торопит Бенке продолжать путь. И они снова трогаются, снова бредут в сверкающей зарницами ночи, а лес между тем начинает редеть. Тучи мечут огненные взгляды на поляны, потом на одинокие старые деревья и наконец на луга, покрытые, должно быть, сочной травой.
Телега раскачивается, то и дело подпрыгивает, потому что дорога здесь скверная. Малыш спотыкается о непривычные ему кочки, и Аннушка всякий раз громко вскрикивает.
— Дорога плохая, — говорит Бенке.
Он произносит это так тихо, что ответить ему мог бы разве один Чутак, но у него самого забот хватает на этой нескладной дороге. А тут еще ко всем прочим бедам гроза совсем разгулялась. Небесные громы, бушевавшие на юге, захватывают теперь и запад. Оттуда все время слышится грохот, и молнии уже не вспыхивают зарницами, как на юге, а пропарывают сгустившийся воздух резкими, слепящими вспышками.
На дорогу падают первые крупные капли.
А гроза охватывает уже восточный край неба, подбирается к путникам и сзади, с севера. Все вокруг стонет и ревет; гудит, мучительно содрогаясь, лес; шумят в поле развесистые деревья.
Неподалеку с грохотом и треском бьет молния.
— Погибаем мы, Бенке! — вскрикивает сквозь слезы Аннушка.
Бенке не отвечает, он отлично видит, что небеса разбушевались не на шутку. И думает о том, что бы все-таки предпринять, как спастись. Может, под сенью какого-нибудь большого дерева будет лучше, чем на этой проклятой открытой дороге? Или хоть бы в овраге каком укрыться — все-таки защита, хоть для видимости.
— Все в порядке! — восклицает он вдруг.
Это вырывается у него так неожиданно и радостно, что даже Чутак вскидывает на него глаза, а жена приподнимает голову.
— Сейчас в загон заедем! — продолжает Бенке.
И в самом деле, где-то в этих краях должен быть овечий загон Мартона Задога. Теперь Бенке старается поточнее определить, где же они находятся. Он ничего не видит в этой взбесившейся ночи: тучи уже совсем попусту посылают на землю свои сверкающие взгляды — молнии лишь разрывают тьму и в тот же миг с грохотом исчезают, не успев осветить окрестность. Но вот, будто сжалившись над ними, им вдруг улыбается счастье: слева от дороги Бенке видит огонек на краю смутно различимого лесочка.
И он направляет Малыша туда, по полю напрямик.
Расчет оказывается верным: по мере того как расстояние до огонька убывает, все громче слышится лай собаки. Голос у нее густой и хриплый. Похоже, что она бежит им навстречу. Чутак вскидывает глаза на хозяина: теперь как быть? Но беспросветна эта ночь, и ответа он не получает. Да и поздно уже — в эту самую минуту огромный злой пес с яростью набрасывается на Чутака.
— Пошел вон, назад! — кричит Бенке.
Он хочет дать псу пинка, но перед глазами у него лишь бесформенный клубок. Одичалый пес яростно хрипит, а Чутак лишь визжит жалобно.
— Эй, Мор дай, назад! — доносится чей-то голос.
К ним подходит паренек с пылающими прутьями в руке. Очевидно, здешний подпасок, хотя Бенке не узнает его. Паренек еще раз окликает собаку, размахивая горящими прутьями. Пес тут же убирается прочь, чуть ли не ползком — так и стелется по земле. Тогда паренек освещает телегу и, увидев в ней женщину, спрашивает Бенке:
— Вам чего нужно?
— Видишь, путники мы, — отвечает Бенке.
Паренек почесывает в затылке, потом вдруг что-то приходит ему в голову, на лице появляется восторженное изумление, и он со всех ног устремляется к пастушьей хибарке, размахивая пылающими прутьями. Домишко оказывается совсем рядом, и путники отчетливо слышат, как паренек кричит, подбегая:
— Хозяин! Сам святой Иосиф явился с Марией!
Бенке смеется — ишь, за святого Иосифа приняли.
— Слышишь, Аннушка?
— Слышу, — уже успокаиваясь, отзывается жена.
Но вот показывается хозяин. Он идет, щурясь от яркого факела, и, подойдя ближе, тотчас узнает все семейство.
— Это ты, Бенке? — спрашивает он.
— Мы, — отвечает Бенке.
— Жена захворала?
— На сносях.
Старик совсем уж было подхватывает Аннушку на руки, но Бенке опережает его. Он вносит ее в хибарку и не спускает с рук, пока хозяйка поспешно стелет для нее постель. Потом он укладывает жену на подушки и глубоко вдыхает пропитанный молочным запахом воздух.
— Ну, дело сделано, слава богу… — Потом обращается к хозяйке: — Тетушка Илла, а вы за повитуху сможете?
— Коли надо, смогу, — отвечает старуха.
— Да она и с целой больницей управилась бы, — добавляет старый Мартон.
Что ж, мужчины оставляют женщин одних. Повозку отводят к лесочку, поближе к шалашу, где у костра снова забылся в дремоте подпасок. Бенке распрягает лошадку, привязывает ее к молодому деревцу. А старик подбрасывает в костер хворосту. Сюда же подходят обе собаки и ложатся на приличном друг от друга расстоянии, головами к костру.
Гроза понемногу утихает.
И вот сидят они на чурбаках у костра, двое мужчин. Оба закуривают и смотрят на длинные гибкие языки пламени, под которыми, иногда громко потрескивая, стонут дрова.
Они сидят и ждут.
За спиной у них, весело похрустывая, жует траву Малыш; собаки нет-нет да зевнут — громко, во всю пасть — и тут же скосят глаз друг на друга; но они уже успокоились и даже не ощериваются. Подпасок спит, раскинув ноги, с навеса прямо на живот ему шлепаются тяжелые дождевые капли.
Тучи начинают рассеиваться.
Полночь, должно быть, уже позади.
— Ты кого хочешь? — спрашивает старик.
— Мальчика, — выговаривает Бенке.
Старик кивает, но не продолжает разговора. Бенке смотрит на него, стараясь угадать, по нраву ли пришлось старику высказанное им желание.
Умудрены и таинственны такие вот старые лица. Следы страстей на них уже стерлись, превратившись в мудрость, как трава, высыхая, превращается в сено.
— Ведь мальчик-то лучше? — спрашивает наконец Бенке.
— Для родителей, может, и лучше, — отвечает старик.
В небе с девственной самоуверенностью появляется нарастающий серп луны. Из ночной тьмы медленно возникают контуры деревьев.
— Что ж, разве дитя не родителям принадлежит? — спрашивает Бенке.
— Так говорится, — отзывается старик.
— Только говорится?
— Да, только говорится. На самом деле дитя всему миру принадлежит. А в мире горя не оберешься! Горя да бед. И все от мужчин идет, только от них. Мужчинам солнце да звезды подавай, они все кверху тянутся, а земля-то и рушится у них под ногами. Но ведь живем мы на земле, земля — родина человеку. Значит, она и должна дать нам все, что благословенно средь людей. И радость дать должна, и тепло, и плоды, что сами по себе смеются…
Старик умолкает, и в чуть брезжущем предутреннем свете росой поблескивают его глаза.
— Девочки миру нужны! — говорит он наконец.
А в Бенке идет непонятная внутренняя борьба. Он и сам не знает почему, только хочется ему плакать.
Но плакать он не умеет.
Слабо светится костер, и нежно, как подрастающая девочка, улыбается луна.
Они ждут.
Наконец в доме начинается движение, и тетушка Илла, радуясь, кричит им, что родилась девочка. При этой вести счастьем озаряется лицо старика. А Бенке сперва испуганно вскидывает голову, но потом вдруг из глаз его брызжут слезы.
— Не реви, парень, — ласково говорит старик.
— Я не реву, — задыхаясь, роняет Бенке.
Он вскакивает и бегом бросается к дому. Он не хромает сейчас, насколько можно видеть в занимающемся рассвете; он бежит очертя голову, как бегут только люди, охваченные ужасом или завидевшие огромное счастье впереди. Старик, улыбаясь, смотрит ему вслед и вдруг, когда Бенке уже далеко, с облегчением замечает, что по краю неба светлеет узкая полоска.
Тогда он встает.
С детской радостью вглядывается старик в майский рассвет, и чистое сердце его полнится верой, что мир, возможно, еще будет счастлив.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |