"Эшелон" - читать интересную книгу автора (Смирнов Олег Павлович)
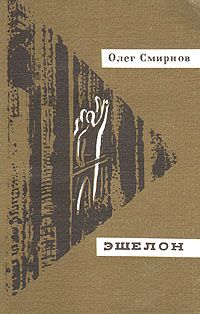 |
Олег Павлович Смирнов
ЭШЕЛОН
1
В Германии цвели сады, и я крутил любовь. Иные солдатики так и говорили: крутит любовь. Возможно. Потому что происходящее у нас с Эрной, кажется, не назовешь серьезной, большой любовью, которую испытывают или питают и о которой писано в книгах. По крайней мере с моей стороны такой красивой, книжной любви не замечалось. А может, не очень вдумывался, понесло-закрутило, глубоким анализом будем заниматься какнибудь после.
И об Эрне ничего определенного сказать не могу. Она радовалась, когда я приходил к ней, печалилась, когда уходил. Этого достаточно для любви? Не уверен. Да и что за любовь может быть между немкой, потерявшей отца под Сталинградом, и советским офицером, чья мать расстреляна гестаповцами в Ростове? Но вообще-то мне с Эрной было неплохо, вовсе неплохо.
Я навещал Эрну часто: днем — чтобы переброситься несколькими словами с ней, с ее матерью, принести им чего-нибудь поесть, ночью — чтобы остаться до рассвета. Я знал, что их комнатки на втором этаже не заперты — нарочно для меня, — осторожно нажимал плечом на тяжелую дубовую дверь, на цыпочках шел в угол, к кровати Эрпы. Она не спала, ждала. А мать по соседству то ли спала, то ли притворялась спящей. Сперва присутствие матери за стенкой смущало, тревожило, потом попривык.
А началось все это так. 9 апреля мы штурмом взяли Кенигсберг — под конец войны досталось разгрызть твердый орешек, немало там под занавес погибло нашего брата, немцев — еще больше. Сопротивляться для них было бессмысленно, город был окружен, блокирован, однако они отвергли капитуляцию, пришлось штурмовать. Грохот бомб и снарядов, рев танков, команды "Вперед!", крики раненых, бесчисленные пожары — горели вроде бы и каменные степы серых мрачных зданий, и бетонные форты, и брусчатка мостовых, — черная смердящая пелена стлалась над городом-крепостью, над тусклой балтийской водой. Хоронясь за броней тридцатьчетверок, мы, пехота, шаг за шагом, квартал за кварталом продирались по улицам, выкуривая из окон пулеметчиков и тотальников с фаустпатронами, подрывая гранатами «ферднкандов»; фаустниками были совершенно бешеные молокососы из «гнтдертогенда», по пятнадцати-шестнадцати лет, а самоходные установки так и норовили садануть по нашим танкам. Уличные Поп закончились на территории госпиталя, невероятно огромного — он уходил и под землю, — и везде в палатах, наверху и Б подземелье, па двухъярусных копках лежали мертвецы, видать, во время многодневной осады было не до раненых, и они мерла — бескровные лица, остекленелые глаза, ни одного живого.
В газетах я прочел, что заявил па допросе плененный комендант крепости генерал Отто Ляш. его слова я переписал в свои блокнотик: "Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, быстро падет. Под Кенигсбергом мы потеряли стотысячную армию. Потеря Кенигсберга — это утрата немецкого оплота па Востоке…" Быстро или не быстро, но Кенигсберг пал к исходу четвертых суток непрерывных штурмовых боев, командир стрелкового взвода лейтенант Глушков это подтверждает.
Лейтенант Глушков также подтверждает: этот самый генерал Ляш не принял предложение командующего Третьим Белорусским фронтом маршала Василевского о капитуляции, однако попросил, чтоб мирному населению позволили выйти из Кенигсберга до открытия огня. Видали гуманиста? А тысячи немецких солдат должны были превратиться в то, что называется пушечным мясом, да и паша кровушка прольется, когда начнем штурм… Советское командование согласилось, хотя с толпами горожан у нас в тылу могли оказаться и солдаты, и это грозило опасностью, фашисты есть фашисты, от них любой пакости жди. По с гражданскими мы не воюем, ото гитлеровцы вытворяли над нашими гражданскими — вспомнить страшно, полютовали всласть. Так что гуманизм как раз за нами, и толпы женщин, детей, стариков потянулись из осажденного города по «коридору», который был для того установлен. А потом был штурм, кровь с обеих сторон…
И знаете, что еще показательно? Гитлер впал в ярость, когда ему доложили о падении Кенигсберга, который он объявил абсолютно неприступным бастионом немецкого духа, лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии. И бесноватый фюрер приговорил Лягаа заочно к смертной казни. Мне рассказывал про это замполит батальона Трушин, а ему — знакомые ребята из седьмого отдела политуправления. Может, выдумывают? За сколько купил, за столько и продаю. Но похоже па правду. Вот так-то, верноподданный генерал Отто Ляш, такие-то делишки. Между прочим, в городе и пригородах мы захватили около девяноста двух тысяч пленных, из них тысячу восемьсот офицеров и генералов, свыше трех с половиной тысяч орудий и минометов, около ста тридцати самолетов и девяноста танков, что же касается автомашин, тягачей и тракторов, так их и подсчитать трудно было. Впечатляет?
Назавтра после овладения Кенигсбергом наш полк и вся дпвпзия вместе с другими частями и соединениями прошли по дымящимся руинам. Нас вывели в ельник на берегу залива. Мы и город-то толком не осмотрели. Побывали лишь в порту, где у причалов торчали полузатопленные суда, по пути набрели на памятник Канту, тому самому философу, что пустил по миру знаменитую "вещь в себе". На развороченных, присыпанных кирпичной пылью и битым стеклом улицах уже работали возвратившиеся жители Кенигсберга — расчищали проезды, разбирая груды кирпича. Немцы в принципе народ со здравым смыслом. Поняли, что власть переменилась, и, коль советский комендант приказал выйти на расчистку, вышли. Хотя попадаются всякие немцы. В подвале мои солдаты захватили в плен раненого фаустнпка. Я ему сказал:
— Зачем сопротивлялись? Ведь не было же никакой надежды, крови сколько лишней пролито…
Юнец окрысился, прошипел:
— Вы же сопротивлялись под Москвой…
— Тогда война начиналась, сейчас кончается.
Не знаю, дошло ли до него. Потупился, отвернулся. Возможно, принял меня за немца. Я высок, рус, голубоглаз — прямо-таки арийская раса, — чешу по-немепки, и многие пленные почему-то принимали меня за немца-перебежчика. Немецкий я изучал еще до войны, частным образом, на фронте напрактиковался и вот теперь владею тремя языками: русским, немецким и матерным — опять-таки на фронте овладел им в совершенстве.
Ну, потопали мы из города. Он и под апрельским солнцем оставался темной, угрюмой, камешю-враждебной громадиной. Пока топали по окрестным дорогам, на кого не надивились: в беретах и лыжных шапочках, закутанные в пледы и в полосатых лагерных куртках, на ногах деревянные башмаки и подвязанные проволокой боты; все бледные, кожа да кости, пошатываются от морского ветра; русские слова и английские, французские, польские, чешские и еще бог весть какие. Вавилонское столпотворение! Негра видел, не вру! Дороги запружены этими толпами бредущих пз угона, из концлагерей домой, на родину. У каждого своя родина.
Негр, надо полагать, возвращается в Африку.
Да, вывели нас в лесок, за песчаным пляжем, за дюнами — плеск балтийской волны. Только поставили мы шалаши из еловых веток, только принялись вылавливать по округе фашистских недобитков — и слова марш, порядочный, километров за семьдесят от Балтики. Но рубить лапник на шалаши не пришлось — полк разместился в довольно-таки уцелевшем городишке. Мой взвод занял дом почти на самой окраине, сселив хозяев — мать и дочь — в две комнатушки наверху, на втором этаже поселился и я со своим ординарцем.
Ну, а в Германии, точнее — в Восточной Пруссии, действительно вовсю зацвели сады. Будто бело-розовые облачка повисли на яблонях, вишнях, сливах. От них явственно пахло медом. Над цветущими деревьями кружились пчелы, и казалось, что это ив они гудят, что гудит сам прозрачный, прогревшийся воздух. Словно не пахло совсем недавно дымом, взрывчаткой, разлагающимися трупами, словно небо не гудело от самолетов. Солнечно, синё, нет дымных пожарищ, нет взрывов. Как-то странно, пожалуй.
Да что же странного? Война-то для меня окончилась. Разумом понимаю, а сердце как-то не верит: неужто позади четыре года боев, крови, смертей? Вот-вот добьем фашистского зверя в его логове, в Берлине, — и войне конец. Всей войне конец! За победу плачено немало, но Родина спасена, но освобождена Европа! Мы спасли, мы освободили. Мы — это я и такие, как я. Народ. Да, о народе надо говорить, а не о себе. Но я ведь — тоже народ? Хотя народ в моем представлении — нечто огромное, могучее, непобедимое и прекрасное, я же всего-навсего отдельно взятый человек со своими слабостями и недостатками…
И вот я — отдельно взятый человек — остался жив! После такой-то войны! Как говорит ротный старшина, обалдеть можно.
И я не то что обалдел, но голова кружится — это точно. Кружится от желания жить и любить. Да, и любить, черт подери! Мне же всего двадцать четвертый…
В эти-то апрельские денечки я и повстречал Эрну. Иногда кажется: от меня нынешнего, распираемого радостью, будто некое излучение, будто я испускаю некий постоянный и яркий лучик.
Эрна увидела луч, пошла на него, и я увидел ее. Мы увидели друг друга — так замкнулось кольцо…
Эрну с матерью оставили в этом доме по личному распоряжению командира полка — в порядке исключения, как объяснил мне ротный. А чего объяснять? Я понимал: цивильным немцам и нашим воякам жить вместе не положено, местным выделили домов двадцать — на всех, братья-славяне заняли остальные, но мать Эрны больна, что-то с ногами, почти не встает. Не перетаскивать же ее? Пусть лежит в соседней комнате, никому не мешает. Кроме меня. И то я уже отчасти свыкся с ней.
Обычно гражданские немцы — это были дети, женщины, старики (другие мужчины, помоложе, мне ни разу не попадались) — эвакуировались заранее, до боев, а когда наши наступающие части нагоняли их где-то западнее, они возвращались на свои места. Измученные, вышибленные из привычных житейских условий, напуганные и чаще равнодушно-покорные, они плелись, таща скарб на санках зимой, на колясках весной. Эти толпы встречались с толпами освобожденных иностранцев, и нередко те пытались сводить счеты, и немцы просили защиты у советских солдат, и нам приходилось урезонивать пылких французов или обидчивых поляков. А по правде, не очень хотелось защищать немцев.
С какой стати оберегать от справедливого гнева?
Зима здесь была мягкая, сырая, туманная, как выразился ротный — гриппозно-тифозная. Тиф, понятно, ни при чем, насморк же схватить либо ангину вполне можно было бы. Однако удивительно: на войне я — с моей носоглоткой — совершенно не болел.
Что же касается весны в Восточной Пруссии — иной разговор.
Она не по-немецки бурная, щедрая на солнце, тепло, зелень, и воздух пропах медом и хмелем, и голова покруживалась, будто хватил чего-то крепкого. В мае уже можно было загореть вовсю, будь свободное время. Но его, как на грех, не было: то, что на войне удавалось далеко не всегда, теперь завертело нас, закружило, наслаиваясь, — занятия по боевой и политической подготовке, в классах и в поле, партийные, комсомольские, солдатские, офицерские собрания, совещания, слеты, семинары. Вдобавок — баня, стирка, обшивка, утренняя и вечерняя поверка, караульная служба, полковые и дивизионные смотры. Вдобавок — ночные тревоги, когда взвод поднимали "в ружье": где-то на кого-то нападали террористы из тайной фашистской организации «вервольфов», по-русски «оборотней», мы бежали или ехали машинами к месту происшествия и никаких «оборотней» не заставали. Сдается, что не менее половины этих тревог были ложными.
При тревоге мой ордпыарец сперва по-мышиному скребся ногтями в дверь, затем стучал костяшками согнутых пальцев и затем дубасил кулачищем. После этого я вскакивал как ошпаренный! Помотавшись по лесу и не обнаружив «оборотней», мы возвращались в городишко, и я опять возвращался к Эрне. На своей постели в соседней комнате я ночевал считанное число раз, к неудовольствию ординарца и многих других. Шут с ними! В конце концов, имею на это право.
Впервые я увидел Эрну в тот день, когда мы вселялись. Солдаты галдели, гремели сапожищами, хлопали дверьми. Эрна с матерью не показывались, сидели у себя. Я вошел к ним без стука, властью победителя, и тотчас пожалел о своей бесцеремонности: фрау Гарниц вздрогнула под пуховой периной, которой была укрыта по подбородок, и Эрна вздрогнула всем телом, полуодетая: в брюках и без кофточки, в куцей комбинашке. По-немецки я пробормотал извинения. Мать кивнула, любезнейше улыбнулась. Эрна поспешно надела через голову кофту, пригладила волосы. Они были медно-красные, в мелких завитушках и настолько жесткие, что мне вдруг захотелось поколоть о них ладони.
"Нелепое желание", — подумал я и назвал себя. Немки тоже представились. Эрна сделала книксен. Поклон с приседанием! Этого еще не хватало, этих благородных манер, черт бы их побрал.
Я сказал немкам, что был рад познакомиться (так рад, что дальше некуда), что мы не стесним хозяек (они нас стесняли, а не наоборот), что мы будем видеться и беседовать (век бы их не видеть, а беседовать — о чем?). Споткнувшись об угольные брикеты, наваленные у двери, вышел в коридорчик.
Мне запомнились не одни медно-красные жесткие волосы, по и пушок над верхней припухлой губой, и тонкая белая шея, и маленькие торчливые груди. Эрне было лет семнадцать или восемнадцать, не больше. В сущности, девчонка — с покорным и грустным взглядом.
В госпитале — я уже был ходячий — меня удостоила своим вниманием старшая сестра Марина. По должности была старшей, но пo возрасту моложе остальных сестер, она именовала их, тридцатилетних и сорокалетних, старухами и нещадно гоняла. А с рапбольными обходительная, даже поблажки им давала. Была Марина холостячка: кто говорил, что муж пропал без вести на фронте, кто — будто разошлись они. Фигуристая, в глазах вечно какой-то голод.
На Октябрьский праздник Марина пригласила меня в компанию: сестры и врачихи — с хахалями, врачи — с законными супругами, я — неизвестно в качестве кого. Наверно, как будущий хахаль. И вот на этой вечеринке, едва собрались, Марина словно забыла о моем существовании и стала заигрывать то с одним мужиком, то с другим, то с третьим. Я уставился в тарелку, баюкая раненую руку, — остриженный под машинку, худой, бледный, жестоко терзающийся из-за женского коварства. А я-то, дурень, опасался, что Марина сразу, без подготовки, начнет обращать меня в хахаля! О женщины! Но ничего, ничего… Под конец вечеринки она вспомнила обо мне, прижалась, шепнула: "Ночевать у меня будешь?" Я гордо отодвинулся, с ледяным презрением сказал: "Вы не по адресу обратились, мадам". Она пьяно засмеялась: "Брось, не сердись! Прости!" Однако простить я уже не мог. Страдая от обиды и унижения, избегал ее вплоть до выписки. А выписался из госпиталя — перестал страдать и вскоре вообще запамятовал старшую сестру Марину, фигуристую, у которой муж то ли без вестп пропал на фронте, то ли оставил ее.
Вечером я вновь заглянул к немкам. Фрау Гарниц лежала лпцом к стене, не подавая признаков жизни. Эрна сидела перед матерью на стуле, ссутулившаяся, съежившаяся, в халатике. Я скадал: "Абенд!" — и в этом заключался некоторый шик. Потому что. как я заметил, немцы произносят не "гутен абенд!" ("добрый вечер!"), чему пас учили в русских школах, а разговорное, короткое "абенд!", то есть "вечер!". В данном случае я выглядел истинным немцем. Но на Эрну это не произвело впечатления. Она привстала, сделала свой реверанс и опустилась на стул, глядя на меня с равнодушной безропотностью.
Не ожидая приглашения, я присел и стал рассуждать о погоде, о садах и о прочих нейтральных вещах. Эрна зябко куталась в халат, хотя в комнате было тепло, душно, кивала и покачивала головой — от нее словно исходило жаркое сияние. А потом зевнула, запоздало прикрыв рот ладошкой. И я рассердился, умолк.
Распинаюсь тут перед этой фрицихой, а она изволит зевать во всю пасть, ей, видите ли, неинтересно. С кем? С офицером-победителем, с офицером-освободителем!
Она пошла к себе, и я, будто против своей воли, будто привязанный, поплелся за ней.
— Господин лейтенант, — сказала Эрна, — вы прекрасно владеете моим родным языком.
"Следом задаст вопрос, не фриц ли я", — подумалось мне, но Эрна об этом не спросила.
— Вы меня перехваливаете, фрейлейн, — сказал я. — Как благовоспитанная хозяйка…
Она перебила:
— Господин лейтенант, я вынуждена быть благовоспитанной.
Чувствуя, что разговор принимает щекотливый характер, я постарался сменить тему. Кашлянул и сказал невпопад:
— А мне уже двадцать четвертый год…
Она пожала плечами, в глазах вежливое безразличие. Олух царя небесного, чего тут пасусь? Сгинуть надо — и побыстрей.
Тонге мне. кавалер нашелся.
Я собрался было встать, распрощаться и внезапно упал вместе с охнувшим стулом. Вскочил, огляделся. Эрна сказала:
— Извините, стул рассыпался, старый.
— Дряхлый, рассохся, — согласился я, потирая ушибленный зад.
Эрна всплеснула руками, рассмеялась коротко. Я посмотрел на нее, сдерживавшую смех, и, вместо того чтобы разозлиться, также засмеялся, и мне стало как-то легко. Я собрал стул, но пользоваться им поостерегся, присел на табуретку.
Болтал о том о сем, шутил, как мне представлялось, удачно и, разболтавшись, незаметно для себя тронул Эрну за коленку. Честное слово, без умысла. А она, закусив губу, встала и распахнула халат. Я обалдел. Мне впору было зажмуриться, однако я этого не сделал. Сказал негромко:
— Что вы, Эрна? Вы меня неправильно поняли.
Она оправила халатик, в растерянности уставилась на меня.
Мне было скверно. В соседней комнате на подушке покоилась голова фрау Гарпиц в чепчике — небось догадалась, что произошло.
Собственно, ничего не произошло. А могло, не будь я рохлей.
Я повторил:
— Вы ошиблись, Эрпа. — После паузы поучающе добавил: — Советские воины не требуют от немецких женщин…
Чего те требуют, не решился обозначить, запутался и умолк.
Вот тут-то разозлился всерьез, по-настоящему, — на Эрну, на себя, на ее мать, на ординарца Драчева, заявившегося звать меня на ужин. Ах, лейтенант Г лутков, кто тебя разберет — то ты прямолинейный, правильный, то неуравновешенный, смутный человек!
Я встал, поклонился и вышел. Меня провожал робкий, жалкий, незащищенный взгляд.
В своей комнате я отчитал Драчева за холодную кашу, хотя она не остыла, за толсто нарезанный хлеб, хотя ординарец всегда так резал, за грязный подворотничок, хотя ординарец и раньше не бывал пристрастен к чистым подворотничкам, разумея: несправедливо это, глупо, ненужно. Ковырял в котелке — гречневая каша с консервированным мясом, брал с тарелок трофейный харч: французские шпроты и колбаса, голландский сыр, — прикладывался к бутылке с немецким портвейном. Я пил, жевал и думал:
"Ну и немочки, запросто у них все это… Впрочем, что мне? Но какая она все-таки худенькая, бледная, Эрна. Что они едят с мамашей? Ведь с едой у цивильных не шибко…"
Вспомнил, как глядела Эрна — пришибленно, беззащитно, и подумал, что не худо бы ординарцу отнести немкам чего-нибудь поесть. Мы нынче богатые, трофейчики имеются, не обеднеем. Да и офицерский дополнительный паек вчера получен: сардины, слпвочное масло, печенье.
Но к хозяйкам я отправился сам. Допив портвейн и оттого повеселев, завернул в газету колбасу, сыр, печенье, подхватил котелок с кашей. Фрау Гарниц не спала, встретила меня любезно.
Эрна окинула беглым, косвенным взглядом и потупилась. Я сказал как ни в чем не бывало:
— Прошу угощаться. Как говорится у нас, у русских, чем богаты, тем и рады.
Мамаша стала отнекиваться. Эрна теребила поясок халата.
Я поставил котелок на стол. Наконец мамаша сказала:
— С благодарностью примем это, если вы, господин офицер, разделите с нами ужин.
— Разделю. — Я развернул сверток с припасами. — За компанию, как опять же говорят русские.
Вот так я стал наведываться к ним, подкармливать. Но вообще угощения эти были на взаимной, что ли, основе: у немок в подвале вдоволь картошки, и мы жарили ее на американском лярде — недурно!
Не скрою: я жалел Эрну, молоденькую, угловатую, робкую.
Мамашу — с ее обнаженной предупредительностью, со слащавыми улыбками — терпел. По совести, иногда и к ней, больной, прикованной к постели, чувствовал некую жалость: живой человек, женщина к тому же.
Мать к тому же! Ты это понимаешь, Глушков? Как не понимать. Когда-то у самого была мама. Которую расстреляло гестапо.
Прости, мама, что не уберег тебя. От немцев, от гестапо. Нет, не так. Я, конечно, не смешиваю в кучу немецкий народ и гестапо.
Иначе бы по-другому относился к этим двум немочкам. Нельзя смешивать, нельзя! Да и досталось гражданским немцам от войны. Не от нас — от войны, развязанной Гитлером. А гражданские — это старики, женщины, дети. Я считаю: слабых не обижай…
Прошло несколько дней, мы как-то притерлись друг к другу.
И однажды вечерком, после припозднившегося ужина, я засиделся у немок. Мать по своему обыкновению отвернулась к стенке, будто все не могла налюбоваться тирольским ковриком — вельможные особы верхом выезжали из замка на соколиную охоту.
Эрна и я, примостившись у столика, чинно беседовали: я рассказывал, как учился на «пять», она — как училась на «единицу»: я уже был наслышан, что в немецкой школе кол соответствует нашей пятерке. Словом, мы были отличники, выражаясь по-нашему.
Она совсем недавно, еще в этом году, училась, пока не пришла война; как я и предполагал, Эрне было восемнадцать. Ну, а я окончил десятилетку аж в тридцать девятом, это было так давпо, что и не высказать. В эти минуты я сам себе казался многоопытным, пожившим, чуть ли не стареющим. Тем более в сравнении с Эрной.
Так мы говорили, и вдруг возникла долгая и томительная пауза. Мы оба уловили ее значение, потому что опустили глаза, замерли. А потом я, не вставая, обнял Эрну, поцеловал, и она поцеловала меня. Я не думал, что может последовать дальше. Вернее, подумал: сегодня ничего не будет, кроме поцелуев. Но Эрпа прошептала:
— Не сердись, хочу тебя. Хочу испытать это по-настоящему…
О господи, эти слова — испытать и питать — рядом со словом любовь! Да где она, любовь? Какая она? Но руки гладпли нежную женскую кожу, и женщина эта, молодая-молодая, взяла в свои ладони мое лицо, сжала его и повторила:
— Хочу по-настоящему…
Эрна прикрыла дверь в соседнюю комнату, погасила свет, и мы раздевались в темноте, толкаясь, мешая друг другу. Мои пальцы дрожали, дыхание спирало. Эрна легла, а я продолжал возиться с пуговицами и лихорадочно соображал: спит мать или нет, слышит или не слышит? А ну как засечет все это — что будет? На мпг представил: фрау Гарнпц приподымается на локтях и кричит не своим голосом: "Вы что там устроили?" У меня богатое воображение, точно, и не зря комбат не раз внушал мне, что оно мешает воевать. Видимо, не только воевать…
Эрна лежала рядом, обняв меня, и целовала в губы, едва прикасаясь. Я старался не думать о том, что за стеной мать. Мои руки ощущали нежное, податливое тело, и в конце концов я забыл о фрау Гарниц, обо всем на свете забыл.
А потом опять прислушивался, не ворохнется ли мамаша.
Только что пережитое отходило, блекло, растворялось. В голове — острые осколки мыслей, склеивавшиеся в одну: "Победители не требуют у немецких женщин и не просят, само собой получается?" — и вновь дробившиеся. Разгоряченная, влажная от пота Эрна прижалась ко мне и зашептала в ухо, щекоча его воздухом.
Щекотно было и щеке — от жесткой прядки. Но я не отодвигался, хоть не переношу щекотки, и думал: "Зачем она рассказывает об этом, гадком?"
Это действительно было гадко — над ней пытались надругаться. Трое эсэсовцев. Месяц назад. Затащив в сарай. Двое удерживали, третий срывал одежду. Спас Эрну случай, нередкий на войне: вблизи начали разрываться бомбы — советские. И сразу эсэсовцам стало не до нее. Они убежали, а она все не поднималась. Не было сил подняться, и чувство было, будто насилие совершилось… Шепот Эрны свистел в моем ухе, на грудь мне капали горячие слезы, как будто прожпгали ее.
Я верил Эрпе еще и потому, что мне попадались листовки, в которых германское командование, приводя подобные факты, требовало от своих солдат и офицеров уважительного, рыцарского отношения к соотечественницам. Но фашисты, повторяю, есть фашисты. В России вон что выделывали, теперь вытворяют в Германии.
— Непавшку тех, кто хотел растоптать меня! Всех немцев ненавижу! — шептала Эрпа. — Тебя люблю!
— И я тебя.
Это, видимо, была неправда, ибо я отчетливо сознавал: многое навсегда встанет между нами. Хотя Эрпа и шт в чем не виновата.
В темноте я видел: сытые, ражие мужики, провонявшие табаком и шнапсом, лапают Эрну за коленки, она отбрасывает их лапы, и тогда ее волокут в сарай, рот затыкают платком. Видел: двое заломили ей руки, третий срывает с нее одежду. Будьте вы прокляты, негодяи! Точно, точно: у меня богатое воображение, и оно мешает не только на войне.
Я успокаивал Эрну, бормотал дежурные, необязательные фразы, но больше ее так и не тронул. Когда оделся, она спросила:
— Завтра придешь, Петер?
— Приду. — сказал я, не очень уверенный в этом. И внезапно со всеохватывающей ясностью ощутил: война кончилась!
Так это все началось у нас с Эриой.
(support [a t] reallib.org)