"Всадники" - читать интересную книгу автора (Шестаков Леонид Ефимович)
Глава III ПЛОХИЕ ВЕСТИ
 |
В заплечном армейском мешке, который почему-то прозвали «сидором», хранится имущество бойца: смена белья, свежие портянки, котелок, принадлежности для чистки оружия. Но трудно представить такой сидор, где сверх положенного не притаилась бы какая-то вещица, бережно хранимая и часто совсем не нужная на войне. Ведь каждый верит, что будет жив и после войны ему это добро пригодится.
Вещмешок всегда при себе. С ним и в наступлении, и в обороне, и при отходе. А на ночевках он под головой — отличная подушка!
Но в госпитале сидор не положен — запрещено. Вот и исхитряются раненые. Правдами и неправдами изымают свое солдатское добро, несут в палаты.
У Миколы Гужа в тумбочке под полотенцем — зажигалка. Стоит нажать скобочку, как сама отворяется крышка и крошечный кузнец в фартуке бьет кувалдой по наковальне. Зажигается фитилек — и пожалуйста, прикуривай. А Микола и не курит вовсе.
Мирон Горшков хранит под тюфяком завернутый в тряпицу бумажник. Новенький, желтой кожи и весь скрипучий. Внутри — разные отсеки, кармашки для денег и документов. Все на коричневых кнопках!
Добрую вещь носит с собой по фронтам и дядя Афанас Кислов — шуршащий, весь в цветах женский платок с кистями. Бережет в подарок жене. Надеется человек!
Те, кто помоложе, любят похвастать своими безделками и расхаять в шутку чужие. А то затеют меняться. Шумят, торгуются — все скорей время идет.
Ввалился однажды из чужой палаты окривевший на один глаз Герасим Трефнов, командир артиллерийского взвода. Через плечо — хромовые сапоги.
— С кем меняться? Не к лицу мне теперь, кривому.
Подошел к Севкиной кровати, грохнул сапоги об пол:
— Махнемся на полушубок!
Горшков тут как тут:
— Отвяжись, сатана, не крути парню голову!
Севке смешно. Сапоги! Да будь они хоть золотые… Покачал головой, усмехнулся:
— Нельзя мне, дядя Герасим, полушубок менять. Дареный он.
— Выкусил! — съязвил Горшков. — Подбирай свои хромовые и катись.
В шуме и не заметили, как вошла Клава.
— Тихо! — скомандовала она. — Пляши, кавалерия!
— Письмо! — просиял Горшков. — Из эскадрона?
— Вовсе и нет, — глянул Севка на самодельный конверт. — Венькина рука.
Писал действительно Венька Парамонов, поселковый Севкин дружок. Тетрадный листок в клетку занял с обеих сторон. А вести — хуже некуда.
«Умерла твоя бабушка Федосья, — читал вполголоса Севка. — Через белых. Вломились в поселок, обобрали подчистую. У нас поросенка закололи, Тришку, у Бываловых корову свели, а хромого стекольщика Самуила облили на морозе водой…»
Скрипнула и тихонько притворилась дверь. Ушел Герасим Трефнов, догадавшись, что он тут с сапогами не к месту. Остальных и не слышно: ждут, что дальше.
Но Севка дочитал про себя. Не хватило голоса. Подал Клаве письмо, а сам отвернулся к стене и накрылся с головой полушубком.
Вся палата на цыпочках вслед за Клавой — к печке:
— Читай!
— «…Ввалились трое и в вашу хату, — шепотом прочитала Клава. — Один с завязанным глазом углядел за иконой твое письмо из госпиталя. И накинулся: «Спалю! Изничтожу красное гнездо!» А бабка ему: «Сопля ты зеленая! Если шашку нацепил, думаешь, грозен? Тьфу!» Плюнула и растерла, а сама — к иконе. Крест на себя наложила, командует: «Стреляйте, ироды!»
— Молодчина! — не стерпел Горшков. — Это женщина!
— «…Так и выкатились ни с чем, а бабка с того дня слегла. Все заботилась посылку тебе собрать. Шарфик да рукавички еще загодя связала, кисет праздничный твоего батьки из комода достала. Про кисет все сомневалась: «Не ведаю, посылать ли. Годами-то больно мал. Но, с другой стороны, конный армеец. Может, и выучился табак курить в своей кавалерии». Я сказал: «Не надо кисет. Тыквенных семечек сушеных хорошо бы в рукавички насыпать. Товарищей угостит и сам погрызет от скуки». А ночью она умерла».
Вечером Клава истопила печь-буржуйку, накормила раненых просяной похлебкой, сваренной с сушеной воблой, каждому измерила температуру.
— Отбой! Марш по койкам! — распорядилась она.
Прибавив в фонаре огня, записала, что положено, в тетрадку, позвенела в своем шкафике склянками и принялась мыть шваброй затоптанный пол. Закончив работу, прошлась по палате, поправила на койке Миколы Гужа свисшую шинель, огляделась. Мирон Горшков показал ей глазами на Севкину койку.
Клава наклонила голову: знаю, мол, не забыла!
— Не спишь? — подошла к Севке.
— Не сплю, — чуть подвинулся он к стене. — Посиди. Может, чего посоветуешь. Не сегодня-завтра мне на выписку, а куда? Эскадрон-то неизвестно где. И бабки теперь нет. Командир сказал: в крайнем случае — в детский приют.
— Разве что в самом крайнем, — неодобрительно заметила Клава. — Жили мы с сестрой в приюте…
— У тебя есть сестра?
— Есть. Только она потерялась… Когда у нас была мама, мы все трое жили в Москве на Якиманке, улица так называется…
— Аж в самой Москве?
— Ну да. Мама меняла вещи на еду, тем и кормились. Променяла шубу покойного отца, меховую шапку, несколько картин. Хлеб дорого стоил, а вещи совсем не ценились. Зашел однажды к нам спекулянт в золотых очках. Увидел отцовский концертный рояль и не отходит от него. Открыл клавиатуру, взял несколько аккордов и предложил полпуда муки. Мама не отдала. Ушел, но два раза возвращался торговаться.
— Рояль — это для музыки? — спросил Севка.
Клава улыбнулась:
— Это такой музыкальный инструмент. Большой, звучный и очень дорогой. Мой папа был концертмейстером оперного театра.
— Выходит, из буржуев?
— Сказал! — возразила Клава. — Буржуи — это у которых фабрики да магазины. А наш отец всю жизнь работал.
Из рассказа Клавы пахнуло на Севку какой-то чужой и незнакомой жизнью. И слов-то многих он не понял: «концертмейстер», «клавиатура», «аккорд». Но расспрашивать постеснялся.
— Как сестра-то потерялась?
— Сестра — это уже потом. Сперва потерялась наша мама. Прогнала она того спекулянта, а сама плачет. Позвала нас и говорит: «Вот что дочки: решила я поехать ближе к хлебу, туда, где он подешевле. Променяю кое-какие вещи и вернусь. Ведь ездят же люди». Уехала и не вернулась. Я как сейчас вижу ее: стоит на площадке вагона, стиснутая людьми, какими-то котомками, и кричит мне сквозь шум: «Клавдия, береги Зину, она еще глупая!» А я и не сберегла.
— Куда ж она делась, твоя Зина?
— Если б я знала! Ждали мы, ждали — не едет мама. Все променяли на хлеб: и самовар, и родительские обручальные кольца.
— А рояль?
— Рояль я все берегла. Мы любили с Зиной играть на нем по вечерам в четыре руки. Когда играешь, и горе забывается, и есть словно не так хочется. Но вот нечего уже стало менять. Тут и вспомнили про тетю Симу, которая раньше стирала у нас белье, квартиру убирала к праздникам. Прибежали — тетя Сима жива-здорова. Она-то и определила нас в приют. «Это пока, — сказала тетя Сима, — потом я тебя, Клавдия, на работу пристрою». В приюте оказалось и холодно, и голодно. Мальчишки озорничают — никакой закон им не писан. Пропадают где-то целыми неделями, меняют казенную одежду на табак, а то и воруют на рынках да в поездах. С такими мальчишками Зина и убежала. Она у нас озорная была, настоящая сорвиголова. Подхватила где-то скороговорку: «Шит колпак, перешит колпак, да не по-колпаковски». К делу и не к делу: «Шит колпак…» А я ей в ответ пословицу: «Слово — серебро, молчание — золото». Дескать, если нечего сказать, лучше помолчи. Но так и не отучила.
Вот оно как на деле! У всех свое горе. А Севка и не догадывался. Совсем другими глазами глянул он теперь на Клаву. Худенькая, печальная и вовсе еще девчонка. Без матери, без сестры осталась — одна во всем свете, как и он. И Севкино горе будто отступило, стало глуше. Захотелось чем-то утешить Клаву, сделать для нее что-то хорошее.
— Найдется твоя Зина, не бедуй! — сказал уверенно. — Хочешь, я тебе секретнейшую вещь покажу?
— Какую?
Севка — руку под подушку, развернул маленький сверточек, подал овчинный лоскуток.
— Читай! Тебе первой показал. Никому больше.
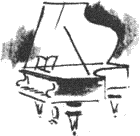 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |