"Весна" - читать интересную книгу автора (Василенко Иван Дмитриевич)
НА МЕНЯ НАЛАГАЮТ ЭПИТИМИЮ
— Ты почему не сказал мне, что у тебя появился голос?
Я стоял в коридоре училища и со страхом смотрел на Артема Павловича. Брови у него сошлись, оловянные глаза не моргая смотрели поверх очков прямо мне в лицо.
— Артем Павлович, у меня… всегда голос был… — пролепетал я.
— Врешь, голоса у тебя не было! Ни голоса, ни слуха!
— Что вы, Артем Павлович!.. Вы меня с кем-то спутали… Я никогда не был глухонемым… Я всегда слышал и говорил… Спросите кого хотите… Весь класс подтвердит…
— А, да я не об этом! Кто сейчас пел во дворе «Повiй, Вiтре, на Вкраiну»? Ты?
— Я…
— То-то вот!.. Сегодня же явись на спевку!
Артем Павлович был учителем не только математики, но и пения. Математику он, наверно, не любил: на уроках зевал, тетради проверял редко, на доску смотрел с отвращением. Зато на спевках он чуть не приплясывал. И вообще делался совсем другим человеком. Ученикам, которые с усердием посещали уроки пения, он даже по математике натягивал лучшую отметку. А я на пение ходить не хотел. Поэтому, когда он пробовал голоса и заставил меня под свою скрипку тянуть «до-ре-ми», я такое затянул, что он весь сморщился и сказал: «Петух!»
А сегодня, на большой перемене, я сидел с ребятами во дворе училища и рассказывал об одном босяке. Босяк этот любил петь украинскую песню «Повiй, Вiтре, на Вкраiну», и, когда пел, у него слезы лились из глаз. Ребята сказали: «А ну, спой! Интересно, что это за песня такая». И я, на свою беду, спел. Вот Артем Павлович и услышал.
После всех уроков я, волей-неволей, пошел в актовый зал, где по понедельникам бывали спевки. Артем Павлович тотчас же приказал мне спеть опять «Повiй, Вiтре, на Вкраiну». Стараясь подражать босяку, от которого слышал эту песню, я запел:
Я пел и сам удивлялся, как плавно, легко и звонко несся мой голос в этом большом зале. Мне и в самом деле стало казаться, что на свете есть кто-то, с кем меня разлучила злая судьба и по ком я день и ночь тоскую. Но ясно я этого существа не представлял. Мне только очень хотелось, чтобы каким-нибудь чудом мое пение услышала Дэзи и чтоб голова ее опускалась все ниже и ниже, как все ниже и ниже опускалась сейчас голова Артема Павловича. И я, горюя уже по-настоящему, пропел:
Артем Павлович поднял голову и опять посмотрел на меня. Его щетинистый подбородок вздрагивал.
— Да-да… — пробормотал он. — Да-да… Жизнь — корявая штука. — И вдруг рассердился — Ты притворялся, каналья! Ты просто меня обманул!.. Но теперь я тебя не выпущу! Не-ет, шалишь! Я из тебя солиста сделаю в моем хоре. Солиста! Пой!
Он сунул мне листок с нотами и заиграл на скрипке. Нот я не знал, но под скрипку запел правильно:
— Хорошо! — сказал Артем Павлович, и глаза его, всегда мутные, засветились. Он махнул рукой.
Мы пели и пели разные песни, печальные и веселые, пока Артем Павлович не спохватился:
— Что ж это! На носу конец учебного года! Не «Польку» ж нам петь на молебне. Ну-ка, «Богородицу».
Так с «Польки» хор перешел на молитвы. Нам уже давно хотелось есть, и церковные песнопения звучали теперь особенно уныло.
Неожиданно в зал вошли два священника — наш рыжий законоучитель отец Евстафий и другой, в черном клобуке, в черной монашеской рясе, с черной бородой и черными глазами — весь черный. Наш батюшка сказал:
— Это ученический хор, патер[1] Анастасэ. Вот послушайте, как умилительно поют дети и юноши церковные песнопения.
Черный наклонил голову. Оба священника приготовились слушать. Наверно, Артем Павлович подумал, что они пришли проверять, правильно ли нас обучают церковному пению; он хмыкнул, покривился и повернулся к ним спиной. Мы пропели еще одну молитву. Наш батюшка погладил рукой бороду и сказал:
— Душа исполняется священным восторгом. Чудно! Вот только «тя величаем» получилось без душевного подъема. Следовало бы протянуть. «Тя велича-а-аем!» — пропел он козлиным голосом.
— Оставьте, отец Евстафий! — еще более кривясь, сказал Артем Павлович. — Я не регент, а учитель пения. — И явно назло батюшкам приказал мне пропеть «Повiй, вiтре».
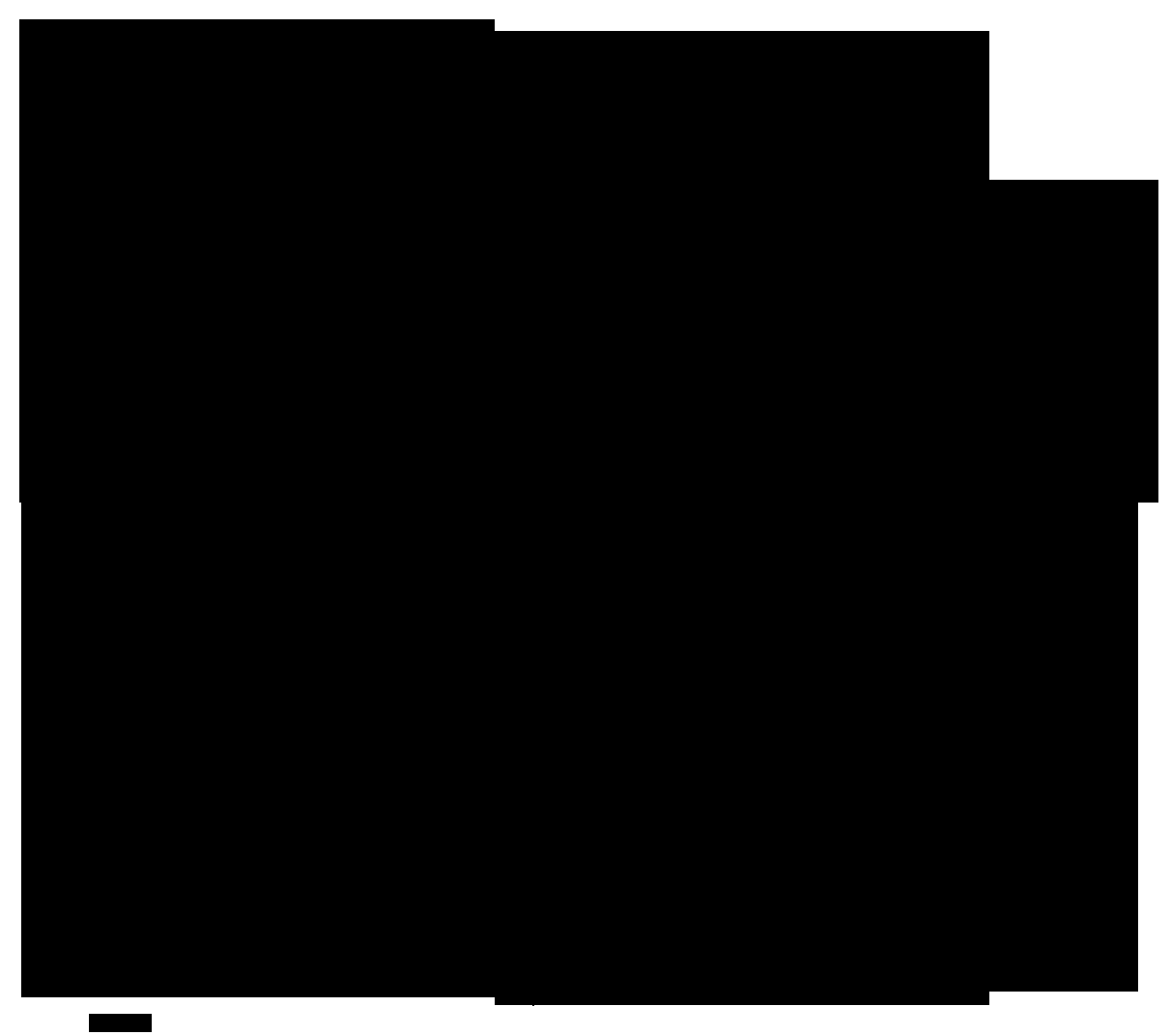 |
Наш батюшка сначала хмурился: ему, видно, не нравилось, что все перемешалось — и дивчина с карими очами, и отче наш, иже еси на небесах. Но, по мере того как я пел, лицо его прояснялось, а под конец песни он даже улыбнулся:
— Как, патер Анастаса, хорош голос у нашего отрока? Не правда ли, ангельский?
— Эма!.. Орео![2] — ответил черный и так покачал головой, будто в рот ему положили вкусную конфетку.
— Знаете, патер Анастасэ, мне пришла в голову одна мысль, — продолжал наш батюшка. — Дерзаю думать, сам господь внушил ее. Отойдемте-ка в сторонку, поговорим. Вы всегда были моим лучшим другом и мудрым советчиком.
Оба священника пошли к окну и стали шептаться.
— Связался рыжий с черным, — пробормотал Артем Павлович. Мальчишки захихикали. — Ну, вы! Цыц! — прикрикнул на нас учитель. — Споем опять «Богородицу».
Мы еще немного попели и отправились наконец по домам.
Вечером я сидел в чайной. Вдруг замечаю, что все босяки и нищие, которые тут были, сразу встали со своих мест. Что такое? Глянул в сторону двери, а там стоят оба батюшки. Не знаю почему, но у меня душа сжалась. Зачем они пришли сюда?
Батюшки направились к стойке, за которой сидел отец. При виде их он так удивился, что даже забыл пошаркать ногой, что делал всегда, когда к нам приходили важные особы.
— Здравствуйте, — медовым голосом сказал наш батюшка. — Не вы ли будете Мимоходенко?
— Так точно, — ошеломленно ответил отец. — Чем могу служить?
— Мы с патером Анастаса ходили по требам в Алчевский переулок. Решили заглянуть попутно и к вам. Желательно поговорить о вашем младшем сынке, об отроке Димитрии.
— К вашим услугам, — поклонился отец и шаркнул наконец ногой.
— Да, но келейно, келейно.
— В таком случае разрешите вас проводить в мое личное помещение. Вот сюда пожалуйте-с, вот сюда.
И отец повел священников через кухню в наши комнаты.
Услышав, что батюшки будут говорить с отцом обо мне, я еще больше встревожился.
Босяки опять сели и задымили махоркой. Тряпичник Подберионуча сказал:
— Этот вот рыжий, что из церкви Михаила архангела, ох и скупердяй! Намедни зашел я до него во двор. «Батюшка, говорю, нет ли какой тряпицы негодной али там бутылок пустопорожних? Пожертвуйте бедному человеку». Вынес он мне портки дырявые и говорит: «Вот бери, плати полтину». — «Что вы, говорю, батюшка! Да за них мне самому и гривенника не дадут. Пятак им красная цена». Стали мы торговаться: он копейку скинет я копейку накину. Торгуется и все словом божьим припечатывает: «Не собирай себе сокровищ на земле, а собирай их на небе». Терпел я, терпел, потом и сказал: «Мои сокровища всему городу ведомы, они вроде вот этих ваших портков: дырка на дырке сидит и дыркой погоняет. А вот вы, батюшка, уже два дома построили и на третий кирпич завозите. Неужто норовите в рай с тремя домами въехать?» Ох и озлился ж он! «Вон, кричит, со двора! Я думал, ты православный, а ты, наверно, татарин. Чтоб духу твоего мусульманского тут не было!» Так мы и не сторговались.
Босяки слушали и смеялись. Один из них спросил:
— А черный — это кто же будет?
— Черный — это из греческой церкви царя Константина. Он монах не простой, он поп. По-ихнему, по-греческому, перевс[3] называется. Только так его здесь мало кто величает: больше все патером зовут, как и попа католического, хоть это и неправильно. Служит в церкви, а живет в монастыре, что в Куркумелиевском переулке. Они, монахи эти, все там черные. Уж такая у них масть.
Действительно, в Куркумелиевском переулке стояло двухэтажное длинное здание с окнами, забранными железными решетками. Мимо я проходил всегда с жутким чувством, особенно если к решетке, бывало, прильнет бледное лицо монаха с черной бородой и черными неподвижными глазами.
— Не житье там, а малина, — продолжал рассказывать тряпичник. — Кто видел хоть одного из ихнего брата, чтоб он худой был? Все откормлены, как гуси к рождеству. Им мало того, что русская земля родит, им подавай еще разные маслины да апельсины. Каждую субботу пароход привозит подарочки из греческого государства.
— Вот бы и тебе там якорь бросить, в монастыре том, — посоветовали слушатели тряпичнику.
— Во-первых, я не грек, а чистокровный русский, во-вторых, я не зверь какой, чтоб за решеткой сидеть, а главное, мне не по нраву такая жизнь — самому не есть и другому не давать.
— А говорил, все откормленные, — заметили тряпичнику.
— Э, милок, я не про то. Я люблю на княжескую ногу жить, чтоб, значит, на тройке кататься, в ресторациях шампаньское хлопать, чтобы меня цыганский хор величал, а они сидят на несметных богатствах и не вылазят из своих келий. Только и радости, что через решетку на людей поглазеть. Нет, братики, такая жизнь не по мне. Доведись в тот монастырь проникнуть, я бы живо те сокровища вынюхал и в Петербург с ними укатил, а то и в Париж, к тамошним французихам. Только они, монахи эти, никого до себя не допущают. Всё там за решетками да на пудовых замках. Пойди перегрызи те решетки — без зубов останешься.
— Неужто там и вправду сокровища есть? — спросил нищий-старик.
— Ого! А ты не слыхал? Там столько золота да камней драгоценных, что все на свете трактиры купить можно. Но, я так думаю, монахи и сами не знают, где оно, в какой стене замуровано, сокровище это. А я бы нашел! Ей-богу, нашел! Взял бы молоточек — и давай им выстукивать все стены. Где гулким отзовется, там оно, значит, и лежит. Один знакомый печник, которого в монастырь позвали печки перекладывать, говорил мне, что совсем было уже нашел место это, да монахи догадались, за каким зверем он охотится, и выбросили его со всем печным инструментом на улицу.
— Кто же его упрятал там, сокровище это? Не разбойник же? — спросил нищий. — Разбойники — те награбленное добро под курганами прячут.
— А вот как раз и разбойник. Куркумели его фамилия. Аль не слыхал? Самый настоящий разбойник. По его фамилии и переулок теперь так зовется: Куркумелиевский. Было это лет сто тридцать назад, еще Екатерина сидела на престоле. В ту пору плавал по разным морям на своем разбойничьем корабле морской пират грек Куркумели. Что людей загубил — и сосчитать невозможно. Случись тут русско-турецкая война. Известно, какая промежду греками и турками была любовь: так и ловчились, чтоб голову срубить один у другого. Подплыл Куркумели к русскому флоту и говорит графу Орлову: так, мол, и так, желаю со всей своей командой на вашей стороне с турками драться. Ежели угодно, могу даже указать, где он прячется, турецкий флот. В Чесменской гавани прячется, вот где. Проверил Орлов — правильно, в Чесменской и есть. Ну и давай его топить. Узнала про то Екатерина и пожаловала разбойника Куркумели званием почетного гражданина Российской империи. В придачу земель она ему надавала множество и всяких рыбных промыслов в Астраханском крае. Разбойнику и своего награбленного добра девать было некуда, а тут еще несметное богатство подвалило. И что ни день, то богаче и богаче делался он. Но чем время ближе к смерти, тем страшней ему становилось: как-то дело обернется на том свете, не придется ли раскаленную сковородку языком лизать? И вот задумал он откупиться от грехов. Понастроил богу часовенок да кампличек разных от Астрахани до самого Саратова. А в нашем городе, куда он переехал на постоянное жительство, даже выстроил агромадную церковь на греческий манер и монастырь на двадцать монашеских персон греческой нации. Однако все на бога не истратил, а на всякий случай оставил себе пуда два золота да целую кубышку драгоценных камней. Замуровал в монастыре в стенку, а куда именно, по старческому слабоумию и сам забыл. Так и помер, не отыскав своего богатства. А чтоб монахи не вздумали растаскать золото и камни и загубить свои души в разврате жизни, он на сокровище запрет наложил: кто, мол, тронет, того собственной рукой отведет на том свете к диаволу на расправу. Вот монахи и сидят на богатстве, как собака на сене: и сами не пользуются, и другим не дают.
Что еще тряпичник рассказывал, я не знаю: прибежал Витька и сказал, что отец меня зовет.
— Ага, набедокурил! Вот тебе будет теперь! «Значит, дознались, кто цесаревича вымазал в зеленое», — мелькнуло у меня в голове.
Порог в нашу комнату я перешагнул ни жив ни мертв. Оба батюшки сидели у стола, покрытого по-праздничному новой скатертью. Перед ними стояли тарелка с остатками голландского сыра и пустые уже рюмки. Отец строго сказал:
— Целуй у батюшек руки.
Я покорно поцеловал сначала руку белую с золотистыми пучочками волос на пальцах, потом смуглую с черными пучочками.
— Проси у батюшек прощения, — приказал отец. — Знаешь за что?
— Знаю, — тихонько сказал я.
— Вот, батюшки, я же говорил, что он мальчик, в общем, хороший и всегда признает свою вину. Ну, скажи Митя, в чем ты виноват, покайся батюшкам.
— В том, что вымазал… в зеленое… — выдавил я из себя.
— Что-что? — удивился отец. — Какая чушь! При чем тут зеленое! В том, что на уроках закона божьего задаешь батюшке глупые вопросы и будоражишь весь класс. Понял? Вот и покайся батюшкам. Скажи: простите, батюшки, я больше не буду.
Но у меня будто язык прилип к гортани. Во-первых, почему я должен каяться не только перед нашим батюшкой, но и перед чужим? Во-вторых, я глупых вопросов не задавал. И, в-третьих, что ж это получается? У нас общество трезвости, а батюшки в один присест выдули целый графин водки.
— Что же ты молчишь? — с досадой спросил отец.
— Я думаю, — ответил я. Наш батюшка развел руками:
— Слышали, патер Анастасэ? Он думает. Как вам это нравится?
— Ца-ца-ца-ца!.. — укоризненно покачал черный своим клобуком.
Не знаю, откуда у меня взялась смелость, только я сказал:
— В «Ветхом завете» написано, что от сотворения мира до рождения Христа прошло пять тысяч пятьсот восемь лет. И батюшка нам это говорил. Я подсчитал, и выходит, что бог сотворил мир семь тысяч четыреста тринадцать лет назад. А наш Алексей Васильевич объяснял на уроках географии, что Земле уже много миллионов лет. Кому же верить?
Отец растерянно моргнул и уставился на батюшек. Те взглянули друг на друга, и каждый укоризненно покачал головой. Не дождавшись от них ответа, отец сказал:
— Обоим надо верить, обоим! На то они и учителя. Понял?
Я не понимал, как это можно верить обоим, если они говорят невпопад, но покорно ответил-
— Понял.
— Батюшка наложил на тебя эпитимию, — продолжал отец. — Ты знаешь, что такое эпитимия? Эпитимия — это церковное наказание. Ты утром и вечером будешь класть перед иконой по двадцати поклонов и читать покаянную молитву, а в воскресенье придешь к батюшке в церковь и пропоешь перед всеми молящимися «Символ веры». — Боясь, наверно, что я задам еще какой-нибудь вопрос, отец поспешно приказал: — Теперь иди.
— Подождите, господин Мимоходенко, — встрепенулся наш батюшка, — вы же не сказали самого главного: он должен до воскресенья приходить каждый день после уроков к нашему регенту на спевку.
— Да-да, — подтвердил отец, — будешь каждый день после уроков приходить в церковь к регенту на спевку.
Вечером, когда я уже хотел юркнуть в постель, отец велел мне стать на колени перед иконой, делать земные поклоны и повторять за ним слова покаянной молитвы. Он раскрыл молитвенник и, запинаясь, начал читать:
— «Множество содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного; но надеясь на милость благоутробия твоего…» Да тут язык поломаешь, — сказал он и отодвинул молитвенник. — Не покаянная, а прямо-таки окаянная молитва. И без покаяния обойдемся. Было бы в чем каяться, а то напутают сами, а ребенок отвечай.
— Да вот же, — сказала и мама. — Где это видано, чтобы на ребенка эпитимию налагали? Подумаешь, грешника нашли! Лучше бы за собой смотрели. Черти патлатые!..
Мама моя попов не любила. Она была донской казачкой и часто пела:
— Я им поставил графинчик для приличия, а они весь вылакали, — пожаловался отец и тут же рассказал, как за столом на чьих-то именинах спросили у дьяка: «Отец дьякон, вам что налить — водочки или винца?» — а дьякон ответил: «И пива».
Этот анекдот отец рассказывал часто и, рассказав, сам же смеялся. Так, под смех, я и заснул, довольный, что все обошлось благополучно.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |