"Отцы и дети" - читать интересную книгу автора (Хемингуэй Эрнест Миллер)
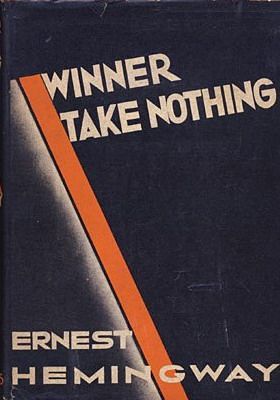 |
Эрнест Хемингуэй Отцы и дети
Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно, был и уже закончился какой-то ремонт, поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неуплату взносов, — и, дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах, — и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгаре осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан, город для ночевки намечен, и Ник смотрел, где на маисовом поле посеяна соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.
На охоте, когда собаки учуют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, не то перепела вспорхнут все разом, одни прямо вверх, другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными, — остается только обернуться и целиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему, — всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.
Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение, — и отец говорит ему:
— Подняли флаг. — Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем. — Видишь, — говорил отец, — вон там наша Дороти. Она подняла флаг, а сейчас идет к пристани.
Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани, только белый песок и изогнутую линию берега.
— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?
— Вижу.
Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.
— Я могу их сосчитать, — говорил отец.
Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того, он был сентиментален, и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.
Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас перепелиная охота заставила его вспомнить отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.
Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все что нужно дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.
Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие оставались еще в живых. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до долгов включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие исправления сомнительного художественного достоинства. Лицо сформировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.
Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале она шла по хвойному лесу позади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Через ручей лежало бревно, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезать через изгородь, а дальше твердая, высохшая на солнце дорога вела через скошенный луг с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.
Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали огромные и желтые там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойне-Сити нужна была только кора: зимой ее волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.
Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:
— Ты опять хочешь Труди?
— Труди, а ты хочешь?
— Угу.
— Идем туда.
— Нет, здесь.
— А как же Билли?..
— Ну, так что ж. Билли мой брат.
После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала, — когда она зацокает, то распушит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одноствольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволом.
— Не шевелится, дрянь этакая, — сказал Билли.
— Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгнет. И ты опять стреляй, — сказала Труди. Для нее это была длинная речь.
— У меня только два патрона, — сказал Ник.
— Дрянь этакая, — сказал Билли.
Они сидели, прислонившись к дереву, и молчали. Нику было легко и радостно.
— Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Дороти.
— Что-о?
— Он так сказал.
Труди кивнула.
— Он только того и ждет, — сказала она.
Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.
— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Дороти, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди.
— Вот так. Вот как я его убью.
— Тогда лучше ему не ходить, — сказала Труди.
— Пусть лучше глядит в оба, — сказал Билли.
— Он хвастает, — говорила Труди, — только ты его не убивай. А то попадешь в беду.
— Вот так и убью, — сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его размозжило выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу.
— Я сниму с него скальп, — сказал он с торжеством.
— Нет, — сказала Труди, — это нехорошо.
— Сниму скальп и пошлю его матери.
— Его мать умерла, — сказала Труди. — Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.
— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.
Билли не на шутку встревожился.
— Пусть глядит в оба, — сказал он угрюмо.
— Собаки его в клочки разорвут, — сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, но споткнулся и упал, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:
— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!
— Что с тобой?
— Не убивай его!
— Я должен его убить.
— Он просто хвастун.
— Ладно, — сказал Ник. — Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.
— Вот и ладно, — сказала Труди. — Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.
— Пускай Билли уйдет.
Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.
— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.
— Черти, — сказал Билли. — Надоело мне это. Мы зачем пришли? Охотиться или нет?
— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.
— Ладно. Уж я достану ту черную.
— Я тебя тогда позову, — сказал Ник.
Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.
— Как, по-твоему, будет у нас ребенок?
Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику.
Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.
— Не думаю, — сказал он.
— Будет, ей-богу, будет.
Они услышали, как выстрелил Билли.
— Интересно, убил или нет.
— Наплевать, не ходи, — сказала Труди.
Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.
— Смотри! — сказал он. — Большая, больше кошки.
— Где ты ее убил?
— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.
— Пора домой, — сказал Ник.
— Нет еще, — сказала Труди.
— Мне нужно вернуться к ужину.
— Ну что ж. Ладно.
— Пойдешь на охоту завтра?
— Ладно.
— Белку можешь взять себе.
— Ладно.
— Выйдешь после ужина?
— Нет, не выйду.
— Тебе хорошо?
— Хорошо.
— Ну, вот и ладно.
— Поцелуй меня, — сказала Труди.
Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темнота надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток; или вспоминая о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.
В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец заставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.
После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, который читал на крыльце газету, и думал: "Я могу выстрелить в него. Разнесет в клочья". В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.
— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.
— Не знаю, право, как тебе рассказать.
Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия, а мальчик не спал. "Когда же он проснулся?" — подумал Ник.
— Мы по целым дням охотились на черных белок, — сказал он. — Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.
— Странные имена для индейцев.
— Да, пожалуй, — согласился Ник.
— Расскажи, какие они были.
— Они были оджибуэи, — сказал Ник. — Очень славные.
— А хорошо было с ними?
— Как тебе сказать… — ответил Ник Адамс.
Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, некончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежевыделанной куньей шкурки. Никакие анекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изменить не могут. Не может изменить и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Неважно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.
И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.
— Тебе они, может, и не понравились бы, — сказал Ник сыну, — впрочем, нет, они славные.
— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?
— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.
— А я буду жить с ними?
— Не знаю, — сказал Ник. — Зависит от тебя.
— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?
— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.
— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.
— Будет и двенадцать. Все в свое время.
— А какой был дедушка? Я его не помню, помню только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?
— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.
— Он был лучше, чем ты?
— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.
— Ну уж, верно, не лучше тебя.
— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.
— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?
— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.
— Во Франции это было бы неважно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.
— Как-нибудь поедем.
— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.
— Придется об этом позаботиться.
— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!
— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции, — сказал Ник.
— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Может, хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.
— Неплохо придумано.
— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.
— Ты очень трезво рассуждаешь.
— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.
— Придется побывать, — сказал Ник. — Вижу, что придется.
(support [a t] reallib.org)