"Клодина замужем" - читать интересную книгу автора (Колетт Сидони-Габриель)
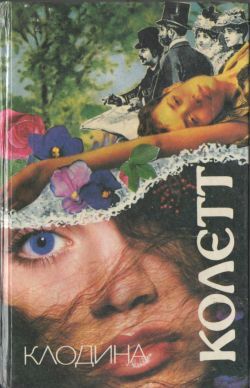 |
Сидони-Габриель Колетт Клодина замужем
Что-то в нашей семейной жизни не заладилось. Рено об этом ещё не подозревает, да и как он может догадываться?.. Вот уже полтора месяца как мы дома. Позади праздные шатания и суетные переезды с места на место; больше года мы мотались с улицы Бассано в Монтиньи, из Монтиньи – в Бейрут, из Бейрута – в неизвестную баденскую деревушку (я вначале решила – то-то Рено веселится! – что она называется Фореллен-Фишерай; и всё из-за огромного плаката на берегу реки, гласящего, что можно ловить форель: «Forellen Fischerei», – а ещё из-за того, что я не понимаю по-немецки).
Прошлой зимой я увидела Средиземное море; я повисла у Рено на рукаве и смотрела исподлобья, как неласковый ветер вздыбливает волны, освещённые холодным солнцем. Слишком много зонтиков, шляпок, знакомых и незнакомых лиц – вот что окончательно испортило мне настроение в тот неудачный день: некуда было спрятаться от назойливых друзей Рено, от их родственников, которых он снабжает контрамарками, от дам, у которых он бывал на обедах. Этот ужасный человек любезничает со всеми напропалую, но особенно старается перед малознакомыми людьми. И ему ещё хватает наглости объяснять, что перед настоящими друзьями не стоит разбиваться в лепёшку: в их любви он и так может быть уверен…
Я со всей непритязательностью и тревожной мнительностью никогда не могла понять прелести этих зимних сезонов на Лазурном берегу, когда цепенеешь от холода в кружевном платье, кутаясь в соболью накидку.
И потом, мы с Рено замкнулись друг на друге – я стала взвинченной, меня раздражали любые мелочи. Постоянное напряжение, ощущение зависимости – и тягостное и сладостное, – полное физическое изнеможение выбили меня из колеи. Я запросила пощады, передышки, остановки. И вот мы вернулись! Чего же мне ещё? Чего не хватает?
Попытаемся привести в порядок смешавшиеся воспоминания, ещё совсем близкие и вместе с тем уже столь далёкие…
День свадьбы я вспоминаю теперь как дурацкую комедию. Все три недели после помолвки, предшествовавшие свадьбе, Рено часто бывал у меня, и я всё время чувствовала на себе его настойчивый взгляд, меня приводил в смущение любой его жест (хотя мой обожаемый Рено держал себя вполне корректно), а от одного воспоминания о его губах, всё время ищущих моего тела, меня бросало в тот четверг в дрожь. Я не могла себе объяснить его сдержанности в те дни! Я была готова пожертвовать ради него всем, чего он ни пожелай, и он отлично это чувствовал. Однако он загнал наши отношения в изнурительные рамки приличий и оберегал их с видом знатока, понимающего толк в собственных (да и моих тоже?) грядущих удовольствиях. Распалившаяся Клодина нередко бросала на него раздражённый взгляд после поцелуя, слишком короткого и обрывавшегося прежде, чем… преступалась грань дозволенного моралью («Да какая, в сущности, разница: сейчас или через неделю? Вы зря меня изводите, я так устала ждать!..»). Он же, не щадя нас обоих, так и не тронул меня до свадьбы, этого торопливого «сочетания браком».
Я не на шутку разозлилась от того, что непременно должна оповестить господина мэра, а также господина кюре о своём решении жить с Рено, и потому наотрез отказалась помогать в подготовке к свадьбе и отцу, и кому бы то ни было ещё. Рено вооружился терпением, отец же проявлял никому не нужное самоотречение, шумное и показное. Только Мели обрадовалась, что явилась свидетельницей счастливого финала любовной истории: она мечтательно мурлыкала, притулившись над сточным желобом невесёлого дворика. Фаншетта в сопровождении ещё нетвёрдо державшегося на ногах Лимасона, «ещё более прекрасного, чем сын египетского божества Птаха», обнюхивала содержимое картонных коробок, новые тряпки, длинные перчатки, вызвавшие у неё неподдельное отвращение, и стала молотить лапками по моей белой кружевной вуали.
Этот продолговатый рубин в форме сливы, который висит у меня на шее на тонкой золотой цепочке, Рено принёс мне за день до свадьбы. Я помню, отлично помню! Меня соблазнил его цвет розового вина; я поднесла его к глазам и стала рассматривать на свет, а другой рукой опёрлась на плечо стоявшего на коленях Рено. Он рассмеялся:
– Клодина! У тебя глаза косят, как у Фаншетты, когда она следит за полётом мухи.
Не слушая, я сунула рубин в рот, «потому что он, наверное, тает как леденец и пахнет малиной»! Рено сбило с толку это новое и весьма своеобразное восприятие драгоценных камней, и на следующий день он принес конфеты. По правде говоря, я им обрадовалась не меньше, чем рубину.
В то великое утро я проснулась раздражённой и сразу стала брюзжать, на чём свет стоит кроя мэрию и церковь, неподъёмное платье со шлейфом, слишком горячий шоколад и Мели в фиолетовом кашемировом платье с семи часов утра («Эх, Франция, тебе ещё предстоит это оценить!»), всех тех, кто должен был прийти: Можи и Робера Парвилия – свидетелей Рено, тётю Кер в кружевах. Марселя, которому отец всё спускал – нарочно, чтобы его подразнить и высмеять, как мне кажется, – и моих собственных свидетелей: одного малаколога, то есть специалиста по моллюскам, весьма заслуженного, но не очень чистоплотного – его имя до сих пор для меня тайна, – и господина Мариа! Мой безмятежно-рассеянный отец считал, что в таком самопожертвовании влюблённого в меня мученика ничего необычного нет.
И вот Клодина, завершившая сборы раньше назначенного часа, немного желтоватая в своём белоснежном платье и вуали, то и дело сползающей с непослушных коротко стриженных волос, сидит перед корзиной с Фаншеттой, к которой жмётся её полосатый Лимасон, и думает: «Да не хочу я замуж! Переехал бы он ко мне, мы бы вдвоём ужинали, запирались в спальне, где я столько раз засыпала с мечтой о нём, где думала о нём, лежа без сна, и… Впрочем, моя девичья кровать будет, пожалуй, узковата…»
Приход Рено, едва заметная порывистость его жестов уверенности мне не прибавили. Однако пора по просьбе сходившего с ума господина Мариа заехать за отцом. Мой благородный отец, достойный себя самого и исключительных обстоятельств, просто-напросто забыл, что я выхожу замуж: его застали в шлафроке (и это в двенадцать без десяти минут!). Он с важным видом курил трубку и встретил господина Мариа памятными словами:
– Входите, входите, Мариа, вы чертовски опоздали, а ведь у нас именно сегодня такая трудная глава… Что это вы вырядились во фрак? Вы похожи на официанта!
– Сударь… Сударь… Видите ли… Свадьба мадемуазель Клодины… Все вас ждут…
– Чёрт побери! – выругался отец и посмотрел на часы, вместо того чтобы заглянуть в календарь. – Вы уверены, что именно сегодня?.. Отправляйтесь вперёд, пусть начинают без меня…
Робер Парвиль оторопел, словно потерявшийся пудель, потому что не видел впереди себя юную Лизери; Можи надулся от важности; господин Мариа поражал бледностью, тётя Кер жеманничала, а Марсель напустил на себя чопорный вид; всех вместе получилось не так уж много, верно? Мне же показалось, что в небольшую квартирку набилось человек пятьдесят, не меньше! Отгороженная ото всех вуалью, я переживала тоскливое одиночество и чувствовала, как у меня сдают нервы…
Потом мне стало казаться, что всё это – путаный сбивчивый сон, когда чувствуешь, что связан по рукам и ногам и ничего не можешь поделать. Вот розовато-лиловый луч упал на мои белые перчатки сквозь витраж церкви; а теперь я будто слышу свой нервный смешок в ризнице: это всё папа виноват – порывался дважды расписаться на одной и той же странице, «потому что росчерк получился слишком бледный». Я задыхаюсь от ощущения нереальности происходящего; даже Рено вдруг отдалился и словно стал бесплотным…
Когда мы вернулись домой, Рено не на шутку встревожился, с нежностью глядя на моё вытянутое печальное лицо. Он спросил, в чём дело, – я покачала головой: «Не чувствую себя замужем больше, чем нынче утром. А вы?» У него дрогнули усы, а я пожала плечами и покраснела.
Я хотела поскорее сбросить это нелепое платье, и меня оставили одну. Моя любимая Фаншетта окончательно меня признала, лишь когда я влезла в блузку из розового батиста – линона – и в белую саржевую юбку. «Фаншетта! Неужели мы тобой расстанемся? В первый раз… А ведь придётся. Не таскать же тебя с собой по железным дорогам со всем твоим семейством!» Хочется плакать, чувствую необъяснимую неловкость, что-то давит в груди. Пусть придёт мой любимый и его любовь поможет мне избавиться от этой глупой боязни, которую не назовёшь ни страхом, ни стыдливостью… Как поздно темнеет в июле, как это яркое солнце мучительно давит мне на виски!
С наступлением ночи мой муж – муж! – увёз меня прочь. Шуршание резиновых шин не могло заглушить стук моего сердца, и я так плотно сцепила зубы, что даже ему не удалось их разжать в поцелуе.
Квартиру на улице Бассано я рассмотрела с трудом: она была едва освещена лампами, расставленными на столах, и походила скорее на гравюру XVIII века. Я была допущена в неё впервые. В поисках спасительного забытья я поглубже вдохнула аромат светлого табака, ландыша и русской кожи, которым пропитаны одежда Рено и его длинные усы.
Мне кажется, я ещё там, я вижу себя в той квартире, снова и снова переживаю те минуты.
Что, неужели теперь?.. Что делать? В голове промелькнуло воспоминание о Люс. Я бездумно снимаю шляпу. Беру за руку того, которого люблю; в надежде обрести уверенность в себе смотрю на него. Он наугад снимает шляпу, перчатки, отступает назад с каким-то нервным вздохом. Мне нравятся его тёмные глаза, крючковатый нос, поредевшие волосы, лежащие в художественном беспорядке. Я подхожу к нему поближе, но он, злодей, уклоняется, уходит в сторону и любуется мной, а я тем временем чувствую, что окончательно растеряла всю свою смелость. Умоляюще складываю руки:
– Прошу вас, поторопитесь!
(Увы, я не подозревала, что это слово так глупо звучит.)
Он садится:
– Иди ко мне, Клодина.
Я у него на коленях; он слышит моё учащённое дыхание и смягчается:
– Ты моя?
– Уже давно, вы же знаете.
– Тебе не страшно?
– Нет. Мне всё известно.
Он кладёт мою голову к себе на колени, склоняется надо мной, целует.
– Что «всё»?
Я не сопротивляюсь. Хочется плакать. Так мне, во всяком случае, кажется.
– Тебе всё известно, девочка моя дорогая, и ты не боишься?
Я кричу:
– Нет!..
И всё-таки в отчаянии висну у него на шее. Одной рукой он уже нащупывает пуговицы моей блузки. Я вскидываюсь:
– Нет! Я сама!
Почему? Кто ж знает?.. Последний отчаянный порыв Клодины. Будь я совершенно голая, я бы шагнула прямо к нему в объятья, однако не могу допустить, чтобы он меня раздевал.
В спешке я неловко срываю с себя одежду и как попало швыряю её на пол, сбрасываю туфли так, что они подлетают вверх, подбираю нижнюю юбку, зажав её пальцами ноги, потом стаскиваю корсет – всё это я проделываю, не глядя на сидящего передо мной Рено. Теперь на мне только нижняя сорочка, я задорно говорю: «Пожалуйста!» и привычно почёсываю следы, оставшиеся на талии от корсета.
Рено не дрогнул. Только вытянул шею, схватившись за подлокотник, и смотрит на меня. Мужественная Клодина, охваченная паникой под его взглядом, со всех ног кидается прочь и падает на кровать… неразобранную кровать!
Он меня настигает и сжимает в объятьях. Он так напряжён, что я слышу, как звенят его мускулы. Не раздеваясь, целует меня, подхватывая на руки, – ну чего он ждёт? – его губы, руки удерживают меня на постели, однако он ни разу не прижал меня к себе, несмотря на мою рабскую покорность и смирение, несмотря на сластолюбивое постанывание, которое я хотела бы, но не в силах сдержать даже из гордости. Потом, только потом он сбрасывает с себя одежду, безжалостно смеётся, и его смех задевает растерянную и униженную Клодину. Но он ни о чём не просит и хочет только одного: ласкать меня и делает это до тех пор, пока я не засыпаю на рассвете на всё ещё неразобранной постели.
Позднее я была ему благодарна, я была очень ему признательна за такое полное самоотречение, за его стоическое терпение. И он был вознаграждён: ему удалось меня приручить, я с любопытством, с жадностью следила за тем, как умирает его взгляд, когда он, судорожно вцепившись в меня, смотрел в мои угасающие глаза. У меня, кстати сказать, долго не проходил (признаться, я отчасти испытываю его ещё и теперь) ужас перед… как бы это выразить? перед тем, что принято называть «супружеским долгом». Всемогущий Рено вызывает у меня ассоциации с этой дылдой Анаис, у которой были свои причуды – она неизменно пыталась натянуть на свои ручищи слишком маленькие перчатки. А в остальном всё хорошо, даже слишком хорошо. Приятно постепенно узнавать о стольких радостях жизни, которые заставляют тебя нервно посмеиваться, даже вскрикивать и издавать глухое рычание, когда от удовольствия сводит большие пальцы на ногах.
Единственная ласка, в которой я до сих пор отказываю мужу, – называть его на «ты». Я всегда, в любое время говорю ему «вы»: когда умоляю и когда соглашаюсь, даже когда сладкая истома ожидания заставляет меня говорить отрывисто, не своим голосом. Впрочем, сказать ему «вы» – не в этом ли и состоит редчайшая ласка, на которую способна лишь грубоватая и непочтительная Клодина?
Он красив, ах как он хорош собой! У него смуглая гладкая кожа, так что он вот-вот выскользнет из моих объятий. Его мужественные плечи по-женски округлы, и я с удовольствием и подолгу прижимаюсь к ним головой ночью и по утрам.
Я люблю его волосы цвета воронова крыла, узкие колени и медленно вздымающуюся грудь, отмеченную двумя родинками, – всё его большое тело, где меня поджидает столько увлекательнейших открытий! Я нередко говорю ему вполне искренно: «До чего вы красивы!» Он прижимает меня к себе: «Клодина, Клодина! Я же старый!» Его глаза темнеют – так велико раздирающее его сожаление, а я смотрю на него и ничего не понимаю.
– Ах, Клодина, если бы я тебя встретил на десять лет раньше!
– Вам бы пришлось предстать перед судом присяжных! И потом, вы были тогда юнцом, нахальным сердцеедом, сводящим женщин с ума; а я…
– А ты тогда не познакомилась бы с Люс…
– Думаете, я по ней скучаю?
– В эту минуту – нет… Не закрывай глаза, умоляю! Я тебе запрещаю!.. Они – мои, особенно когда ты поводишь ими из стороны в сторону…
– Да я вся – ваша!
Неужели вся! Нет! В этом-то и загвоздка.
Я гнала от себя эту мысль как можно дальше. Я страстно мечтала о том, чтобы Рено подчинил меня своей воле, чтобы его упорство согнуло мою непокорность в бараний рог, наконец, чтобы он уподобился собственному взгляду, привыкшему повелевать и соблазнять. Воля, упорство Рено!.. Да он гибче пламени, такой же, как оно, обжигающий и лёгкий; он окутывает меня, но не подавляет. Увы! Клодина, неужто тебе суждено навеки остаться самой себе головой?
Однако он научился повелевать моим стройным загорелым телом, кожей, обтягивающей мои мускулы и весьма упругой, девичьей головкой, стриженной под мальчика… Почему же непременно должны обманывать его властные глаза, упрямый нос, симпатичный подбородок, который он бреет и выставляет напоказ с женским кокетством?
Я нежна с ним и притворяюсь маленькой девочкой, послушно подставляю голову для поцелуя, ничего не прошу и избегаю споров из опасения (до чего я мудра!), что увижу, как он сдаётся без боя и тянет ко мне ласковые губы, в любую минуту готовые сказать «да»… Увы! Где ему нет равных, так это только в ласках.
(Готова признать, что и это уже кое-что.)
Я рассказала ему о Люс и обо всём-всём-всём, втайне почти мечтая, что он поморщится, разволнуется, обрушит на меня лавину вопросов… Но нет! Даже наоборот. Да, он завалил меня вопросами, отнюдь не гневными. Я резко его оборвала, потому что он мне напомнил своего сына Марселя (этот мальчик тоже изводил меня когда-то расспросами), но уж конечно не от недоверия: если я обрела в Рено не повелителя, то уж друга и союзника – несомненно.
На все это сентиментальное сюсюканье папа ответил бы со свойственным ему презрением к психологической мешанине своей дочери, которая придирается к мелочам, копается в них и ломает из себя сложную личность:
– От горшка два вершка, а туда же – рассуждает!..
Мой отец достоин восхищения! Со времени своего замужества я нечасто вспоминала и его, и Фаншетту. Но ведь Рено в течении многих месяцев слишком много меня любил, выгуливал, закармливал пейзажами, утомлял путешествиями, невиданными небесами и неведомыми странами… Плохо зная свою Клодину, он нередко удивлялся, видя, что я мечтательно замираю перед живым пейзажем, а не перед картиной, радуюсь больше деревьям, чем музеям, готовая умилиться ручью, нежели драгоценностям. Ему предстояло многому меня научить, и я в самом деле узнала немало нового.
Сладострастие открылось мне как ошеломляющее и даже мрачноватое чудо. Когда Рено, застав меня серьёзной и сосредоточенной, начинал заботливо расспрашивать, я краснела и, опустив глаза долу, смущённо отвечала: «Не могу вам сказать…» И мне приходилось объясняться без слов с этим грозным собеседником, который тешится, наблюдая за мной исподтишка, и с наслаждением следит за тем, как стыдливый румянец заливает моё лицо…
Можно подумать, что для него – и я чувствую, что в этом мы расходимся – сладострастие состоит из желания, извращённости, живого любопытства, развратной настойчивости. Для него удовольствие – это радость, милость, лёгкость, тогда как меня оно повергает в ужас, в необъяснимое отчаяние, которого я ищу и страшусь. Когда Рено уже улыбается, отдуваясь и выпустив меня из объятий, я ещё закрываю руками– хотя он пытается их отвести– полные ужаса глаза и перекошенный в немом восторге рот. Лишь спустя несколько минут я прижимаюсь к его надёжному плечу и пожалуюсь своему другу на любовника, только что причинившего мне неизъяснимо сладкую боль.
Порой я пытаюсь себя убедить: может быть, любовь мне пока в диковинку, тогда как для Рено она уже утеряла свою горечь? Сомневаюсь… На этот счёт наши взгляды никогда не совпадут, если не считать связавшей нас величайшей нежности…
Как-то вечером, в ресторане он улыбался одинокой даме, стройной брюнетке, с удовольствием дарившей его взглядом своих прекрасных подкрашенных глаз.
– Вы её знаете?
– Кого? Эту даму? Нет, дорогая. А у неё неплохая фигура, ты не находишь?
– Только поэтому вы не сводите с неё глаз?
– Разумеется, девочка моя. Надеюсь, это тебя не шокирует?
– Да нет… Просто не нравится, что она вам улыбается.
– Ах, Клодина! – просительно наклоняет он ко мне смуглое лицо. – Дай мне потешить себя надеждой, что кто-то ещё без отвращения может взирать на твоего старого мужа. Ему так необходимо хоть чуть-чуть верить в себя! В тот день, когда женщины вовсе перестанут обращать на меня внимание, – прибавляет он, покачивая шапкой лёгких волос, – мне останется лишь…
– Да какое вам дело до других женщин, если я буду любить вас вечно?
– Тс-с, Клодина. Боже меня сохрани дожить до такого времени, когда ты станешь единственным исключением из чудовищного правила!
Вот, пожалуйста! Имея в виду меня, он говорит: женщины; разве я говорю: мужчины, когда думаю о нём? Я отлично понимаю: привычка жить на людях, у всех на виду вступать в любовную связь и нарушать супружескую верность способна сломать человека и вернуть его к заботам, неведомым девятнадцатилетней женщине…
Я не могу удержаться и ядовито замечаю:
– Так, значит, это от вас Марсель унаследовал почти женское кокетство?
– Ах, Клодина, – несколько опечалившись, отзывается он, – ты меня, стало быть, не любишь за мои недостатки?.. Признаться, я не вижу, от кого бы, кроме меня, он мог унаследовать… Но хоть признай, что в моём случае это кокетство приняло не столь извращённые формы!
Как скоро он оправился и повеселел! Мне кажется, что если бы он ответил мне сухо, сдвинув свои красивые брови, похожие на бархатистое нутро зрелого каштана: «Довольно, Клодина! При чём здесь Марсель?!», я бы, наверное, очень обрадовалась и испытала бы к Рено боязливую почтительность, которая пока никак ко мне не приходит, просто не может прийти.
Так это или нет, но мне необходимо уважать и даже побаиваться любимого мужчину. Я не знала страха, как не знала и любви, и хотела бы, чтобы они пришли в одно время…
Мои воспоминания годичной давности мельтешат у меня в голове, словно пылинки в комнате, темноту которой прорезал солнечный луч. Одно за другим они попадают в столб света, озаряются на мгновение, пока я им улыбаюсь или корчу недовольную мину, а потом снова возвращаются во тьму.
Когда я три месяца назад вернулась во Францию, мне захотелось снова увидеть Монтиньи… Впрочем, это заслуживает того, чтобы я, как говорила Люс, начала всё сначала.
Полтора года назад Мели поспешила растрезвонить в Монтиньи, что я выхожу замуж за «порядочного человека, который правда, в годах, но ещё держится молодцом».
Папа отправил из Парижа несколько уведомительных писем наугад, например, столяру Данжо, «потому что он здорово перевязал коробки с книгами». Я тоже отправила два письма, старательно выведя адреса: для мадемуазель Сержан, а также для её поганки Эме. Совершенно неожиданно я получила ответ.
Ирония в конце письма разбилась о переполнявшее меня в ту минуту всепрощение. Осталось лишь приятное удивление и желание снова увидеть Монтиньи – о леса, околдовавшие меня когда-то! – глазами менее дикими и более печальными.
Поскольку в сентябре прошлого года мы возвращались из Германии через Швейцарию, я попросила Рено заехать к моим землякам и провести денёк на скромном постоялом дворе Монтиньи на площади Часов, у Ланжа.
Он, как всегда, сейчас же согласился.
Стоит мне закрыть глаза, и я снова и снова переживаю те дни…
В пассажирском поезде, который словно в нерешительности шарахается то туда, то сюда, проезжая через зелёные холмы, я вздрагиваю, слыша знакомые названия крохотных строений. Даже не верится! После Блежо и Сен-Фарси будет Монтиньи, и я увижу выщербленную башню… Я чувствую, как от волнения у меня по икрам пробегают мурашки. Я не могу усидеть на месте и вскакиваю, вцепившись в поручни. Рено наблюдает за мной из-под надвинутой на глаза дорожной кепки; он нагоняет меня в дверях.
– Пташка моя! Ты трепещешь, приближаясь к родному гнезду?.. Клодина, не молчи… Меня гложет ревность… Я хочу, чтобы ты так нервничала только в моих объятиях.
Я примиряюще улыбаюсь, а сама зорко слежу краем глаза за бегущими за окном холмами, поросшими густым лесом.
Показываю пальцем на башню – её красные осыпающиеся камни увиты плющом, – и деревню, которая убегает под откос, будто скатывается с него. Я так взволнована, что прижимаюсь к плечу Рено.
Обвалившаяся верхушка башни, купа кудрявых деревьев – как я могла вас покинуть… да и теперь я никак не могу на вас наглядеться перед новой разлукой.
Повиснув у моего друга на шее, я пытаюсь обрести силу и смысл жизни; теперь именно ему предстоит меня очаровывать и удерживать – так я, во всяком случае, хочу, на это вся моя надежда…
Мелькает розовый домик дежурного по переезду, потом товарная станция – я узнаю кого-то из земляков! И мы выскакиваем на перрон. Рено уже забросил чемодан и мою сумочку в единственный автобус, а я всё стою и молча разглядываю дорогой моему сердцу горизонт, словно ужатый за время нашей разлуки; я проверяю, на месте ли все его горбины, просветы и до боли знакомые ориентиры. Вот там, вверху – Фредонский лес сливается с Валлейским лесом… А Вримская дорога, жёлтая песчаная змея, до чего узенькая! Она не приведёт меня больше к моей молочной сестре, к лапочке Клер. Ой, а Вороний лес вырубили, и меня спросить забыли! Теперь, когда деревья без коры, видно, до чего они старые… А как приятно снова увидеть Перепелиную гору, голубоватую и неясно выступающую из тумана: в ясные дни она словно кутается в радужную вуаль, а когда надвигается непогода, гора будто подступает ближе и принимает чёткие очертания. Там полным-полно окаменевших ракушек, гора поросла лиловым чертополохом, жёсткими кустиками блёклых цветов, над которыми вьются мелкие бабочки с перламутрово-синими крылышками; похожие на орхидеи аполлоны, украшенные оранжевыми полумесяцами; тяжёлые морио, расписанные золотом по тёмному бархату крыльев…
– Клодина! Тебе не кажется, что нам всё-таки рано или поздно надо бы сесть в эту таратайку? – спрашивает Рено, с улыбкой наблюдая, как я тупею от счастья.
Сажусь вслед за ним в омнибус. Ничто не изменилось: папаша Ракален всё так же пьян, пьян в стельку, и с неприступным видом собирает все ямы на дороге, не жалея громыхающую колымагу.
Я обвожу взглядом изгороди, всматриваюсь в повороты на дороге, готовая протестовать, если в моём городе что-то не так. Не говорю ни слова, ни слова больше, пока мы подъезжаем к первым лачугам крутого склона. Там я вдруг взрываюсь:
– Как же теперь коты будут ночевать в сарае у Барденов? Там новая дверь!..
– Совершенно верно, – кивает Рено, включаясь в игру, – эта скотина Барден поставил новую дверь!
Плотина моего недавнего молчания прорвана, сметена весёлым потоком глупостей:
– Рено, Рено, смотрите скорее: сейчас будут ворота замка! В нём никто не живёт, сейчас увидим башню. Ой! Старая мамаша Сент-Альб стоит на пороге! Я просто уверена, что она меня заметила и теперь растрезвонит на всю улицу… Скорей, скорей обернитесь: видите две верхушки дерев над крышей мамаши Адольф? Это большие садовые ели, мои ели, мои… Они ничуть не выросли, вот и хорошо… А это что за девочка? Почему не знаю?
Похоже, я так смешно ломалась, пока выговаривала всё это, что Рено покатывается со смеху, показывая в улыбке все свои белоснежные ровные зубы. Но всё это пустое, ведь скорее всего придётся остаться на ночь у Ланж, и с моего муженька всё веселье как рукой снимет, когда он окажется наверху, на этом мрачном постоялом дворе…
Но нет! Он говорит, что комната сносная, несмотря на дурацкий полог на кровати, крошечный туалет и грубые серые простыни (к счастью, чистые).
Рено приходит в возбуждение от скудости окружающей обстановки, от детской непосредственности, которой так и брызжет Клодина в Монтиньи; он хватает меня сзади и хочет притянуть к себе… Нет! Не надо: время пролетит слишком незаметно!
– Рено, Рено, дорогой папочка! Уже шесть часов! Пожалуйста, идёмте в Школу, доставьте приятную неожиданность Мадемуазель перед ужином!
– Увы! – вздыхает он, не желая примиряться с неизбежностью. – Вот и женитесь после этого на юной гордячке и дикарке, а она будет вам изменять с главным городом кантона, насчитывающем аж тысячу восемьсот сорок семь обитателей!
Я провожу щёткой по коротким волосам, сухим и почти невесомым, бросаю тревожный взгляд в зеркало – не состарилась ли я за полтора года? – и вот мы уже на площади Часов; площадь так круто уходит вверх, что в базарные дни многочисленные лотки не могут на ней удержаться и скатываются с оглушительным грохотом.
Благодаря присутствию моего мужа, а также короткой стрижке (я с тоской вспоминаю завитки своих длинных рыжевато-каштановых волос, доходивших мне до пояса), меня никто не узнаёт и я могу глазеть по сторонам в своё удовольствие.
– Представляете себе, Рено: вот та женщина с ребёнком на руках – Селени Нофли.
– Эта та, которую выкормила родная сестра?
– Совершенно верно. А теперь она вон выкармливает! Как это можно?! Гадость какая!
– Почему гадость?
– Не знаю. А у Душеньки всё те же мятные леденцы… Может быть, она перестала их продавать после отъезда Люс…
Главная улица – трёх метров в ширину – так круто идёт под уклон, что Рено интересуется, где тут у нас продаются альпенштоки. Но приплясывающая Клодина, надвинув канотье на глаза, увлекает Рено за собой, уцепившись за его мизинец. Стоит этим двум чужакам пройти мимо какого-нибудь дома, как на пороге сейчас же появляются знакомые лица, на которых написана скорее враждебность; я могу назвать их всех по именам с перечислением пороков и тайн каждого.
– Похоже, ожил один из рисунков Гуардо, – констатирует Рено.
Я бы прибавила: отчаявшегося Гуардо. Это спуск через всю деревню раньше не казался мне таким крутым, улицы – столь кремнистыми, а папаша Сандре – таким воинственным в своём охотничьем костюме… И неужели слабоумный старик Лур улыбался так же противно, когда я жила здесь? Перед тем как свернуть на Бел-Эр, я останавливаюсь и говорю:
– Подумать только! Кажется, госпожа Арман вообще не снимает бигуди! Она накручивает их вечером, перед тем как лечь в постель, утром забывает снять, а потом, увы, слишком поздно; она оставляет их на следующую ночь, а утром всё начинается сначала. Сколько себя помню, она с ними не расстаётся, бигуди вечно торчат у неё, словно черви, на сальных волосах!.. А здесь, Рено, на пересечении трёх дорог, я десять лет восхищалась необыкновенным человеком по имени Эбер; он был мэром Монтиньи, хотя едва ли умел расписываться. Он добросовестно присутствовал на всех заседаниях муниципального совета, согласно кивал головой в копне светлых, как пенька, волос, на фоне которых выделялось красное лицо, и произносил ставшие знаменитыми речи. Например: «Надо проложить водосточный канал по улице Фур-Бано или не надо? Вот ведь в чём вопрос-то, как говорят англичане». В свободное от заседаний время он стоял на перекрёстке, лиловый зимой и багровый летом, и наблюдал. За чем? Да ни за чем! В этом и состояло всё его занятие. Тут он и умер… Внимание! Этот навес с двойными воротами имеет на фронтоне памятную надпись; прочтите: «Похоронно-пожарные услуги». Они решили, что слово «услуги» одинаково подходит и к тому, и к другому! Признайтесь, что, хоть вы и дипломат, а ни за что не додумались бы до такого!
Снисходительный смех моего друга немного меня раздражает. Не покажусь ли я ему слишком провинциальной? Нет, просто он меня ревнует к прошлому, видя, что оно захватило меня всю.
Улица приводит нас наконец на бугристую площадь в самом конце спуска. В тридцати шагах от нас, за решёткой, выкрашенной в стальной цвет, удобно расположилась большая белая школа, крытая шифером, который пережил всего три зимы и четыре лета и потому выглядит как новенький.
– Клодина! Это казарма?
– Да вы что! Это же школа!
– Бедные дети…
– Почему «бедные»? Могу поклясться, мы здесь не скучали.
– Ты-то, чертовка, уж конечно! А другие?.. Можно войти? Надеюсь, арестантов разрешается посещать в любое время?
– Где вас воспитывали, Рено? Разве вы не знаете, что сейчас каникулы?
– Да ну?! И ты привела меня сюда только затем, чтобы показать эту пустую тюрьму? А сама дрожала в ожидании этого свидания, как машина под парами?
– Нет, как ручная тележка! – с победоносным видом бросаю я: года, проведённого в чужих краях, оказалось довольно, чтобы пересыпать мой провинциальный лексикон «парижскими» остротами.
– А что если я лишу тебя десерта?
– А не посадить ли мне вас на диету? Внезапно с меня слетает весёлость и я умолкаю, нащупав задвижку на тяжёлых воротах и чувствуя, что она, как прежде, поддаётся не сразу…
К колонке во дворе подвешен на цепочке всё тот же ржавый стаканчик. Побелённые в позапрошлом году стены сверху донизу исцарапаны нервными коготками юных пленниц. Чахлая трава пробивается между кирпичами водосточного жёлоба.
Никого.
Рено покорно плетётся сзади. Я поднимаюсь по небольшой лестнице всего в шесть ступенек, отворяю застеклённую дверь, иду по коридору, плиты которого гулко отзываются на мои шаги; коридор соединяет старший класс с тремя младшими… В лицо пахнуло спёртым воздухом, впитавшим в себя запахи чернил, меловой крошки, веника, чёрной доски, наспех вымытой грязной губкой, – и вот уже я задыхаюсь от необъяснимого волнения. Уж не тень ли Люс в полотняных тапочках и чёрном фартуке бесшумно прошмыгнула за этот угол и прижалась к моим ногам, докучливая в своей нежности?
Я вздрагиваю и чувствую, как меняюсь в лице: кто-то в полотняных тапочках и чёрном фартуке приотворяет дверь в Старший класс… Да нет, это не Люс; хорошенькая ясноглазая мордашка уставилась на меня, хотя я её раньше не видела. Успокоившись и почувствовав себя почти дома, я иду навстречу:
– Где Мадемуазель, крошка?
– Не знаю, мада… мадемуазель. Может, наверху.
– Ладно, спасибо. А… вы, значит, не на каникулах?
– Я – одна из пансионерок, которых оставили на каникулы в Монтиньи.
Что за прелесть эта пансионерочка, оставленная на каникулы в Монтиньи! Каштановые кудряшки ниспадают на чёрный фартук; она кривит и прячет аппетитный свежий ротик, а бархатные карие глаза – скорее красивые, нежели живые, – придают ей сходство с пугливой ланью.
Пронзительный голос (до боли знакомый!) обрушивается на нас с лестницы:
– Пом, с кем вы там беседуете?
– Не знаю, мадемуазель, – простодушно кричит в ответ девчушка и торопится вверх по лестнице, ведущей в комнаты и дортуары.
Я оборачиваюсь и улыбаюсь Рено глазами. Он заинтригован и начинает входить во вкус.
– Слышишь, Клодина? Её зовут Пом: Яблочко! С таким именем её, пожалуй, скоро кто-нибудь слопает. Какое счастье, что я всего-навсего старый господин вне конкуренции!..
– Замолчите вы, бабник! Сюда идут. Торопливое перешёптывание; отчётливо слышно, как кто-то спускается, и вот показывается мадемуазель Сержан; она одета в чёрное, её волосы будто охвачены огнем в лучах заходящего солнца; она до такой степени похожа на самоё себя, что я чувствую, как во мне поднимается желание её укусить, прыгнуть ей на шею ради всего того Прошлого, что она мне несёт во взгляде своих ясных чёрных глаз.
Она замирает секунды на две; этого довольно, она всё увидела: увидела, что я – Клодина, что у меня коротко стриженные волосы, что мои глаза стали ещё больше, а лицо осунулось, что Рено – мой муж да к тому же (рассказывайте, я вас слушаю!) красивый мужчина.
– Клодина! Вы совсем не изменились… Отчего же было не предупредить о своём приезде? Здравствуйте, сударь. Это легкомысленное создание ничего мне не сообщило о вашем визите! Придётся в наказание заставить её исписать двести строк. Что, она по-прежнему ребячлива и ужасно себя ведёт? Вы уверены, что на ней стоило жениться?
– Нет, мадемуазель, совсем не уверен. Просто у меня оставалось мало времени, а я не хотел жениться in extremis.[1]
Шутка хороша, они друг друга стоят и должны подружиться. Мадемуазель любит красавцев-мужчин, хотя пользы ей от этого немного. Ладно, пусть сами разбираются.
Пока они беседуют, я прошмыгну в старый класс и поищу свой стол, тот самый, за которым мы сидели вместе с Люс. Мне удаётся его отыскать, и под чернильными пятнами свежими или выцветшими царапинами я разбираю обрывки вырезанной ножом надписи: «…юс и Клоди… 15 февраля 189…»
Припала ли я к ней губами? Точно сказать не могу… Когда я наклонилась над столом, чтобы получше его рассмотреть, возможно, мои губы коснулись его изрезанной крышки… Но если бы я хотела быть откровенной, я бы сказала, что только теперь отдаю себе отчёт, а тогда с трудом сознавала, что эта нежная девочка Люс готова на всё, и мне понадобились целых два года замужества и возвращение в эту школу, чтобы понять, чего заслуживала эта свеженькая, пресмыкающаяся девочка, испорченная и всегда готовая к услугам.
Голос мадемуазель Сержан выводит меня из задумчивости.
– Клодина! Вы совсем потеряли голову! Что я слышу?! Ваши вещи у Ланж!..
– Да, чёрт возьми! А как же иначе? Не могла же я оставить ночную сорочку в привокзальной камере хранения!
– Это просто смешно! У меня здесь полно свободных кроватей, не говоря уж о комнате мадемуазель Лантеней…
– Как?! Неужели мадемуазель Эме нет? – восклицаю я, изображая изумление.
– Ну-ну! И чем вы только думаете! (Она подходит ближе и с нескрываемой насмешкой проводит по моим волосам.) На время каникул, госпожа Клодина, воспитательницы разъезжаются по домам.
(Дьявольщина! А я-то рассчитывала полюбоваться парочкой Сержан—Лантеней сама и поразвлечь Рено! Вот уж не думала, что каникулы могут разлучить этих влюблённых… Положим, эта стервочка Эме дома не задержится! Понимаю теперь, почему мадемуазель так тепло нас встретила: мы с Рено не можем ей помешать… А жаль!)
– Спасибо за приглашение, мадемуазель; мне будет очень приятно провести ночь в школе и снова почувствовать себя девочкой… А что это за зелёное яблочко – Пом – нас встречало? Так, кажется, её зовут?
– А-а, эта дурёха не сдала экзамен за неполную среднюю школу после академического отпуска. Пятнадцать лет! Дурацкая история! Девчонка проведёт здесь каникулы в наказание, но ей, похоже, на это наплевать. У меня наверху ещё две парижаночки ей под стать: будут здесь прохлаждаться до октября… Вот вы увидите… Впрочем, займёмся сначала вашим размещением.
Она искоса взглядывает на меня и самым естественным тоном спрашивает:
– Может, переночуете в комнате мадемуазель Эме?
– Я переночую в комнате мадемуазель Эме!
Рено идёт следом, вынюхивает скандальчик и развлекается вовсю. Глядя на неуклюжие двухцветные рисунки, развешанные по стенам коридора на кнопках, он едва сдерживается: ноздри его раздуваются, а усы топорщатся от смеха.
Комната фаворитки… С тех пор, как я уехала, всё здесь изменилось к лучшему… Эта белоснежная полуторная кровать, эти весёленькие легкие занавески на окнах и каминные украшения (ай!) из мрамора и меди – всё сияет чистотой, в складках занавесок притаился едва уловимый аромат, и он меня немало волнует.
– Скажи пожалуйста! – восклицает Рено, притворив за собой дверь. – А комнаты у воспитательниц очень недурны! Это меня отчасти примиряет с твоей начальной школой.
Я прыскаю со смеху.
– Ха-ха-ха! И вы думаете, что это казённая обстановка? Вспомните: я же вам рассказывала об Эме и её роли общепризнанной фаворитки. Вторая воспитательница довольствуется железной кроватью в ноль метров девяносто сантиметров, деревянным крашеным столом и таким умывальником, в котором я и котёнка не стала бы топить.
– Так, значит, здесь, в этой самой комнате…
– Да, здесь, в этой самой комнате…
– Клодина! Ты не поверишь, до чего меня впечатляют эти скабрёзные намёки…
Ну почему же нет? Охотно поверю. Но я ничего не хочу видеть и слышать и, скорчив гримасу, рассматриваю скандально известную кровать. Возможно, для них обеих кровать вполне широка. Для них, да только не для нас. Нам с Рено будет тесно, жарко, потом я не смогу лечь на спину, развести колени в сторону и отдохнуть… Вот чёрт!
Вновь обрести хорошее настроение мне помогает знакомый, дорогой сердцу пейзаж, словно вставленный в раму распахнутого окна. Леса, скудные поля, сжатые полосы, гончарная мастерская, пышущая жаром по вечерам…
– Рено! Взгляни вон туда! Видишь черепичную крышу? Там делают коричневые блестящие горшочки, кувшины с двумя ручками и маленьким таким пупочком трубочкой, жутко непристойным…
– Ночные вазы? Вот это очень мило, так и знай!
– Раньше, когда я была наивной девчонкой и ходила поглазеть на гончаров, они мне давали потрогать коричневые горшочки и кружки и, размахивая вымазанными глиной руками, с гордостью говорили: «Не кто-нибудь, а мы поставляем посуду в харчевню Анд-ре в Париже!»
– Правда? Ах ты, мой ангел! Я, старик, пил раза два из этих кувшинчиков и даже не догадывался, что твои изящные пальчики поглаживали, возможно, их бока. Я люблю тебя…
Нас разлучают шум шагов и звонкие голоса, доносящиеся из коридора. Шаги замирают у нас на пороге, голоса умолкают, теперь слышен лишь шёпот. В дверь робко стучат.
– Войдите!
Появляется Пом – пунцовая, проникнутая сознанием собственной важности.
– Это мы! Вот ваши вещи, папаша Ракален привёз их от Ланж.
Позади неё толкутся школьницы в чёрных фартуках: простушка лет десяти – рыжеволосая смешливая девчушка, – и пятнадцатилетняя брюнеточка, смуглая и быстроглазая. Почувствовав на себе мой пристальный взгляд, она отступает, и из-за её спины показывается ещё одна её темноволосая ровесница, такая же смуглая, с такими же глазами… Забавно! Я тяну её за рукав:
– И сколько вас ещё таких же?
– Только две: это моя сестра.
– Так я приблизительно и думала… Вы не здешние, как мне сказали.
– Нет, мы из Парижа.
Какой тон! С пухлых губок вот-вот сорвётся улыбка превосходства. Так бы и съела её, голубушку!
Пом тащит тяжёлый чемодан, Рено бросается ей на помощь.
– Пом, сколько вам лет?
– Пятнадцать и два месяца, сударь.
– Вы не замужем, Пом?
Ах, как они закатываются! Бесхитростная Пом млеет от восторга, двойняшки не забывают о кокетстве, десятилетняя девчушка согнулась пополам и вот-вот лопнет от смеха. Вот теперь я дома, в родной Школе!
– Пом! – невозмутимо продолжает Рено. – Я уверен, что вы любите конфеты.
Пом не спускает с него преданных бархатных глаз, готовая отдать душу.
– Ещё бы, сударь!
– Отлично! Я схожу за конфетами. Оставайся здесь, дорогая, я сам найду дорогу.
Я остаюсь с девчушками; они то и дело озираются, словно боятся, что приезжая дама вот-вот насильно затащит их к себе. Я хочу, чтобы они чувствовали себя свободно.
– Как вас зовут, сестрички?
– Элен Жуссеран, мадам.
– Изабель Жуссеран, мадам.
– Не называйте меня так, глупышки. Я – Клодина. Вы не знаете, кто такая Клодина?
– Знаем! – вскрикивает Элен (младшая и более хорошенькая). – Когда кто-то из нас что-нибудь натворит, мадемуазель всегда нам говорит…
Сестра подталкивает её в бок, и она умолкает.
– Давай-давай, не стесняйся! Не слушай сестру!
– …она говорит: «Со стыда можно сгореть. А я думала, времена Клодины уже позади!» Или: «Вот кто достоин Клодины!»
(Я злорадствую и ликую в душе.)
– Вот это удача! Это же я – пугало, чудовище, воплощение ужаса!.. Надеюсь, я вас не разочаровала?
– Ну что вы, – возражает ласковая и пугливая Элен и сейчас же прячет глаза под двойной опушкой ресниц.
Образ Люс неотступно следует за мной в этом доме. Может быть, и другие примеры… Я заставлю этих сестричек говорить. Но сначала уберём третью лишнюю.
– Эй, послушай-ка! Ступай в коридор и посмотри, нет ли там кого-нибудь.
(Рыженькая ворчит, сгорая от любопытства, и не двигается с места.)
– Нана, ты слышала, что тебе приказали?! – кричит Элен Жуссеран, порозовев от гнева. – Слушай, дорогая! Если ты не уйдёшь, я расскажу мадемуазель, что ты носишь письма соседки по столу мальчикам за шоколадное драже!
Рыженькой и след простыл. Положив руки сёстрам на плечи, я пристально на них смотрю. Элен более привлекательная, Изабель будет посерьёзнее, у неё над верхней губой пушок – с годами он доставит ей немало хлопот.
– Элен! Изабель! А мадемуазель Эме давно уехала?
– Да… двенадцать дней назад, – отвечает Элен.
– Тринадцать, – уточняет Изабель.
– Скажите-ка мне по секрету: она по-прежнему в нежных отношениях с мадемуазель?
Изабель краснеет, Элен улыбается.
– Можете не отвечать. Это началось ещё при мне. Их… дружба продолжается уже третий год, девочки!
– Ого! – вскрикивают они в один голос.
– Именно так! Я уехала из Школы два года назад, а до этого ведь год они были неразлучны… да, тот год я не забуду… А скажите, эта ужасная Лантеней всё такая же хорошенькая?
– Да, – кивает Изабель.
– Вы – лучше, – шёпотом прибавляет всё более покорная Элен.
Как когда-то я проделывала с Люс, я запускаю ногти ей в волосы и поглаживаю затылок. Она стоит не пикнув. Меня пьянит атмосфера вновь обретённой Школы.
Добродушная Пом слушает, уронив руки и приоткрыв рот, но особого интереса к происходящему не проявляет. Она то и дело выглядывает в окно: не прибыли ли конфеты?
Я не унимаюсь.
– Элен! Изабель! Расскажите что-нибудь. Кто теперь в старшем классе?
– Лилина… потом Матильда…
– Как, уже? Ах да, два года… Интересно, как дела у Лилины? Я звала её Джокондой. Помню её серо-зелёные глаза, таинственно поджатый рот…
– О! – перебивает меня Элен, облизывая нижнюю губку. – Она не такая уж хорошенькая, в этом году во всяком случае!
– Не слушайте её! – живо возражает Изабель-Пушок. – Она лучше всех!
– Ах так? Знаю я, почему ты так говоришь и почему Мадемуазель не разрешила вам сидеть по вечерам за одним столом, вы ведь «повторяли уроки» по одному учебнику…
Прекрасные глазки старшей Жуссеран подёргиваются слезой.
– Оставьте сестру в покое! Ах вы, злючка! Тоже мне, святая!.. Эта девочка всего-навсего берёт пример с Мадемуазель Эме…
В глубине души я беснуюсь от радости. Прекрасно! Школа делает успехи! В наше время только Люс писала мне записки. Анаис интересовалась исключительно мальчиками. А эти до чего хороши! Мне вовсе не жаль доктора Дютертра, если он снова будет баллотироваться на кантональных выборах.
Нашу компанию стоит видеть. Справа брюнеточка, слева брюнеточка, между ними – взбудораженная Клодина, а со стороны на нас любуется свеженькая невинная Пом… Да, это зрелище не для слабонервных старикашек! Да что там старикашек… Тут и молодой равнодушным не останется… Вот и Рено скоро должен подойти…
– Пом! Взгляните в окно, не видно ли господина с конфетами. Неужели у неё такое имя: Пом? – обращаюсь я к красавице Элен, доверчиво оперевшейся на моё плечо.
– Её зовут Мари Пом. А мы всегда обращаемся к ней просто «Пом».
– Она ведь с неба звёзд не хватает, не так ли?
– Да нет, конечно. Зато от неё никакого шуму, она всегда со всеми соглашается.
Я впадаю в мечтательность, они за мной наблюдают. Дикарочки совсем освоились, с любопытством поглядывают и поглаживают мои короткие волосы («Они сами у вас вьются, да?»), белый замшевый пояс с ладонь шириной («Вот видишь, а ты уверяла, что теперь не носят широкие пояса!») и золотую матовую пряжку– подарок Рено (как и всё, что у меня есть), мой высокий стоячий воротничок и блузку из линона промытого голубого цвета в крупную складку… Минуты идут… Я думаю о том, что завтра уеду, что всё это – мимолётное видение, а я хотела бы (ревность настоящего момента, который уже отошёл в невозвратное прошлое) оставить здесь по себе память… Я обнимаю Элен за плечи и шепчу едва слышно:
– Если бы я была вашей школьной подружкой, Элен, вы любили бы меня так же, как ваша сестра любит Лилину?
Её испанские глаза с опущенными уголками широко раскрываются, она взирает на меня почти со страхом, потом ресницы опускаются, а плечи становятся неподатливыми.
– Не знаю я…
(И не надо, зато я знаю.)
Стоящая на карауле у окна Пом радостно кричит:
– Пакеты! Пакеты! У него пакеты!
После этого взрыва радости появление Рено проходит в благоговейной тишине. Он скупил всё, что мог найти в скромной кондитерской Монтиньи: от драже в сливочном шоколаде до полосатых леденцов и английских конфет, пахнущих прокисшим сидром.
Неважно, зато сразу так много конфет!.. Я тоже хочу! Рено с порога любуется нашей компанией, на его губах появляется улыбка, которую я уже замечала у него несколько раз… Наконец он видит, что Пом ни жива ни мертва, и спохватывается.
– Пом! Что вам больше нравится?
– Всё! – выпаливает счастливая Пом.
– Как же так можно! – возмущённо восклицают сестрички.
– Пом! – не скрывая удовольствия, продолжает Рено. – Я вам дам вот этот пакет, если вы меня поцелуете. Ты позволишь, Клодина?
– Да пожалуйста!
Пом колеблется одно мгновение, раздираемая безудержным чревоугодием и правилами приличия. Она умоляюще смотрит своими ласковыми бархатными глазами на ощетинившихся подруг, на меня, в небо, на пакетики, которые мой друг протягивает ей на ладони… Наконец она всем своим существом устремляется к Рено, бросается ему на шею, получает пакет и, пунцовая, уходит и забивается в угол, чтобы вскрыть его без помех…
Я тем временем стягиваю пакетик с шоколадными конфетами, сёстры мне помогают, всё это мы проделываем быстро и совершенно бесшумно. Ручка Элен без устали снуёт от пакета в рот и обратно. Кто бы мог подумать, что этот маленький ротик способен вместить в себя столько сладостей!
Но вот брякает колокольчик. Мы вынуждены прервать своё занятие, и Рено не удаётся полюбоваться нами вволю. Вспугнутые девочки убегают, не успев поблагодарить и не глядя на нас, словно воришки…
За ужином в школьной столовой Рено веселится от души, а я немного скучаю. Время тянется медленно; я чувствую, как сиреневые сумерки густеют и опускаются на деревья… Я хотела бы забыться… А мой дорогой Рено до чего доволен!.. Ну, наша Мадемуазель – пройдоха, уж она сумела разбудить его любопытство! И вот я сижу в этой светлой зале рядом с Рено за столом, обитым белой искусственной кожей, напротив прелестных учениц в чёрных фартуках, лениво и с отвращением помешивающих кашу, как положено девчушкам, напичканным конфетами, а Мадемуазель рассказывает обо мне. Иногда она понижает голос, чтобы её не слышали любопытные ушки сестёр Жуссеран. Смирившись, я начинаю вслушиваться и улыбаюсь.
– …это была не девочка, а ужасный сорванец, сударь, и я долго не знала, что с ней делать. С четырнадцати до пятнадцати лет чаще всего её можно было обнаружить на высоте не ниже семи метров от земли; казалось, единственной её целью было показать всем, откуда у неё растут ноги… Порой мне доводилось подметить в ней жестокость по отношению к взрослым… (Поосторожней!) Она ничуть не изменилась, всё такая же юная прелестница… Хотя она меня недолюбливала, мне нравилось за ней наблюдать… какая гибкость, какая уверенность в каждом движении… Вот, к примеру, лестница, что ведёт сюда… я не видела, чтобы она по ней спускалась иначе, как съезжая по перилам. Сударь! Какой пример!..
Её коварство, едва угадывающееся в заботливо-материнском тоне, меня в конечном счёте забавляет, а в глазах Рено загорается злой огонёк, который так хорошо мне известен. Он смотрит на Пом, а видит Клодину, Клодину в четырнадцать лет, и то, как она показывает, откуда у неё ноги растут (Именно так, Мадемуазель! После моего отъезда в вашем доме стали выражаться более возвышенно.). Он смотрит на Элен, а видит Клодину верхом на перилах, Клодину-насмешницу, перепачкавшуюся фиолетовыми чернилами… Ночь обещает быть бурной… И он нервно смеётся, когда Мадемуазель на минутку отворачивается и кричит: «Пом! Если вы ещё хоть раз возьмёте соль пальцами, я заставлю вас переписать пять страниц из Бланше!»
Юная тихоня Элен ищет мой взгляд, а когда мы встречаемся глазами, избегает его. Её сестра Изабель определённо не такая хорошенькая; этот намёк на усики, когда дневной свет их больше не высветляет, придаёт ей неряшливый вид.
– Мадемуазель! – вдруг спохватывается Рено. – Вы разрешите раздать завтра утром конфеты?
Рыженькая – настоящая обжора – вылизала все тарелки и слопала за ужином все горбушки: теперь она рычит от зависти. Презрительные взгляды трёх старших учениц уже стали липкими от предвкушения грядущих удовольствий.
– Не возражаю, – отвечает Мадемуазель. – Они, конечно, этого не заслуживают, поганки. Однако случай исключительный! А кто будет за вас спасибо говорить, негодницы?.. Ступайте, ступайте, пора в постель! Скоро девять…
– Мадемуазель! Позвольте Рено осмотреть дортуар, перед тем как глупышки лягут.
– От такой слышу! Да, пусть осмотрит, – соглашается она и встаёт. – А вы, легкомысленные создания, берегитесь, если я найду на полу хоть одну соринку!
Бело-серые, бело-голубые, бело-жёлтые стены, занавески, узкие кровати, похожие на туго запелёнутых младенцев. Рено вдыхает особый запах – здесь пахнет здоровенькими девочками, сладкими снами, терпкой болотной мятой, пучок которой покачивается под потолком; у Рено тонкий нюх, он анализирует, пробует, размышляет. Мадемуазель по привычке уверенно шарит рукой под подушками, надеясь обнаружить там плитку шоколада со следами острых зубов или секретный клад в десять сантимов…
– И ты здесь спала, Клодина? – спрашивает чуть слышно Рено, барабаня горячими пальцами по моему плечу.
У Мадемуазель тонкий слух: она перехватила вопрос и предупредила мой ответ:
– Клодина?! Никогда! Да я этого и не хотела. В каком состоянии оказался бы на следующий же день дортуар? А воспитанницы?
«А воспитанницы?» – сказала она. Как же можно! Я не могу (моё целомудрие восстаёт против этого) терпеть и дальше эти пикантные намёки. Скорее спать!
– Вы всё осмотрели, Рено?
– Всё.
– Тогда – баиньки.
За нашей спиной перешёптываются. Могу себе представить, о чём говорят эти чёрненькие сестрицы: «Неужели она будет спать с этим господином в кровати мадемуазель Эме?.. Да-а, наверное, кровать мадемуазель Эме никогда не видела стольких мужчин!»
Уходим. Я на ходу улыбаюсь малышке Элен, которая заплетает волосы на ночь, уткнувшись подбородком в собственное плечо. Да уходим же!
Узкая и светлая комнатка, пышущая жаром лампа, за окном синеет ночное небо; кот – маленькое пушистое привидение – крадётся, рискуя жизнью, по подоконнику..
Возрастающий пыл Его милости моего Мужа, который весь вечер наблюдал за совсем юными клодинами; нервозность, от которой уголки его губ растягиваются в ниточку…
Недолгий сон Клодины, лежащей на животе, поджав ноги к пояснице на манер «связанной пленницы», как говорит Рено…
Заря заставляет меня вскочить с постели и подбежать к окну в одной рубашке: я хочу увидеть, как плывёт туман над лесом со стороны Мутье, и поближе услышать маленькую наковальню Шука, вызванивающую нынче утром, как в дни моего детства, в соль-диез…
Я запомнила ту ночь во всех подробностях.
В школе пока – ни звука, ведь всего шесть часов. Однако Рено просыпается, так как чувствует даже во сне, что меня нет рядом. Он прислушивается к серебристому перезвону молотков и непроизвольно начинает насвистывать арию из вагнеровского «Зигфрида»…
Он выглядит вполне сносно по утрам, а это большая редкость для мужчины! Он неизменно начинает с того, что зачёсывает пятернёй волосы на левую сторону, потом набрасывается на графин и выпивает большой стакан воды. Я не в состоянии этого понять! Ну как можно утром пить холодную воду?! А раз мне это не нравится, как он может любить такое?
– Клодина! В котором часу уезжаем?
– Не знаю. А что, уже пора?
– Пора! Здесь я не чувствую тебя своей. Изменяешь мне с первым попавшимся звуком, запахом, знакомым лицом; любое дерево имеет на тебя больше прав, чем я…
(Я смеюсь, но ничего не отвечаю: мне кажется, что его слова не лишены истины. И потом, раз у меня здесь нет собственной крыши над головой…)
– Поедем в два часа.
Обрадованный Рено смотрит на сладости, которыми завален стол.
– Клодина! А что если мы устроим малышкам сладкое пробуждение? Как ты думаешь?
– Ну, если мадемуазель нас увидит…
– Боишься, она в наказание заставит тебя переписывать пять страниц из Бланше?
– Ещё бы… И потом, глупо, если она нас застукает!
– Ах, Клодина! Как я люблю в тебе школьницу! Подойди-ка, я хочу тобой надышаться, дорогая открытая тетрадочка!
– Да ну вас, Рено! Вы помните мою обложку!.. И Мадемуазель скоро встанет: надо торопиться…
Он – в голубой пижаме, я – в длинной белой сорочке и непричёсанная – крадёмся, нагрузившись конфетами. Прежде чем войти, я прислушиваюсь, остановившись под дверью в дортуар… Ничего. Тихо, как в могиле. Я неслышно приотворяю дверь…
Как они могут спать, негодницы, когда солнце давно встало и охватило пламенем белые занавески?!
Я бросаюсь на поиски Элен: она зарылась мордашкой в одеяло, только чёрная косичка торчит, будто развернувшаяся змейка. Рядом с Элен лежит на спине её сестра Изабель; правильная и чем-то озабоченная даже во сне, она опустила длинные ресницы и о чём то задумалась. Следующая – рыжеволосая девочка, похожая на забытого кем-то клоуна: руки раскинуты в стороны, рот раскрыт, космы торчат во все стороны, – она едва слышно похрапывает… Но Рено не сводит глаз с Пом; ей было слишком жарко в рубашке с длинными рукавами, она свернулась калачиком и почти касается головой коленей, отчего её задок округлился и стал упругим… Пом гладко зачесала волосы и заплела их в тугую косицу; одна щека у неё пылает, другая нежно розовеет; губы плотно сжаты, кулачки – тоже.
Какая прелестная картина! До чего похорошели ученицы Школы! В моё время воспитанницы способны были самого Дютертра навести на мысль о целомудрии.
Очарованный не меньше меня (а может быть, и больше), Рено подходит к кровати Пом, своей любимицы. Он роняет огромную конфету фисташкового цвета прямо ей на гладкую щёчку. Щека вздрагивает, кулаки расжимаются, и Пом начинает шевелиться.
– Здравствуй, Пом!
Бархатные глаза округляются в радостном изумлении. Пом садится в постели, ничего не соображая. Но вот её рука натыкается на зелёную шершавую конфету. Пом ахает, показав на мгновение розовый язычок, и с трудом выговаривает:
– Здравствуйте, сударь.
Её звонкий голосок, а также мой смех разбудили Элен: она зашевелилась под одеялом, хвостик её косички, похожий на развернувшуюся змею, оживает, и Элен, будто спугнутая черноголовая славка, резко садится в постели. Она просыпается не сразу, смотрит на нас, пытается связать происходящее с событиями вчерашнего дня, и её янтарные щёчки розовеют. Взлохмаченная, прелестная со сна, она отводит рукой большую непокорную прядку, падающую ей на носик. Потом переводит взгляд на сидящую Пом с набитым ртом.
– Ой! – вскрикивает Элен. – Она всё съест! Оживление, порывистый жест, детский страх – всё в Элен меня подкупает. Я сажусь у неё в ногах по-турецки, а она отползает подальше и ещё больше краснеет.
Её сестра потягивается, что-то лепечет и стыдливо прикрывает рукой расстегнувшуюся на груди широкую ночную сорочку. Рыженькая Hана стонет от зависти, наблюдая за нами из противоположного угла комнаты, и кусает кулаки: Пом добросовестно и неутомимо уничтожает запасы конфет…
– Рено, это жестоко! Пом полна достоинств, не спорю, однако дайте же конфет Элен и другим девочкам!
Он с торжественным видом качает головой и отодвигается:
– Слушайте все! Я не дам больше ни одной конфетки… (безмолвный трепет), пока вы не подойдёте за ними сами.
Девочки в испуге переглядываются. Но вот юная Нана спускает свои короткие ножки и внимательно их осматривает, дабы удостовериться: они чистые и их не совестно выставить на всеобщее обозрение. Задрав длинную рубашку, чтобы не споткнуться, она летит стрелой к Рено, шлёпая по полу босыми пятками, всклокоченная, словно сошла с новогодней картинки. Завладев перевязанным пакетиком, который ей бросает Рено, она возвращается к себе на кровать, довольно урча.
Пом не в силах сдержаться и тоже срывается из-под одеяла; не обращая внимания на заголившуюся игру, мелькнувшую на мгновение в луче солнца, она подбегает к Рено; тот поднимает желанные сладости высоко над головой.
– О, пожалуйста, сударь! – хнычет бедняжка.
И поскольку вчера это помогло, она обвивает руками шею Рено и целует его. Сегодня это тоже срабатывает. Эти игры начинают действовать мне на нервы…
– Ступайте же, Элен! – сердито шепчет Изабель.
– Сама иди! Ты выше ростом. И сладкоежка побольше моего!
– Врешь!
– Я вру? Ладно, я вообще не пойду… А Пом одна всё съест… Вот бы её вырвало! Он тогда будет знать…
Мысль о том, что Пом одна всё съест, подстёгивает Изабель: она спрыгивает на пол. Я тем временем удерживаю Элен за изящную щиколотку, нащупав её через простыню:
– Не ходите туда, Элен, я сама вам принесу. Изабель возвращается с победным видом. Но пока она торопливо забирается в кровать, Нана выкрикивает пронзительным голосом:
– А у Изабель ноги волосатые! Волосатые! Волосатые!
– Это неприлично! Замолчи! – кричит Изабель, забившись под одеяло и гневно сверкая глазами. Она осыпает Нану ругательствами и угрозами, потом её голос осекается, и, уткнувшись в подушку, она разражается слезами.
– Что вы наделали, Рено!
Он громко смеётся, злой мальчишка, и роняет последний пакетик; тот рвётся, ударившись об пол.
– Во что мне собрать конфеты? – спрашиваю я у своей любимицы.
– Не знаю, у меня здесь ничего нет… Ага! Можно в кувшин! Мой – третий на умывальнике.
В эмалированном кувшине я приношу ей всю эту разноцветную дрянь.
– Рено! Выгляньте в коридор. Мне послышались чьи-то шаги.
Сама я остаюсь сидеть на кровати моей Элен; она сосёт и грызёт конфеты, поглядывая на меня снизу вверх.
Стоит мне ей улыбнуться, как она сейчас же краснеет, потом собирается с духом и улыбается мне в ответ, приоткрывая влажный аппетитный ротик…
– Чему вы смеетесь, Элен?
– Смотрю на вашу рубашку. Вы похожи в ней на воспитанницу, только у вас рубашка из линона… нет, из батиста? И всё просвечивается…
– Да я и есть воспитанница! Не верите?
– Нет… И так жалко!..
(Всё идёт как по маслу. Придвигаюсь ближе.)
– Я вам нравлюсь?
– Да… – едва слышно выдыхает она.
– Хотите меня поцеловать?
– Нет, – торопится она возразить почти с испугом.
Я склоняюсь над ней и переспрашиваю:
– Нет? Знаю я эти «нет», означающие «да»… Я и сама так когда-то отвечала…
Умоляющими глазами она указывает на своих подруг. Но я злючка и просто умираю от любопытства! Я собираюсь мучить её ещё и ещё и снова склоняюсь над ней, ещё ближе… вдруг дверь распахивается, и в дортуар заходит Рено, а за ним – Мадемуазель в пеньюаре (да что я говорю: в домашнем платье) и уже причёсанная, как на парад.
– Ну как, госпожа Клодина, пансион вводит вас в соблазн?
– Угу! В этом году есть на кого глаз положить.
– Только в этом году? Как замужество повлияло на мою Клодину!.. Эй, голубушки, вы знаете, что скоро восемь? Без четверти девять я загляну к вам под кровати и если обнаружу хоть пылинку, заставлю вылизывать языком!
Мы выходим из дортуара вместе с ней.
– Надеюсь, вы нас извините за это утреннее вторжение, мадемуазель? – говорю я уже в коридоре.
Она вполголоса отвечает с неизменной любезностью, ловко скрывая насмешку:
– Сейчас каникулы! И вполне понятно, что ваш муж хочет вас побаловать… по-отечески!
Этого я ей никогда не прошу!
Помню предобеденную прогулку – паломничество на порог «моего» прежнего дома (жизнь в этом гнусном Париже заставила меня ещё больше полюбить дом в Монтиньи); я вспоминаю, как у меня защемило сердце и я застыла у крыльца с двойной лестницей и почерневшими металлическими перилами. Я уставилась на истёртое медное кольцо, на котором я, возвращаясь из школы, любила повиснуть, пока звонил колокольчик; я смотрела так долго, что снова ощутила его в своих ладонях. И пока Рено заглядывал в окно моей комнаты, я подняла на него глаза, полные слёз:
– Давай уйдём, мне плохо.
Моё горе его потрясло. Ни слова не говоря, он повёл меня прочь; я доверчиво прижималась к его плечу. Проходя мимо дома, я не удержалась и поддела пальцем задвижку на ставне первого этажа… и вот…
И вот теперь я недоумеваю: зачем я настояла, чтобы мы заехали в Монтиньи? Что мною двигало? Сожаление? Любовь? Гордыня? Да, и гордыня. Я хотела покрасоваться рядом со своим неотразимым мужем… Да и муж ли это? Скорее любовник и отец в одном лице, мой сладострастный покровитель… Я хотела подразнить Мадемуазель и её Эме (а та взяла да и уехала домой!). И теперь – это послужит мне уроком – я чувствую себя маленькой и совсем несчастной, не знаю, где мой настоящий дом, разрываюсь между двумя городами!
Из-за меня обед не клеится. Мадемуазель не понимает, почему у меня такой растерянный вид (я – тоже); девочки, объевшись сладостей, ничего не берут в рот. Один Рено не унывает и пытает Пом:
– Вы всегда говорите «да», о чём бы вас ни попросили, Пом?
– Да, сударь.
– Как я завидую счастливчикам, которые будут иметь дело с вами, розовым и круглым Яблочком! Вас ждёт прекрасное будущее, заключающееся в справедливом разделе и полной ясности.
Он бросает вопросительный взгляд на Мадемуазель, желая узнать, не раздражает ли её этот разговор, однако та лишь пожимает плечами и замечает в ответ:
– Напрасно стараетесь, она вас не понимает.
– Может, прибегнуть к языку жестов?
– До отправления поезда не успеете, сударь. Пом всё приходится повторять раз по десять.
Я сержусь и знаком останавливаю Моего шалопая-мужа, уже открывшего рот, чтобы ответить. Моя любимица Элен с любопытством следит за моей реакцией, она слушает во все уши (любопытно, что я с первой минуты стала называть её про себя «своей любимицей Элен»).
Прощай, школа! Пока я укладываю вещи, двор сотрясается от звона колокольчика и ругательств папаши Ракалена. Прощайте!
Я любила и теперь ещё люблю эти гулкие светлые коридоры, эту казарму, отделанную розовым кирпичом, этот неожиданно обрывающийся лесистый горизонт; я смаковала в глубине души отвращение к Мадемуазель, мне нравилась её малышка Эме, и Люс, которая так ничего никогда и не узнала.
На мгновение я застываю на лестнице, схватившись рукой за прохладную стену.
Рено внизу, у меня под ногами, продолжает (!) разговаривать с Пом:
– Прощайте, Пом.
– Прощайте, сударь.
– Вы будете мне писать, Пом?
– Я не знаю, как вас зовут.
– Возражение неубедительное! Меня зовут «Муж Клодины». Вы хоть пожалеете обо мне?
– Да, сударь.
– Особенно из-за конфет?
– О да, сударь.
– Пом! Ваше неприличное простодушие воодушевляет. Поцелуйте меня!
У меня за спиной раздаётся едва слышный шорох… Моя любимица Элен тут как тут. Я оборачиваюсь. До чего она хорошенькая: тёмные волосы, белая кожа… я ей улыбаюсь. Она хочет мне что-то сказать. Но я знаю: это слишком трудно; она молча смотрит на меня, её глаза искрятся. И вот, пока внизу покорная и невозмутимая Пом виснет на шее у Рено, я обхватываю одной рукой за плечи эту молчаливую девочку, пахнущую кедровым карандашом и веером сандалового дерева. Она трепещет, потом сдаётся, и, припав к её упругим губам, я прощаюсь со своим недавним прошлым…
Со своим недавним прошлым?.. Уж тут-то я не могу лгать… Элен, подбежавшая к окну, дрожащая, уже влюблённая, провожающая меня! Ты никогда не узнаешь того, что могло бы тебя удивить и опечалить: целуя тебя в жадные и неумелые губы, я видела в тебе лишь призрак Люс!
Прежде чем заговорить с Рено в увозящем нас поезде, я в последний раз смотрю, как башня, будто осевшая под надвигающейся на неё мохнатой тучей, исчезает за горбатым холмом. Почувствовав освобождение, словно простилась с живым существом, я возвращаюсь к своему дорогому, своему легкомысленному другу; он мною восхищается (дабы не потерять навык!), прижимает меня к себе и… я его останавливаю:
– Скажите, Рено, приятно целоваться с этой Пом? Я строго смотрю ему прямо в глаза и никак не могу проникнуть в глубь его тёмно-синих зрачков.
– «С этой Пом»? Дорогая! Неужели я достоин великой чести, живейшего удовольствия: ты ревнуешь?
– Вы отлично знаете, что это никакая не честь: я не могу относиться к Пом как к достойной вас победе.
– Деточка моя, любовь моя! Если бы ты сказала: «Не целуйся с Пом», мне бы даже не принадлежала теперь эта скромная заслуга: оставить у себя за спиной вздыхающую школьницу!
Да. Он сделает всё, что я захочу. Но он не ответил прямо на мой вопрос: «Приятно целоваться с этой Пом?» Он умудряется не принадлежать мне целиком, выскальзывает, окружает меня «уклончивыми» ласками.
Он меня любит, что вне всяких сомнений, и это главное. К счастью, и я его люблю, это также верно. Но он похож на женщину даже больше, чем я! Мне кажется, я держу себя проще, я более резкая… мрачная… страстная…
Я намеренно избегаю слова «искренняя». Я могла бы так сказать год с небольшим тому назад. В то время я была неспособна, стоя на верхней ступени лестницы, ведущей из дортуара, так скоро соблазниться и поцеловать эту девочку в губы, влажные и холодные, словно надтреснутый плод, отговорившись тем, что прощаюсь со своим школьным прошлым, со своим детством в форменном платьице… Тогда я бы ограничилась поцелуем парты, над которой Люс склоняла упрямую головку.
Я чувствую, как за последние полтора года исподволь разлагаюсь, чем обязана моему Рено. Стоит ему соприкоснуться с чем-нибудь великим, и оно мельчает, а нечто, представляющееся смыслом всей жизни, сокращается на глазах; зато незначительные мелочи, в особенности пагубные, приобретают огромную важность. Однако как противостоять неизлечимой и соблазнительной фривольности, которая увлекает его, а вместе с ним и меня?
Хуже того: Рено разгадал мою тайну – врождённое и уже осознанное сладострастие, и я его сдерживаю, поигрывая им с опаской, словно ребёнок – смертельным оружием. Рено дал мне почувствовать, на что способно моё гибкое мускулистое тело с твёрдыми ягодицами, едва наметившейся грудью, кожей, напоминающей отполированную вазу; я познала власть своих глаз цвета египетского табака (их взгляд стал со временем беспокойнее и глубже), а также прелесть коротких пушистых волос цвета недозрелого каштана… Эту вновь открытую в себе силу я почти неосознанно обращаю на Рено – а останься я ещё на два дня в Школе, я также обратила бы её на очаровательную Элен…
Да-да, не вынуждайте меня, не то я скажу, что по вине Рено поцеловала в губы свою любимицу Элен!
– Клодина! Почему ты молчишь, дорогая? О чём задумалась?
Помню, он спрашивал так в Гейдельберге, на террасе отеля, в то время как я переводила взгляд с излучины Неккара на искусственные развалины Шлосса у нас под ногами.
Продолжая сидеть на полу, я оторвала подбородок от сжатых в кулаки рук:
– Я думаю о парке.
– О каком ещё парке?
– Каком?! О парке в Монтиньи, естественно!
Рено отбрасывает сигарету светлого табака: он испытывает нечто вроде священного ужаса.
– Странная моя девочка… У тебя перед глазами такой пейзаж! Может, скажешь, что в Монтиньи парк красивее здешнего?
– Вот чёрт! Нет, конечно. Просто он мой.
Ну вот, опять!.. Сто раз так было: мы пытались объясниться, не понимая друг друга. Осыпая меня поцелуями, нежными, но в то же время с оттенком высокомерия, Рено обзывал меня лентяйкой, бродягой со свинцовым задом. А я ему с улыбкой бросала в ответ, что свой родной дом он носит в чемодане. Мы оба были правы, но я готова осудить его за то, что он рассуждает не так как я, иначе.
Он путешествовал слишком много, я же – совсем чуть-чуть, унаследовав, по-видимому, от кочевников только способ мышления. Я с удовольствием сопровождаю Рено, потому что обожаю его. Однако я люблю поездки, которым когда то наступает конец. Он же путешествует ради путешествия: просыпается в прекрасном расположении духа под чужими небесами с мыслью о том, что сегодня снова отправится в путь. То он едет полюбоваться горами; а здесь его манит терпкое вино; в том городе его привлекает искусственная красота цветущих берегов, а в этой деревушке – одинокая хижина. А уезжает он, не жалея ни о хижине, ни о цветах, ни о крепком вине…
Зато я жалею. И люблю – да, да, тоже люблю – приветливый город, подсвеченные заходящим солнцем сосны, прозрачный горный воздух. Но я постоянно чувствую на своей ноге верёвочку, другим своим концом обвязанную вокруг старого ореха в парке Монтиньи.
Я не считаю себя бессердечной! Однако вынуждена признать: моей любимой Фаншетты мне в наших путешествиях не хватало почти в той же мере, что и отца. О своём благородном папочке я по-настоящему заскучала лишь в Германии, где о нём напомнили почтовые открытки и вагнеровские лубочные картинки, облагороженные германским божеством Воданом и его скандинавским прототипом Одином; оба они похожи на моего отца, с той, однако, разницей, что папа не одноглазый. Они хороши собой; как и он, боги разражаются безобидными бурями; у них, как и у папы, всклокоченные бороды и властные жесты; думаю, что и язык их, как и его, вобрал в себя все крепкие словечки стародавних времён.
Я писала ему редко, иногда получала от него нежные письма, сочиненные второпях и в смешанном сочном стиле, когда периоды следуют в ритме, достойном восхищения великого Шатобриана (я немного льщу папе), зато скрывают в своих недрах – величавых и впечатляющих – самые что ни на есть страшные ругательства. Из этих далеко не банальных писем я узнала, что, кроме господина Мариа, преданного, бессловесного, бессменного секретаря, никто у него не бывает… «Не знаю, следует ли искать причину в твоём отсутствии, ослица ты эдакая, – объяснял мне дорогой отец, – но я теперь нахожу Париж отвратительным, особенно с тех пор, как этот подонок по имени X. опубликовал трактат "Общая малакология", от которого выворотит даже каменных львов, украшающих вход в Институт. И как только Мировая Справедливость до сих пор дарует солнечный свет подобным мерзавцам?!»
Мели в свою очередь описала мне душевное состояния Фаншетты со времени моего отъезда, её отчаяние, о котором она вопила во всю мочь не один день; впрочем, буквы у Мели напоминают скорее иероглифы, что не даёт возможности вести постоянную переписку.
Фаншетта оплакивает меня! Эта мысль не давала мне покоя. В течение всего путешествия я вздрагивала, едва завидев, как за угол метнулся бездомный кот. Не раз я выпускала руку удивлённого Рено и подбегала к кошечке, важно восседавшей на пороге, с криком: «Де-е-евочка моя!» Шокированный зверёк с достоинством опускал мордочку в пушистое жабо на груди. Я продолжала настаивать, пронзительно мяукая, и замечала по зелёным глазам, что кошка тает от удовольствия: глаза сужались в улыбке; она тёрлась головой о косяк, что являлось вежливым приветствием, и трижды поворачивалась на одном месте, что, как известно, означает: «Вы мне нравитесь».
Ни разу Рено не проявил нетерпения во время таких приступов кошкомании. Но я подозреваю, что он скорее снисходит, нежели понимает. Не удивлюсь, если узнаю, что этот монстр гладил мою Фаншетту исключительно из дипломатических соображений!
Я охотно перебираю день за днём своё недавнее прошлое.
Рено же устремлён в будущее. Он безумно боится постареть и приходит в отчаяние перед зеркалом, пристально разглядывая сетку морщин в уголках глаз; однако же он трепетно воспринимает настоящее и лихорадочно подталкивает Сегодняшний День ко Дню Грядущему. А я задерживаюсь в прошлом, пусть даже это прошлое было лишь вчера, и оглядываюсь назад почти всегда с сожалением. Можно подумать, что замужество (нет, чёрт побери! любовь!) до такой степени отшлифовало во мне способность чувствовать, словно я – зрелая женщина. Рено не устаёт этому удивляться. Но он меня любит; и если Рено-любовник перестаёт меня понимать, я нахожу прибежище у Рено-старшего друга! Я для него доверчивая дочь, ищущая опоры у избранного отца, поверяющая ему свои тайны, которые я готова скрыть от любовника! Больше того: если Рено-любовнику случается вклиниться между Рено-папой и Клодиной-дочкой, она принимает его, как кота, забравшегося на столик для рукоделия. Несчастный огорчён и теряет терпение, дожидаясь возвращения Клодины, а та приходит воодушевлённая, отдохнувшая, не способная на долгое сопротивление, принося с собой молчаливое согласие и страсть.
Увы! Всё, что я здесь пишу как бы наудачу, отнюдь не подводит меня к пониманию того, где же трещина. Но, клянусь, я отлично чувствую, что она есть!
Вот мы и дома. Позади утомительные визиты, обязательные после возвращения. Утихла и лихорадка Рено, страстно желавшего, чтобы мне понравилось моё новое гнездо.
Он предложил выбирать между двумя квартирами: обе принадлежат ему. (А ведь две квартиры – многовато для одного Рено…) «Если они тебе не понравятся, дорогая моя девочка, мы подберём что-нибудь получше». Меня так и подмывало ответить: «Покажите третью», но я почувствовала, как в моей душе снова поднимается невыносимый ужас перед переездом; тогда я стала добросовестно осматриваться и, в особенности, обнюхиваться. Запах той, в которой мы сейчас живём, показался требовательной Клодине более терпимым. Здесь было почти всё необходимое; но Рено, дотошный в мелочах, а также наделённый женской психологией в большей даже степени, нежели я, умудрился найти применение своим необыкновенным способностям и дополнил ансамбль, представлявшийся мне безупречным. Горя желанием мне угодить и в то же время снедаемый беспокойством из-за всего, что может шокировать его слишком искушённый взгляд, он двадцать раз переспросил, каково моё мнение. Сначала я искренне ответила: «Мне всё равно!», потом – тоже; по вопросу о кровати, «этого краеугольного камня в семейном счастье», как выражается папа, я высказалась начистоту:
– Я хотела бы перевезти сюда свою девичью кровать с кретоновыми занавесками.
В ответ на это мой бедный Рено в растерянности простёр руки к небу:
– Несчастная! Девичья кровать посреди спальни в стиле Людовика Пятнадцатого! Кстати, дорогая, подумай-ка хорошенько, что ты говоришь! Ведь к кровати пришлось бы прилаживать удлинитель… да что я говорю: уширитель!
Знаю, знаю. Что же делать? Не могла я всерьёз интересоваться мебелью, о которой понятия не имела – тогда, во всяком случае. Большая низкая кровать стала моей подругой, и туалетная комната тоже, как, впрочем, и несколько огромных кресел, каждое из которых напоминает одиночную камеру. Зато все остальные предметы по-прежнему на меня поглядывают, так сказать, с недоверием; зеркальный шкаф косится, когда я прохожу мимо; в гостиной стол с гнутыми ножками так и норовит меня зацепить; впрочем, и я в долгу не остаюсь.
Боже мой! Два месяца прошло, а я до сих пор не приручила эту проклятую квартиру! Стараюсь заставить свой внутренний голос замолчать, когда он ворчит: «За два месяца кто угодно может приструнить любую мебель, только не Клодина».
Интересно, согласилась бы Фаншетта здесь жить? Я снова встретилась на улице Жакоб со своей белоснежной красавицей; её не предупредили о моём возвращении, и мне было тяжело видеть полную её растерянность, когда она беспомощно распласталась у меня в ногах и не подавала голоса, а я поглаживала её розовый животик и никак не могла сосчитать удары бешено колотившегося кошачьего сердечка. Я перевернула её на бок, чтобы расчесать потускневшую шубку; в ответ на этот знакомый жест она подняла голову, и чего только не было в её взгляде: и упрёк, и нежная преданность, и готовность на любую муку… О беззащитный зверёк! До чего ты мне близок, я так хорошо тебя понимаю!
Я вновь увиделась со своим благородным отцом, могучим бородачом, изрыгающим хлёсткие слова и кипящим беззлобной воинственностью. Не сознавая этого, мы друг друга любим, и я правильно поняла его приветственную фразу: «Соблаговолишь ты наконец обнять меня, проклятое отродье?» – так он выражал своё живейшее удовольствие. Мне показалось, за два года он ещё подрос. Нет, серьёзно! И вот доказательство: он признался, что на улице Жакоб ему стало тесновато. И прибавил: «Понимаешь, я недавно скупил за бесценок книги на аукционе… Тысячи две, не меньше… стадо свиней! Пришлось их пока спихнуть в ломбард на хранение! А в моей конуре и так тесно… Вот в Монтиньи, в дальней комнате, которая никогда не открывается, я бы мог…» Он отворачивается и дёргает себя за бороду, но мы успели встретиться глазами и обменяться особенным взглядом. Ох, старый жук! Я хочу сказать, что он, пожалуй, способен вернуться в Монтиньи, как недавно переехал в Париж: просто так, без причины…
Со вчерашнего дня квартира Ре… наша квартира приведена в порядок. Больше не придётся видеть ни придирчивого обойщика, ни рассеянного мастера, вешавшего шторы: каждые пять минут он терял какой-нибудь из своих инструментов золочёной меди. Рено чувствует себя как рыба в воде, прохаживается по квартире, улыбается небольшим настенным часам, которые никогда не врут, расправляется с рамкой, которая не вписывается в интерьер. Он обнял меня за шею и повёл по комнатам с «хозяйским» осмотром; после головокружительного поцелуя он оставил меня в салоне (очевидно, сам он отправился работать в «Дипломатический журнал», дабы позаботиться о судьбе Европы с Якобсеном и обойтись с Абдул-Хамидом так, как он того заслуживает), напутствовав такими словами: «Мой милый деспот! Можешь царствовать в своё удовольствие».
Я долго сижу без дела, предаваясь мечтам. Часы бьют один раз, и я не знаю, который теперь час. Я встаю, совершенно растерянная и потерявшая счёт времени. Оказываюсь перед каминным зеркалом, торопливо прикалываю шляпку… чтобы идти домой.
Вот и всё. Это крах. Вам это ни о чём не говорит? Тогда вам везёт.
Чтобы идти домой! И куда же? Значит, я не дома? Нет, нет, в этом-то и состоит моё несчастье.
Чтобы идти домой! Куда? Не к папе, разумеется: он уже навалил на моей кровати горы грязных бумаг. Не в Монтиньи, потому что ни родной дом, ни Школа…
Чтобы идти домой! Стало быть, у меня нет дома? Нет! Здесь я живу у господина, которого я люблю, пусть так, но живу я у него дома! Увы, Клодина, ты – вырванный из земли стебелёк; неужто твои корни так глубоки? Что скажет Рено? Он бессилен.
Куда уйти? В себя. Вгрызться в собственную боль, безрассудную и невыразимую, и свернуться клубочком в этой ямке.
Я снова сажусь, не снимая шляпы, изо всех сил сжимаю руки: вгрызаюсь.
Мой дневник не имеет будущего. Я забросила его пять месяцев назад, остановившись на печальной ноте, и ненавижу его за это. Кстати, у меня нет времени держать его в курсе всех моих дел. Рено выводит меня в свет, вернее было бы сказать: понемногу показывает меня всем – больше, чем мне бы хотелось. Но так как он мною гордится, я не хочу причинять ему хлопот и не отказываюсь его сопровождать…
Его женитьба – я понятия об этом не имела – всколыхнула всех его знакомых из самых разных кругов. Нет, он их не знает. Зато его знают все. А он не способен назвать по имени даже половину тех, с кем обменивается сердечным рукопожатием и представляет мне. Он разбросан, неисправимо легкомысленен и по-настоящему ни к чему не привязан… кроме меня. «Кто этот господин, Рено? – Это… Его имя выскочило у меня из головы». Ну и ну! Похоже, этого требует профессия; похоже, доскональное изучение предмета перед серьёзными дипломатическими публикациями неминуемо влечёт за собой рукопожатие целой толпы хлыщей, размалёванных дам (как полусветских, так и светских с головы до ног), нескромных навязчивых актрисулек, художников и их моделей…
Но Рено, представляя меня, вкладывает в эти три слова: «Моя жена, Клодина» – столько супружеской и отеческой гордости (до чего трогательна их наивность в устах этого пресыщенного парижанина), что я оставляю при себе колкости, готовые вот-вот сорваться с языка, и не позволяю себе насмешки. И потом, у меня всегда есть возможность отыграться; когда Рено весьма неуверенно представляет мне какого-нибудь «господина… Дюрана», я с мстительной радостью переспрашиваю:
– Неужели? А третьего дня вы говорили, что его зовут Дюпон!
Светлые усы и загорелое лицо демонстрируют полную растерянность:
– Я так сказал? Ты уверена? Хорош же я! Спутал их обоих с… третьим, в общем, одним кретином, с которым я на «ты», потому что когда-то мы вместе учились в шестом классе.
Пустое! Я всё равно плохо понимаю такую фамильярность с малознакомыми людьми.
Тут и там, в коридорах Опера-Комик, на концертах Шевийяра и Колонна, на вечерах (на вечерах особенно, когда страх перед музыкой омрачает лица) меня встречали взглядами и словами далеко не благожелательными. Так я, стало быть, им не безразлична? А-а, верно, здесь я – жена Рено, как в Монтиньи он – муж Клодины. Эти парижане говорят тихо, но в моём родном краю у всех жителей такой тонкий слух, что мы слышим, как растёт трава.
Они говорят: «Слишком она молода». Они говорят: «Слишком темноволоса… выглядит подозрительно… – Как это – слишком темноволоса? У неё же рыжеватые локоны. – Зато волосы нарочно короткие, чтобы привлекать внимание! А ведь Рено во вкусе не откажешь». Они говорят: «На кого она похожа? – Верно, её предки с Монмартра. – Что-то в ней славянское: маленький подбородок и широкие скулы. – Она вышла из унисексуального романа Пьера Луи.[2] – Сколько же лет этому Рено, если он уже нравится маленьким девочкам?»
Рено, Рено… И что характерно, его зовут исключительно по имени.
Вчера муж меня спрашивает:
– Клодина, ты назначишь себе приёмный день?
– Зачем ещё?
– Чтобы поболтать, «потрепаться», как ты говоришь.
– С кем?
– Со светскими дамами.
– Я не очень люблю светских дам.
– Ну, и с мужчинами тоже.
– Не искушайте меня!.. Нет, мне не нужен свой день. Неужели вы думаете, что я смогла бы принимать у себя людей?
– А я уже объявил приёмный день.
– Да ну?! Что ж, я к вам загляну в ваш день. Пожалуй, так будет спокойнее. Не то я, пожалуй, могла бы через час сказать вашим прелестным подружкам: «Подите вон, надоели вы мне!»
Рено не настаивает (он никогда не настаивает), целует меня (он всегда меня целует), смеётся и выходит.
За эту мизантропию, за боязливое отвращение к «свету», о чём я не раз заявляла во всеуслышание, мой пасынок Марсель относится ко мне с вежливым презрением. Этот мальчик, столь равнодушный к женщинам, упорно ищет их общества, сплетничает, щупает ткани, наливает чай, не забрызгав тончайшей рубашки, и с упоением злословит. Я неправа, называя его «мальчиком». В двадцать лет уже невозможно быть мальчиком, а он надолго останется девочкой. По возвращении я нашла его ещё очаровательным, но всё-таки несколько помятым, чересчур худым; глаза кажутся непомерно большими, в них мелькает затравленное выражение, а в уголках глаз залегли три преждевременные морщинки… Неужели этим он обязан одному Шарли?
Рено сердился на этого плутишку недолго: «Не могу забыть, что это мой малыш, Клодина. И, возможно, если бы я больше им занимался…» Я прощала Марселя из равнодушия. (Равнодушия, гордыни и невысказанного любопытства– довольно непристойного – к особенностям его интимной жизни.) И я испытываю непреходящее удовольствие, поглядывая исподтишка на эту неудавшуюся девочку, на белую отметину под левым глазом, которую оставил мой коготок!
Однако этот Марсель меня удивляет. Я готовилась к тому, что он затаит злобу и будет ко мне относиться с откровенной враждебностью. Ничего подобного! Насмешки – сколько угодно, презрение – иногда случается, бывает и любопытство, но и только.
По-настоящему он занят только собой! Часто он рассматривает себя в зеркало и, надавив указательными пальцами на брови, изо всех сил оттягивает кожу на лбу. Изумившись этому жесту, довольно болезненному, оттого что он часто повторяется, я спрашиваю Марселя, что это значит. «Даю отдохнуть эпидермису под глазами», – с самым серьёзным видом отвечает Марсель. Он подводит глаза синим карандашом; он отваживается на слишком красивые запонки с бирюзой. Уф! В сорок лет он будет отвратителен…
Несмотря на то, что между нами произошло, он без смущения повторяет мне свои секреты и делает это из бессознательного хвастовства или же усугубляющегося душевного расстройства. Вчера он весь день томился у нас – грациозный, тонкий, лихорадочно возбуждённый.
– Вы производите впечатление человека измученного, Марсель.
– Так оно и есть!
Между нами принят агрессивный тон. Это игра, не больше.
– Как всегда, из-за Шарли?
– О, пожалуйста!.. Молодой женщине приличествует не знать или хотя бы забывать о некоторой путанице в мыслях… вы ведь именно так это называете: «путаница»?
– Да, чёрт возьми, так говорят: «путаница»… я бы не осмелилась прибавить «в мыслях».
– Премного вам благодарен. Но, между нами говоря, Шарли не имеет отношения к моему утомлению, этим он похвастаться не может. Шарли! Нерешительный, непостоянный…
– Неужели?
– Можете мне поверить. Я его знаю лучше, чем вы.
– И слава Богу.
– Да, в сущности, он трус.
– А с виду не скажешь.
– Мы подружились давно… Я эту дружбу не отрицаю, просто рву отношения, чему предшествовал весьма нечистоплотный инцидент.
– Как?! Красавец Шарли?.. Замешан в денежных махинациях?
– Того хуже! Он забыл у меня блокнот, а в нём – письма от женщин!
С каким злобным отвращением он выплюнул это обвинение! Я смотрю на него, глубоко задумавшись. Это сбившийся с пути несчастный мальчик, почти не отвечающий за свои действия, но он прав. Надо только поставить себя (!) на его место.
Как уже было сказано, всё в моей жизни случается внезапно: радости, огорчения, незначительные события. Это отнюдь не означает, что я специализируюсь на из ряда вон выходящих происшествиях; не будем считать моего замужества… Но время протекает для меня, как для большой стрелки некоторых уличных часов: на пятьдесят девять секунд она замирает и вдруг безо всякого перехода перепрыгивает на следующую минуту так порывисто, словно у неё нарушена координация движений. Минуты набрасываются на неё без жалости, как и на меня… Я не говорю, что это всегда и непременно неприятно, однако…
Вот мой последний порыв: я отправляюсь в гости к папе, Мели, Фаншетте и Лимасону. Этот последний – неотразимый полосатый красавец – блудит с собственной матерью и возвращает нас к чёрным дням в истории Атридов.[3] В остальное время он ходит из угла в угол, нахальный и раздражённый, мня из себя льва. К нему не перешла ни одна из добродетелей его любезной беленькой мамочки.
Мели устремляется мне навстречу, подхватив снизу рукой свою левую грудь, словно Карл Великий[4] – державу…
– Наконец-то! А я уж собиралась тебе написать!.. Если бы ты знала! Здесь всё предано огню и мечу… Слушай, а ты ничего в этой шляпке…
– Погоди-ка! Что за огонь и меч? Почему? Может, Лимасон опрокинул свою… плевательницу?
Оскорбившись моей иронией, Мели удаляется:
– Ах так? Спроси у отца, сама увидишь. Заинтригованная, я без стука вхожу к папе; он оборачивается на шум, и моему взгляду открывается огромный ящик, в который он укладывает книги. На его красивом небритом лице появляется непередаваемое выражение: наигранный гнев, неловкость, детское смущение.
– Это ты, старая кляча?
– Похоже на то. Чем это ты занимаешься, папа?
– Я… разбираю бумаги.
– Какая странная у тебя папка для бумаг! А я ведь знаю этот ящик… Он ещё из Монтиньи, да?
Папа смирился. Он застёгивает редингот на животе, не спеша садится и скрещивает руки на груди.
– Да, ящик этот приехал из Монтиньи и туда же возвращается! Это понятно?
– Отнюдь нет.
Он смотрит мне прямо в лицо, его мохнатые брови почти закрывают глаза; он понижает голос и берется за связку:
– Я бегу отсюда!
Я отлично всё поняла. Я давно чувствовала приближение этого беспричинного бегства. Зачем он приезжал в Париж? Почему теперь уезжает? Я задумываюсь. Папа – это сила Природы; он – служитель неведомой Судьбы. Сам того не зная, он сюда приехал, чтобы я могла встретиться с Рено; теперь он уходит, исполнив миссию безответственного отца…
Я промолчала, и этот страшный человек успокаивается.
– Понимаешь, с меня хватит! Я ломаю глаза в этой конуре; я имею дело с прохвостами, халтурщиками, лентяями. Стоит мне шевельнуть пальцем, как я упираюсь в стену; крылья моего разума рвутся, соприкасаясь с всеобщей безграмотностью… Проклятое стадо паршивых свиней! Я возвращаюсь в прежнюю свою халупу! Ты приедешь ко мне в гости с бродягой, за которого ты вышла замуж?
(Ох уж этот Рено! Он покорил даже папу, который редко его видит, но говорит о нём не иначе как в своей особенной ласково-ворчливой манере.)
– Разумеется, приеду.
– Но сначала… я должен сказать тебе что-то очень важное: что делать с кошкой? Она ко мне привязалась, эта животина…
– Кошка?..
(Это верно, кошка!.. Он её очень любит. Кстати, Мели будет там, а доверить заботу о Фаншетте лакею Рено и его кухарке я бы не смогла… Дорогая моя, девочка моя, меня согревает теперь по ночам другое существо, не ты… И я решаюсь.)
– Забирай её с собой! Потом посмотрим; возможно, позднее я возьму её к себе…
(Главное – я знаю, что под предлогом дочернего долга я смогу снова увидеть дом, полный воспоминаний; и он будет таким, каким я его оставила; это моя дорогая Школа… В глубине души я благословляю отцовский «исход».)
– Возьми с собой и мою комнату, папа. Я буду в ней ночевать, когда мы к тебе приедем.
(Один-единственный неловкий жест – и оплот Малакологии обрушивает на меня своё презрение.)
– Фу! И тебе будет не совестно жить под моей неосквернённой крышей со своим мужем, как поступаете все вы, грязные животные! Что для вас животворящая чистота?!
Как я люблю его, когда он вот такой! Я его целую и ухожу, а он тем временем запихивает свои сокровища в огромный ящик и весело напевает народную песенку, от которой сам в восторге:
Вот он, гимн Животворящей Чистоте!
– Решено, дорогая: я возобновляю свой приёмный день.
Я узнаю от Рено эту важную новость в нашей туалетной комнате, пока раздеваюсь. Мы провели вечер у мамаши Барман и для разнообразия присутствовали при ссоре между этой милой толстушкой и шумным грубияном, разделившим её судьбу. Она ему говорит: «Вы заурядны!» Он возражает: «Вы всех дурачите своими литературными потугами!» Оба правы. Он воет, она щебечет. Заседание продолжается. Когда его запас ругательств иссякает, он швыряет салфетку, выходит из-за стола и отступает в свою комнату. Все вздыхают и чувствуют себя свободнее, ужинают с удовольствием, а во время десерта хозяйка посылает горничную Евгению улестить (посредством каких таинственных приёмов?) толстяка, который в конце концов снова спускается к столу, усмирённый, но никогда не извиняющийся. Тем временем Гревей, изысканный академик, который до смерти боится ссор, осуждает свою прославленную подругу, обхаживает её мужа и берёт ещё сыру.
В этот чудесный кружок я приношу в качестве пая свою завитую голову, подозрительно-ласковые глаза, обнажённые плечи, мощную шею и широкий затылок на хрупких плечах, а также молчание, тягостное для моих соседей за столом.
За мной никто не ухаживает. Моё недавнее замужество заставляет мужчин держаться пока на расстоянии, а я не из тех, кто ищет флирта.
В одну из сред у этой самой мамаши Барман меня вежливо загнал в угол молодой симпатичный литератор. (Хороши глаза у этого молокососа: начинается воспаление век; впрочем, неважно…) Он сравнил меня – всё дело, как всегда, в коротких волосах! – с Миртоклеей, с юным Гермесом, с Амуром Прюдона; ради меня он копался в памяти и мысленно переворачивал вверх дном музейные запасники; он перечислил столько шедевров гермафродитов, что я вспомнила о Люс, о Марселе; он едва не испортил мне рагу по-лангедокски – фирменное блюдо, подаваемое в маленьких кастрюльках с серебряной каймой. «Каждому – своя кастрюлька; как забавно, не правда ли, дорогой мэтр?» – шептал Можи на ухо Гревею, а шестидесятилетний прихлебатель кивал и криво усмехался.
Мой юный поклонник, разгорячённый собственными заклинаниями, не отпускал меня от себя. Забившись в кресло в стиле Людовика XV, я не пыталась вслушиваться в его литературные изыски… Он не сводил с меня ласкающих глаз, опушенных длинными ресницами, и нашёптывал мне одной:
– О, вы – мечта юного Нарцисса, его душа, исполненная сладострастия и горечи…
– Сударь! – решительно проговорила я. – Вы порете чушь. Моя душа полна красными перцами и ломтиками копчёного сала.
Он умолк, словно громом поражённый.
Рено немножко меня поругал, зато долго смеялся.
– Вы возобновляете свой приёмный день, любезный друг?
Он устроил своё большое тело в плетёном кресле, а я раздеваюсь с целомудренным бесстыдством, вошедшим у меня в привычку. Целомудренным? Скажем так: бесстыдством без задней мысли.
– Да. Чем ты намерена заняться, девочка моя дорогая? Ты прекрасно выглядела нынче у длинноносой Барман, только бледненькая была немножко.
– Чем я намерена заняться, когда вы возобновите приёмный день? Собираюсь вас навестить.
– И всё? – разочарованно роняет он.
– Всё. А что мне следовало бы делать в ваш день?
– Клодина! Ты же мне жена!
– А кто тому виной? Если бы вы меня послушались, я была бы вашей любовницей, и вы бы спокойненько меня спрятали в чулане…
– В чулане?..
– Ну да, в какой-нибудь кладовой, подальше от вашего света, и ваши приёмы шли бы своим чередом. Ведите же себя так, будто вы мой любовник…
(Вот ужас! Он меня ловит на слове: я только что подцепила пальцем ноги лиловую шёлковую юбку, скользнувшую на пол, и мой муж собирается с силами, влюбившись сразу в двух Клодин: настоящую и отражённую в зеркале…)
– Уходите отсюда, Рено! Этот господин в чёрном фраке, эта малявка в штанишках, фи! Всё это в духе Марселя Прево, его страниц о величайшем распутстве…
(Надобно признать, что Рено любит язык зеркал и озорную игру отражённого ими света, а я их избегаю, презираю эти откровения, мечтаю обрести полумрак, тишину и ощутить головокружительный полёт…)
– Рено, ловелас мой любимый! Мы говорили про ваш день…
– Да чёрт с ним, с днём! Я предпочитаю ночь!
Итак, папа как приехал, так и уехал. Я решила не провожать его на вокзал; не люблю предотъездную суету, которую отлично себе представляю: напустив на себя грозный вид, он будет без меня поносить «отвратительный сброд» – служащих, с брезгливым видом совать им королевские чаевые и забудет заплатить за билет.
Мели искренне жаль со мной расставаться, однако позволение увезти с собой Фаншетту помогает ей «сию минуту» забыть о сожалениях. Бедняжка Мели! Она до сих пор не понимает свою хозяйку! Как?! Я вышла за друга, которого выбрала сама! Как?! Я сплю с ним, сколько хочу – и даже больше, – живу в «богатой квартире», у меня в услужении мужчина, в моём распоряжении наёмный экипаж, и я этим не хвастаю? По мнению Мели, об этом должны знать все.
Кстати… может быть, она не так уж неправа? Когда Рено рядом, я ни о чём не могу думать – только о нём. Он очень требователен – не хуже избалованной женщины. Напряжённая внутренняя жизнь выплёскивается у него в улыбки, в слова, он постоянно мурлыкает что-то себе под нос, он всё время требует ласки; он нежно упрекает меня в том, что я за ним не ухаживаю, что могу читать в его присутствии, что слишком часто витаю в облаках… Когда его нет рядом, я испытываю неловкость, будто совершаю нечто недозволенное. Похоже, «положение замужней женщины» придумано нарочно для меня. А ведь мне следовало бы к этому привыкнуть. В конечном счёте Рено имеет то, что он заслуживает. Ему всего-навсего не следовало на мне жениться…
Конец света! Мой муж снова назначил приёмный день!
Новость облетела весь город.
Чем Рено прогневал небо, заслужив столько друзей? В рабочий кабинет, меблированный коричневатыми кожаными креслами и диваном и пахнущий восточным табаком, в длинную переднюю, куда были сосланы рисунки и наброски незнатного происхождения, лакей Эрнест впустил около сорока человек: мужчин, женщин и Марселя.
С первым ударом колокольчика я вскакиваю и стремглав бросаюсь в спасительную туалетную комнату. Звонят… снова звонят. От каждого звонка у меня бегут по спине мурашки, и я вспоминаю Фаншетту, которая в дождливую погоду следит за тем, как большие капли падают из лопнувшего водосточного жёлоба, и по её спинке пробегает нервная дрожь… Увы! То речь о Фаншетте! А вот уже и Рено ведёт переговоры через запертую дверь в моё убежище.
– Клодина, девочка моя, это невозможно… Сначала я сказал, что ты ещё не возвращалась, но, уверяю тебя, положение становится критическим: Можи говорит, что я тебя прячу в подземелье, известном одному чёрту… (Я слушаю его, разглядывая себя в зеркале и против воли улыбаясь.) Все подумают, что ты боишься… (Предатель! Попал в самую точку! Я начёсываю волосы на лоб, на ощупь проверяю застёжку на юбке и отпираю дверь.)
– Могу я предстать в таком виде перед вашими гостями?
– Да, да, я тебя обожаю в чёрном.
– Чёрт побери! Вы меня обожаете в любом цвете.
– Особенно в телесном, что верно, то верно… Идём скорее!
В кабинете уже порядочно накурено, пахнет чаем и имбирём, а эта клубника, эти сандвичи с ветчиной, с печенью, с икрой… как скоро это начинает смахивать на ночной ресторан в натопленной комнате!
Я сажусь и «изображаю гостью». Муж наливает мне чаю, как последней прибывшей, а хорошенькая киприотка с невероятным именем, госпожа ван Лангендонк, подаёт сливки. В добрый час!
Я встречаю у… Рено малознакомых людей, мельком виденных на концертах и в театре: крупных критиков и не очень крупных; одни с жёнами, другие с любовницами. Превосходно. Я настояла на том, чтобы муж не производил чистку (отвратительное слово! И то, что оно обозначает, было бы так же некрасиво.). Но, повторяю, это не мой приём.
У Можи в руке большой бокал, в котором вместо вина – кюммель; он с блеском разыгрывает заинтересованность, расспрашивая автора феминистского романа, и тот излагает тему, получившую развитие в его новой книге; интервьюируемый говорит без остановки; слушатель без остановки пьёт. Основательно набравшись, он наконец спрашивает, еле ворочая языком:
– И как называется это мощное творение?
– Я ещё ни на чём определённом не остановился.
– И правильно! Главное – не останавливаться… И он отходит на негнущихся ногах.
Из многочисленного клана иностранцев я выуживаю испанского скульптора; у него красивые лошадиные глаза, чётко очерченный рот, он сносно говорит по-французски и занимается по преимуществу живописью.
Я честно ему признаюсь, что плохо знаю Лувр и, пребывая в невежестве, не горю желанием из него выходить.
– Вы не знай Рубенс?
– Нет.
– И не хотеть его видеть?
– Нет.
Услыхав такое, он встал, приосанился и с почтительным поклоном выпалил:
– Вы свинья, мадам.
Красивая дама, имеющая отношение к Опере (и к одному из приятелей Рено), подпрыгивает и смотрит на нас во все глаза в надежде на скандал. Не получит! Я отлично поняла этого транспиренейского эстета, владеющего одним-единственным пренебрежительным термином. Он знает слово «свинья»; у нас ведь лишь одно слово для выражения понятия «любить» – и это не менее нелепо.
Входит ещё кто-то, и Рено восклицает:
– Я думал, вы в Лондоне! Стало быть, уже продали?
– Да. Мы живём в Париже, – отвечает немолодой голос с едва уловимым английским акцентом.
Я вижу светловолосого господина, высокого и коренастого, который держит прямо маленькую квадратную голову; у него мутно-голубые глаза. Как я уже сказала, он коренаст, элегантно одет, но в нём чувствуется напряжение, словно он постоянно думает о том, что должен держаться прямо и выглядеть солидно.
Его жена… нас представляют друг другу, но я не расслышала её имени. Я пристально её разглядываю и скоро понимаю, в чём, по-видимому, заключается её очарование: каждым своим жестом – покачиванием бёдер, наклоном головы, стремительным взлётом руки, поправляющей волосы, круговыми поворотами туловища, когда сидит, – она описывает кривые, настолько близкие к кругу, что я прочитываю их рисунок: переплетающиеся кольца, безупречные спирали морских раковин, прочерченные в воздухе её мягкими движениями.
Её опушённые длинными ресницами глаза, янтарно-серые, изменчивые, кажутся более тёмными, оттого что её лицо обрамляет лёгкая золотая шевелюра; волосы у неё волнистые и как бы подёрнутые патиной. Платье из роскошного чёрного бархата строгого покроя облегает округлые подвижные бёдра; талия у неё тонкая, однако корсета, кажется, нет. Длинная брильянтовая булавка с головкой в виде небольшой звёздочки сверкает у неё на шляпе.
Она вынимает из лисьей муфты и порывисто подаёт мне тёплую руку, оглядывая меня с ног до головы. Не заговорит ли она с иностранным акцентом? Не знаю, чем это объяснить, но, несмотря на её безупречное платье, отсутствие драгоценностей, даже просто нитки жемчуга, она кажется мне иностранкой с сомнительной репутацией. У неё «нездешние» глаза. Она говорит… послушаем… без малейшего акцента! Как глупо предаваться пустым фантазиям! Её свежий ротик, маленький, когда она молчит, становится вдруг ярким и соблазнительным. Из него сейчас же сыплются любезности:
– Очень рада с вами познакомиться; я была уверена, что вашему мужу удастся отыскать прелестную жену, которая всех удивит и заставит в себя влюбиться.
– Спасибо за тёплые слова о моём муже. Не могли бы вы теперь сказать комплимент, который будет иметь отношение только ко мне?
– Это зависит от вас. Соблаговолите лишь быть ни на кого не похожей.
Она почти неподвижна, позволяет себе весьма сдержанные жесты, но ради такой малости, как право сесть рядом со мной, лезет из кожи вон.
Любопытно, как можно определить наши отношения: как любезные или как враждебные? Скорее любезные; несмотря на её недавнюю лесть, я не испытываю ни малейшего желания её обидеть: она мне нравится. Наблюдая её вблизи, я считаю все её спирали, многочисленные кривые; её послушные волосы колышутся у неё на затылке; её нежное ушко делает сложный виток, а лучистые ресницы и подрагивающий плюмаж шляпы тоже будто вращаются сами по себе.
Меня так и подмывает спросить, сколько кочующих дервишей, гордо качавшихся в седле, она насчитывает в своём роду. Впрочем, не стоит: Рено был бы недоволен. Да и зачем с самого начала шокировать эту прелестную госпожу Ламбрук?
– Рено вам рассказывал о нас? – спрашивает она.
– Никогда. А вы давно знакомы?
– Ещё бы!.. Мы ужинали вместе по меньшей мере раз шесть. Я уж не говорю о званых вечерах.
Она смеётся надо мной? Насмешлива она или глупа? Увидим позже. Сейчас меня чарует её неспешная речь, её ласковый голос; время от времени она как бы запинается, старательно выговаривая непослушные французские слова.
Я её не перебиваю, а она не сводит с меня взора; она в упор разглядывает меня безо всякого стеснения близорукими глазами, отмечая про себя, что зрачки у меня – в тон волосам.
Она рассказывает о себе. Четверть часа спустя я уже знаю, что её муж – бывший английский офицер, раздавленный и опустошённый Индией, где он растерял все свои силы и умственные способности. Теперь его импозантная внешность – лишь оболочка. Гостья даёт это понять весьма недвусмысленно. Я знаю, что она богата, но «всегда недостаточно», – горячо уверяет она; от своей матери-венки она унаследовала красивые волосы, кожу, подобную лепесткам белого вьюнка (я цитирую), и имя – Рези.
– Рези… ваше имя пахнет резедой…
– Здесь – да. Однако мне кажется, что в Вене оно встречается так же часто, как в Париже – какая-нибудь Нана или Титин.
– Это всё равно… Рези. Как красиво звучит: Рези!..
– …в ваших устах!
Она проводит прохладными пальцами по моему стриженому затылку так неожиданно, что я подскакиваю, и это результат скорее нервозности, нежели удивления: вот уже десять минут её блуждающий взгляд неотступно скользит по моей шее.
– Рези…
На сей раз её зовёт муж, чтобы увести домой. Он подходит со мной проститься, и я переживаю смущение, глядя в его непроницаемые голубые глаза. Импозантная внешность!.. Думаю, за этой внешностью ещё может таиться немало ревности и деспотизма: стоило ему лишь окликнуть Рези, и она поспешно, без возражений встала. Этот человек говорит не торопясь, с большими паузами (будто через каждые три слова ждёт «подсказки суфлёра», говорит Можи). Очевидно, он следит за дикцией, чтобы окончательно изжить английский акцент.
Мы договорились, что «будем часто видеться», что «госпожа Клодина – чудо». Я навещу, если только исполню обещание, эту светловолосую Рези у неё дома, в двух шагах отсюда, на проспекте Клебер.
Рези… От всего её существа веет ароматом ирисов и папоротников; этот запах ассоциируется с порядочностью, простотой и дикостью, что удивляет и восхищает из-за контраста, потому что я не чувствую в Рези ни дикости, ни простоты, ни чёрт возьми, порядочности, она слишком для этого хороша! Она говорила о своём муже, о путешествиях, обо мне, но я так ничего и не знаю о ней кроме того, что она прелестна.
– Ну как, Клодина?
Мой дорогой Рено, утомлённый, но весьма довольный, с удовольствием оглядывает опустевший наконец салон. Грязные тарелки, надкушенные и брошенные пирожные, пепел сигарет, оставленных на подлокотнике кресел и выступе окна (не очень-то они стесняются, эти скоты-визитёры!), бокалы, выпачканные жуткой липкой смесью: я сама видела, как один поэт-южанин, косматый, как и положено поэту, смешивал оранжад, кюммель, коньяк, черри Роше и русскую анисовку! «Напиток "Иезавель[5]"!» – вскричала миниатюрная госпожа де Лизери (близкая подруга Робера Парвиля), сообщившая мне, что в Уазо школьники, воспитанные на «Гофолии» Расина, называли все «жуткие смеси» «Иезавелями».
– Так что ты скажешь о моём приёме, Клодина?
– Ах, приём!.. Бедненький вы мой! Думаю, вы достойны не столько осуждения, сколько жалости… и пора бы отворить окна. Осталось много пирожных с орешками, они выглядят довольно аппетитно; вы уверены, как сказал бы мой благородный отец, что никто не «вытирал об них ноги»?
Рено качает головой и прижимает пальцы к вискам. (Мигрень настигает его.)
– Твой благородный отец чрезвычайно осторожен. Бери с него пример и не прикасайся к этим сомнительным дарам. Я видел, как Сюзанна и Лизери запускали туда вороватые лапки; неведомо, где эти руки находились прежде: они несли следы усталости, судя по траурным каёмкам под ногтями…
– Фу!.. Замолчите, или я не смогу есть за ужином. Идёмте в туалетную.
Мой муж столько перенёс за сегодняшний день: даже я чувствую себя раздавленной. Рено – о юноша с седыми волосами! – оживлён больше обыкновения. Он бродит по квартире, болтает без умолку, смеётся, вдыхает исходящий от меня аромат, и одно это, кажется, способно прогнать одолевшую его было мигрень; он ходит кругами вокруг моего кресла.
– Что вы кружите, как сарыч?
– Сарыч? Правда? Не знаю, как он выглядит. Погоди-ка… По-моему, это коричневый зверёк; он стучит копытами, у него скверный характер. Ну как?
Образ хищной четвероногой птицы меня развеселил. Я разражаюсь громким смехом; мой муж смутился и замер перед моим креслом. Но я хохочу ещё громче, и его взгляд меняется: он смотрит на меня, прищурив глаза.
– Ах ты, пастушок мой кудрявый! Неужели это так смешно? Посмейся ещё, покажи свой язычок.
(Осторожно! Мне угрожает чересчур страстная любовь…)
– Хорошо, только не перед ужином.
– После?
– Не знаю…
– Тогда и перед и после. Ты заметила, как я ловко всё уладил?
Слабая трусливая Клодина! Он так умеет иногда поцеловать, что на меня это действует, как «Сезам…», а после его поцелуев я ничего не хочу знать – только ночь, наготу, молчаливую и тщетную борьбу с собой, когда я пытаюсь удержаться минуту… другую… на пороге несказанной радости.
– Рено, что это за люди?
Потушив лампу, я занимаю своё место в постели – на плече у Рено, моей любимой подушки. Рено укладывает свои длинные ноги (я сейчас же пристраиваю рядом свои– зябкие) и тычется затылком в поисках подушки, набитой конским волосом. Это непременные приготовления ко сну, а им предшествуют или же за ними следуют столь же обычные ритуалы другого характера…
– Какие люди, деточка?
– Супруги Рези… Я хотела сказать – Ламбруки.
– Ага! Я так и думал, что жена тебе понравится.
– Отвечайте же скорей: что за люди?
– Это прелестная пара, но они друг другу не подходят. В жене я ценю молочно-голубого цвета плечи и шею в прожилках – она показывает то и другое на званых вечерах, как может это делать молодая женщина, заботящаяся о чужом удовольствии; ей свойственны вкрадчивое кокетство – скорее в жестах, нежели в словах – и вкус к временным стоянкам. В муже меня заинтересовали его когда-то могучие, а теперь обвислые плечи, что тщательно скрывается, как и пришедшая в упадок былая корректность. Полковник Ламбрук навсегда остался в Колониях, возвратилась оттуда лишь его физическая оболочка. Он продолжает там никому не ведомую жизнь, перестаёт отвечать, как только с ним заговаривают о его дорогой Индии, и угрюмо молчит, пытаясь таким образом скрыть волнение. Какое страдание, какая красота, какая мука влекут его в Индию и удерживают там? И ведь так редко бывает, девочка моя, чтобы человек, замкнувшись в себе, хранил свою тайну от целого света!
(Так ли редко, дорогой Рено?)
– …когда я впервые ужинал у них два года тому назад в фантастическом «базаре», который служил им в те времени «семейным очагом», мне довелось отведать великолепного бургундского. Я полюбопытствовал, могу ли я где-нибудь найти нечто подобное. «Да, – отвечает Ламбрук, – и оно недорогое». Он на мгновенье задумывается и, подняв бронзовое лицо, продолжает: «Двадцать рупий, кажется». А ведь прошло уже десять лет, как он вернулся в Европу!
Я молча думаю с минуту, прижавшись к горячему плечу моего друга.
– Рено, он любит жену?
– Может быть, да, а может, и нет. Он держится с ней с грубоватой вежливостью, которая, на мой взгляд, не предвещает ничего хорошего.
– Она ему изменяет?
– Птенчик мой! Откуда же мне знать?
– Она, чёрт возьми, могла бы быть вашей любовницей…
Мой уверенный тон заставляет Рено не вовремя развеселиться, и он трясётся от смеха.
– Успокойтесь! Вы разоряете моё гнездо. Я не сказала ничего необычного. В этом предположении нет ничего, что могло бы шокировать вас или её… У неё есть подруги среди ваших знакомых?
– Да это допрос… хуже того – заинтересованность! Клодина, я не помню, чтобы тебя так занимала незнакомка!
– Верно. Но я же формируюсь. Вы обвиняете меня в дикости: я стремлюсь завязывать связи. И вот я встречаю хорошенькую женщину, мне приятен её голос, я по достоинству оценила её руки – я о ней расспрашиваю и…
– Клодина! – поддразнивает меня Рено. – Не кажется ли тебе, что у Рези есть нечто общее с Люс в… в коже?
Мерзкий тип! Одним словом всё изгадит!.. Я подпрыгиваю, словно рыба из воды, и отправляюсь искать прибежища в восточной части необъятной кровати, в целинных и холодных её областях…
Большой пропуск в моём дневнике. Я не привела в порядок записи о своих впечатлениях и, конечно же, ошибусь, когда стану подводить итог. Жизнь продолжается. Холодно. Рено возбуждён. Он возит меня с одной премьеры на другую и во всеуслышание заявляет о том, что театр ему докучает, что неизбежная грубость «посредственности» его возмущает…
– Рено! – удивляется наивная Клодина. – Зачем же вы туда ходите?
– Чтобы… Ты будешь меня презирать, о мой строгий судья… Чтобы повидаться с людьми. Чтобы увидеть, общается ли ещё Аннин де Ли с мисс Флосси, подругой Вилли; удался ли хорошенькой госпоже Мюндоэ роман с Ребу; по-прежнему ли соблазнительная Полэр, известная благодаря своим глазкам влюблённой газели, побивает все рекорды в соревнованиях на осиную талию. Мне непременно нужно констатировать, что лиричный Мендес рассказывает в половине первого ночи о своём ярком отчёте, сидя на обеденном столе; я должен распустить перья перед смешной мамашей Барман, у которой, по словам Можи, сам Гревей ходит в помощниках; я восхищаюсь полковничьим эгретом, венчающим эту заплывшую жиром куницу, госпожу де Сен-Никетес…
Нет, я его не презираю за такое легкомыслие. Впрочем, это не имеет значения, ведь я его люблю. Я знаю, что публика, которая приходит на премьеры, за действием пьесы никогда не следит. А я вслушиваюсь в текст и слежу с упоением… или же говорю: «Отвратительно!» Рено завидует, что мои убеждения просты и непосредственны: «Ты ещё молода, девочка моя…» Не моложе его! Он любит меня, работает, ходит с визитами, перемывает косточки, ужинает в городе, принимает у себя по пятницам в четыре часа и ещё находит время, чтобы позаботиться о собольем палантине для меня. Бывает, что, когда мы остаёмся с глазу на глаз, он даёт своему красивому лицу отдохнуть, прижимает меня к себе и тяжко вздыхает: «Клодина! Девочка моя дорогая! До чего же я старый! Я чувствую, как с каждой минутой у меня прибавляется по морщине; это больно, до чего же это больно!» Если бы он знал… Я обожаю Рено, когда он такой, и надеюсь, что с годами уляжется его лихорадочная страсть к светской жизни! И вот когда наконец ему надоест хорохориться, тогда-то мы и будем полностью принадлежать друг другу, а сейчас я не в состоянии угнаться за этим сорокапятилетним резвым мальчиком.
В один прекрасный день я вспомнила забавного андалузского скульптора и его комплимент: «Вы свинья, мадам» и решила открыть для себя Лувр, полюбоваться без всякого гида полотнами Рубенса. Завернувшись в соболий палантин и украсив голову такой же шапочкой, похожей на зверька, свернувшегося у меня на макушке, я отважно двинулась в путь, хотя совершенно не умею ориентироваться и, подобно свадебному кортежу Жервезы, описанному в «Западне» Золя, стала плутать за каждым поворотом галереи. Как в лесу я интуитивно угадываю направление и время, так в помещении я сейчас же теряю ориентир.
Нашла зал Рубенса. Его картины мне отвратительны. Вот так! Отвратительны! Я честно пытаюсь целых полчаса буквально вбить их себе в башку (это влияние острослова Можи); нет! это мясо, глыбы мяса, эта Мария Медичи – толстомордая и напудренная, с каскадом грудей, её муж – этот откормленный вояка, которого похищает торжествующий упитанный зефир – нет, нет и нет! Мне этого не понять. Если бы Рено и его подруги узнали об этом!.. Ну, тем хуже! Если меня загонят в угол, я скажу всё, что думаю.
Опечалившись, я ухожу семенящей походкой – борюсь с желанием прокатиться по гладкому паркету – сквозь строй разглядывающих меня шедевров.
Ага! Отлично! Вот испанцы и итальянцы, они-то кое-чего стоили. Хватило всё-таки наглости повесить табличку «Св. Жан-Батист» под этим соблазнительным тонким портретом да Винчи; он улыбается, чуть наклонив голову, точь-в-точь как мадемуазель Морено…
Боже! До чего хорош! Вот так, случайно, я набрела на портрет мальчика, способного заставить меня покаяться. Какое счастье, что он живёт только на полотне! Кто это? «Портрет скульптора» кисти Бронзино.[6] Представляю себе, как я запустила бы руку в его тёмные прямые волосы… Мысленно провожу рукой по его выпуклому лбу и изогнутым выразительным губам, целую эти глаза циничного пажа… И эта белая голая рука лепила статуэтки? Хотела бы я в это поверить! Глядя на его лицо, воображаю, как эта нежная кожа без единого волоска с годами обретает зеленоватый оттенок слоновой кости в паху и под коленями… Кожа у него тёплая повсюду, даже на икрах… А ладони чуть взмокшие…
Чем я тут занимаюсь? Красная, я озираюсь по сторонам, ещё не совсем придя в себя… Чем занимаюсь-то? Изменяю Рено, чёрт возьми!
Надо бы рассказать Рези об этом эстетическом адюльтере. Она будет смеяться своим необыкновенным смехом, который вспыхивает вдруг, зато замирает не сразу. Мы с Рези подружились. Нам хватило двух недель на то, что Рено назвал бы «старой любовью».
Ну да, мы близкие подруги. Я ею восхищаюсь, она мною очарована. Кстати сказать, полного доверия мы друг другу не оказываем. Несомненно, для этого ещё рановато. Уж для меня во всяком случае слишком рано. Рези не заслуживает того, чтобы Клодина пустила её в самые сокровенные утолки своей души. Я часто у неё бываю, предоставляю в её распоряжение свою кудрявую голову, которую она с удовольствием причёсывает – напрасный труд! – а также своё лицо, которое она любит, не выказывая ревности: берёт его в свои нежные руки и смотрит, как, по её выражению, «в глазах пляшут искорки».
Она же воздаёт мне почести своей красотой и грацией и делает это с кокетливой настойчивостью. Уже несколько дней как я захожу к ней каждое утро в одиннадцать.
Ламбруки живут на проспекте Клебер в одной из современных квартир, где многим пожертвовали ради того, чтобы была консьержка, лестница, две гостиные – изящная обшивка, неплохая копия юного Людовика XV кисти Ван Лоо, – но для жилых комнат остаётся не так уж много места, и они разбросаны там и сям. Рези ночует в длинной тёмной комнате, а одевается в галерее. Однако мне нравится эта неудобная, всегда слишком натопленная туалетная. Рези одевается и раздевается там, предоставляя мне любоваться волшебным зрелищем. Я смиренно сижу в низком кресле и наслаждаюсь.
Вот она в сорочке; её чудесные волосы, розоватые в ослепительном электрическом свете, приобретают холодно-зеленоватый оттенок при голубом свете пасмурного дня, и вспыхивают, рассыпаясь по плечам. Падающего из окна света недостаточно в любое время, и сильные электрические лампы освещают Рези как на театральной сцене.
Она расчёсывает шапку лёгких как туман волос…
Взмах расчёски, и золотая охапка как по волшебству собрана воедино, приглажена, заколота и степенно поднимается волнами к затылку. Как только волосы там держатся?! Широко распахнув глаза, я готова взмолиться: «Ещё!» Рези некогда ждать, пока я решусь. Новый взмах волшебной палочки – и красавица одета в тёмное облегающее платье, а на голове у неё шляпа: она готова к выходу. Корсет с прямыми пластинками, вызывающие панталоны, мягкая послушная юбка обрушились на неё, словно хищные птицы. Торжествующая Рези смотрит на меня и смеётся.
Её раздевание не менее привлекательно. Вся одежда падает разом, словно вещи связаны между собой: прелестная соперница Фреголи[7] остаётся в одной сорочке… и в шляпе. До чего эта шляпа меня раздражает и удивляет! Именно шляпу она прикалывает к волосам ещё до того, как надет корсет, именно шляпу она снимает уже после того, как спущены чулки. Она говорит, что даже купается в шляпе.
– Чем же объяснить этот культ головного убора?
– Не знаю… Вопрос целомудрия, может быть. Если бы мне довелось спасаться ночью от пожара, я бы согласилась выбежать на улицу голой, лишь бы на голове была шляпа.
– Здорово! Пожарные были бы в восторге.
Она оказалась ещё красивее и не такой высокой, как при первой нашей встрече. У неё белая кожа, которую весьма редко оживляет румянец, в ней всё удивительно гармонично сочетается. Её близорукость, изменчивый серый цвет глаз, постоянно порхающие ресницы скрывают её мысли. Словом, Рези я знаю недостаточно, несмотря на её непосредственность, которая просится наружу уже во время нашей четвёртой встречи:
– Я без ума от трёх вещей, Клодина: от путешествий, Парижа… и от вас.
Она родилась в Париже, а любит его, как иностранка; её волнуют холодные и сомнительные запахи, театры, улица, время суток, когда свет от газовых рожков бросает красноватые отблески в синих сумерках.
– Нигде, Клодина, нет таких красавиц, как в Париже! (Разумеется, Монтиньи не в счёт, дорогая…) Только в Париже можно встретить привлекательные лица увядающих женщин, накрашенных и до боли затянутых в корсет; этим сорокалетним женщинам удаётся сохранить изящный носик, молодой блеск в глазах; они позволяют собой любоваться, и вы смотрите на них с удовольствием и горечью…
Так может думать и говорить отнюдь не дура. В тот день я сжала её тонкие пальцы (рисовавшие в воздухе витки, словно повторявшие ход её мыслей) будто в благодарность за эти красивые образы. А на следующий день она трепетала от восторга перед витриной Либерти, любуясь простенькими сочетаниями оранжево-жёлтого и розового атласа!
Почти ежедневно около полудня, когда я наконец решаюсь (всегда с опозданием) покинуть проспект Клебер и это низкое кресло, в котором мне так хочется посидеть ещё немного, прежде чем возвратиться к моему мужу и к моему обеду (Рено торопливо меня целует и с аппетитом принимается за кусок розового мяса: он не питается, как я, замухрышками и бананами), дверь в туалетную бесшумно отворяется и на пороге возникает обманчиво-мощная фигура Ламбрука. Ещё вчера…
– Как вы прошли? – в раздражении вскрикивает Рези.
– Через Елисейские поля, – отвечает этот невозмутимый господин. Он неторопливо целует мне руку, оглядывает мой распахнутый палантин, пристально смотрит на Рези в корсете и наконец говорит жене:
– Дорогая! Как много времени вы теряете на то, чтобы вырядиться!
При мысли о том, с какой непостижимой скоростью моя подруга умеет одеваться и раздеваться, я разражаюсь смехом. Ламбрук и бровью не ведёт, только чуть темнеет его бронзовое лицо. Он спрашивает, как поживает Рено, выражает надежду увидеть нас скоро у себя и выходит.
– Рези! Что это с ним?
– Ничего. Однако, Клодина, не смейтесь, когда он со мной говорит… ему кажется, что вы смеётесь над ним.
– Неужели? Мне это безразлично!
– Зато мне – нет. Он устроит мне сцену… Меня угнетает его ревность.
– Ко мне? В каком же качестве? Да он просто дурак!
– Ему не нравится, когда у меня появляется подруга…
Может быть, у мужа на это есть свои причины?
Однако ничто в манерах Рези не наталкивает меня на подобную мысль… Порой она подолгу меня изучает, не мигая, своими близорукими глазами с почти параллельными веками – деталь, благодаря которой они кажутся удлинёнными; её маленький упрямый ротик приоткрывается, становится беззащитным и соблазнительным. Рези ёжится, нервно смеётся, восклицает: «Кто-то наступил на мою могилу!»… и целует меня. Вот и всё. С моей стороны было бы тщеславием предполагать…
Я её не поощряю. Идёт время, я изучаю все оттенки такой разной Рези и жду, что будет дальше. Жду, жду… Скорее лениво, нежели добросовестно.
Я виделась с Рези нынче утром. Однако это для неё не помеха: к пяти часам она теряет терпение и прибегает ко мне сама. Она садится (как ложилась Фаншетта), дважды обойдя каждый уголок. Тёмно-синий костюм ещё больше подчёркивает рыжину её золотых волос; шляпа со сложным плюмажем (кажется, что у неё над головой сшиблись серые чайки, и я ничуть не удивлюсь, услыхав их клёкот) венчает её голову.
Она устраивается в кресле, будто от кого-то прячется… и тяжело вздыхает.
– Что с вами. Рези?
– Ничего. Дома мне скучно. Гости меня утомляют. Один флирт, два, три… и все сегодня! С меня довольно! До чего эти поклонники однообразны! Я едва не набросилась на третьего с кулаками.
– За что же на третьего?
– С интервалом в полчаса после второго это ничтожество в тех же выражениях говорит мне о своей любви! А второй уже повторил это вслед за первым. Эти типы увидят меня не скоро… Ну до чего же все мужчины одинаковы!
– Остановите свой выбор на одном из них: будет больше разнообразия.
– Зато как это утомительно!
– А… вашего мужа от них не воротит?
– Нет. А почему, собственно, его должно воротить от моих гостей?
(Ах вот как?! Уж не принимает ли она меня за дурочку? А меры предосторожности, которые она принимала совсем недавно во время моего утреннего визита? А её уклончивые предупреждения? Однако она не отводит свои ясные глаза, отблёскивающие лунным камнем и серым жемчугом.)
– Позвольте, Рези! Ещё утром третьего дня мне не разрешалось даже смеяться над его словами…
– Ах! (Она грациозно помахивает в воздухе рукой, подгоняя уж не знаю какую мысль…) Клодина! Это же совсем разные вещи: ухаживающие за мной мужчины… и вы.
– Надеюсь! Как и причины, по которым нравлюсь вам я, не могут быть теми же, что и в их случае… (Она бросает на меня молниеносный взгляд и сейчас же отворачивается.)…Скажите по крайней мере, Рези, почему со мной вы видитесь без неудовольствия.
Успокоившись, она откладывает муфту, чтобы руками, затылком, всем своим телом помогать себе говорить. Из глубины низкого кресла она с таинственным видом посылает мне сладчайшую, улыбку:
– Вы хотите знать, почему мне нравитесь, Клодина?
Я могла бы сказать, что нахожу вас красивой, и мне этого было бы достаточно, однако вам, гордячке, этого мало… Почему вы мне нравитесь? Потому что ваши глаза и волосы, отлитые из одного и того же металла – всё, что осталось от ожившей статуэтки из светлой бронзы; потому что ваш нежный голосок удивительным образом сочетается с голубоватыми жестами; потому что вы, дикарка, ради меня становитесь совсем ручной; потому что вас заставляет краснеть какая-нибудь тайная мысль, которая угадывается или вырывается у вас невзначай, словно чья-то дерзкая рука полезла к вам под юбку; потому что…
Я остановила её жестом – грубоватым, что верно, то верно: я почувствовала раздражение и смутилась при мысли, что меня так легко разгадать… Рассержусь ли я? Расстаться с ней навсегда? Она предупреждает нежелательное для неё решение пылким поцелуем вот здесь, рядом с ухом. Едва почувствовав прикосновение её плюмажа сквозь мех, в который я кутаюсь, я почти не успеваю насладиться запахом Рези, обманчивой простотой её духов… как входит Рено.
Я в смущении откидываюсь в кресле. Смущение объясняется не моим поведением, не торопливым поцелуем Рези, а проницательным взглядом Рено и весёлой, почти ободряющей снисходительностью, которую я читаю в его глазах. Он целует моей подруге руку со словами:
– Прошу вас не беспокоиться из-за меня, я не хотел вам мешать.
– А вы ничуть не мешаете! – восклицает она. – Ничем и никому! Я, напротив, прошу помочь мне развеселить Клодину: она не хочет мне простить самый искрений комплимент.
– Очень искренний, я в этом не сомневаюсь, однако с достаточно ли убедительной интонацией вы его произнесли? Моя Клодина – девочка очень серьёзная и очень страстная, она не смогла бы принять (поскольку Рено принадлежит к поколению, которое ещё читало Мюссе, он напевает мелодию к серенаде «Дон Жуана»), не смогла бы стерпеть определённые насмешки, скрывающиеся за определёнными словами.
– Рено! Прошу вас! Не будем раскрывать семейные тайны!
(Я стала терять терпение и, сама того не желая, возвысила голос, но Рези обращается ко мне с обезоруживающей улыбкой.)
– Напротив, Клодина, напротив! Не мешайте ему, пусть говорит… Меня это чрезвычайно интересует, и потом, дайте усладу хотя бы моему слуху: я скоро совсем позабуду, как звучит слово «любовь»…
Хм! По-моему, не к лицу позабытой-позаброшенной супруге такой натиск: совсем недавно эта томная притворщица пыталась заигрывать со мной; однако Рено понятия об этом не имеет. Рези разжалобила моего щедрого Рено, и он оглядывает её с головы до пят; я не могу удержаться от смеха, когда он восклицает:
– Бедная девочка! Такая молодая, а уже лишена того, что украшает жизнь и делает её богаче! Заходите ко мне; утешение ждёт вас на диване моего жертвенного кабинета, а обойдётся это вам дешевле, чем у специалиста.
– Дешевле? Не доверяю я вашим скидкам!..
– Ну посудите сами: зачем мне вас обирать?! И потом, каждый человек либо честен, либо нет…
– Вы – нет. Спасибо, не хочу.
– Заплатите мне сколько захотите.
– Чем? – Она полуприкрывает свои дымчатые глаза. – Вы, вероятно, могли бы ограничиться пустяками, пренебрегая сутью дела.
– Я бы предпочёл дойти до сути.
Рези чувствует себя отчасти оскорблённой, и в то же время ей это льстит: она нахохлилась и выставила грудь колесом, совсем как Фаншетта, натолкнувшаяся в траве на кузнечика-переростка или жука-рогача.
– Говорю же вам: нет, благодетель рода человеческого! Я, кстати, до такой жизни ещё не дошла.
– До чего же вы уже дошли?
– Я способна расплатиться.
– Как именно? Расплатиться можно по-разному, существует по крайней мере два способа…
Её лицо розовеет, она старательно щурится, словно вдруг вспомнив о своей близорукости, потом оборачивается ко мне и, подавшись в мою сторону, умоляюще шепчет:
– Клодина! Неужели вы не вызволите меня?..
– Можете рассчитывать на меня, но не на утешения Рено.
– Как?! Неужели ревнуете?
Её глаза загораются злорадством, и она заметно хорошеет. Сидит она на краешке стула, одну ногу вытянув, а другую согнув в колене, и его плотно облегает юбка. Рези наклоняется ко мне в напряжённой позе, будто приготовившись сбежать. Золотистый пушок, покрывающий её щёку, чуть светлее волос; её ресницы беспрестанно подрагивают, они прозрачны подобно невесомому осиному крылышку. Сражённая её прелестями, я совершенно искренне возражаю:
– Ревную? Да нет. Рези, вы слишком хороши: если бы Рено изменил мне с уродиной, я ни за что бы не простила! Какое унижение!
Рено дарит меня одним из тех мудрых взглядов, какие заставляют меня вернуться под его крыло, когда моя дикость или особенно сильный приступ одиночества заводят меня слишком далеко… Я благодарна ему за то, что вот так, поверх головы Рези, он посылает мне столько нежных слов, и всё – без единого звука…
Тем временем Рези-Блондиночка (неужели она меня раскусила?) подходит ближе, нервно потягивается, не вынимая рук из муфты, надувает губки, фыркает и бормочет:
– Ну вот… У меня от вашей сложной психологии живот подвело: я есть хочу!
– Ах, бедняжка! Я же вас голодом заморила! Я подскакиваю и бегу к звонку.
Немного спустя над дымящимися чашками и чуть тронутыми маслом тостами воцаряются мир и согласие. Однако я презираю этих претенциозных людей с их чаем. Чуть расставив ноги и поставив корзинку в образовавшуюся между коленями ямку, я обрываю с гроздьев увядшие ягоды боярышника, ощипываю и давлю в пальцах вялую мушмулу – зимние плоды, которые прислала мне Мели из родных краёв; ягоды залежались в погребе и попахивают плесенью.
А поскольку один из тостов, подгоревший и почерневший, наполняет комнату запахом креозота и свежего угля, воображение сейчас же переносит меня в Монтиньи, к камину с колпаком… Мне кажется… да, я ясно вижу, как Мели подбрасывает охапку сырого хвороста, и греющаяся у огня Фаншетта немного отодвигается: её возмущают нахальные языки пламени, как и потрескивание только что брошенных в огонь дров…
– Девочка моя!..
Оказывается, я размечталась вслух! Рено это развеселило, а Рези повергло в изумление. Я смущаюсь и краснею.
Сиротская зима тянется мучительно долго. Дни то пролетают незаметно, то им не видно конца. Театры, ужины, утренние приёмы и концерты до часу ночи, а иногда и до двух. Рено держится молодцом, а мне так тяжело!
Просыпаемся поздно, под кипой газет не видно кровати. Всё своё внимание Рено уделяет «отношениям с Англией», а также с Клодиной, которая лежит на животе, предаваясь злорадным мечтам; Клодина любит поспать, а эта неестественная жизнь лишает её такой возможности. Наскоро обедаем; муж ест розовое мясо, я – всевозможные сладости. От двух до пяти– разнообразная программа.
Зато неизменной остаётся моя встреча с Рези либо у неё, либо у меня. Она всё больше ко мне привязывается и не скрывает этого. Я тоже к ней привязываюсь, но, признаться, стараюсь это скрывать…
Почти каждый вечер в семь часов мы выходим после чая или из какого-нибудь бара, где Рези согревается коктейлем, а я ем пересоленный хрустящий картофель, и я с тихим бешенством думаю о том, что надо одеваться, что Рено уже ждёт меня, поправляя жемчужные запонки. Я должна признаться (моя скромность просто кровью обливается!), что благодаря короткой и удобной причёске одинаково волную и женщин и мужчин.
Из-за моей стриженой головы и холодности по отношению к мужчинам те думают: «Она интересуется женщинами». Непостижимо! Раз я не люблю мужчин, я должна искать общества женщин… О примитивный мужской ум!..
Кстати сказать, женщины – тоже из-за коротко стриженных волос и равнодушия к их мужьям и любовникам– склонны думать так же, как они. Я несколько раз ловила на себе прелестные любопытные взоры, стыдливые и пугливые. Стоило мне задержаться взглядом на чьём-нибудь зеркальном плечике или безупречной шее, как дама сейчас же краснела. Кроме того, мне пришлось выдержать натиск завистниц, что вполне понятно. Однако эти салонные профессионалки – квадратная дама лет пятидесяти, а то и больше; тощая брюнетка с плоским задом; израильтянка с моноклем, сующая свой острый нос в чужие декольте, будто намереваясь выудить оттуда обронённое кольцо, – эти обольстительницы открыли в Клодине равнодушие, которое их заметно шокировало. Это едва не стоило ей репутации. Зато вечером третьего дня я приметила на губах у одной из моих «приятельниц» (читай: одной молодой писательницы, с которой я встречалась раз пять) до того злую усмешку при имени Рези, что сейчас же всё поняла. Думаю, муж Рези ещё попортит ей кровь, когда сплетники прожужжат ему все уши.
Впрочем, мне на днях почти удалось (сама не знаю, как это вышло) приручить этого неприятного человека.
По спине у меня бегали мурашки, и я против воли слушала, как на половине Рено мужчины, молодые и лысые, до хрипоты спорили о литературе… «Его последний роман? Да не поддавайтесь вы шумихе! Он выдержал всего шесть изданий. – Нет, восемь!.. – А я вам говорю – шесть! Да при том же всего по двести экземпляров, включая сверхтиражные, как я слышал от Севена! – Ещё бы! Книготорговец печатает, что хочет, он забирает весь тираж, и хоп! – Вот, к примеру, мой "Анализ души": один только Флури продавал но двадцать экземпляров в день, а я за всё про всё заработал тридцать луидоров. И при том мне отказались выплатить жалкий аванс в сто пятьдесят франков, каково? – Подумать только! Мы же не получаем пи гроша за сверхтиражные экземпляры, это возмутительно! Я выклянчиваю книжки под тем предлогом, что они мне нужны для переиздания, и загоняю их Гужи. – Я тоже. – И я, чёрт побери, надо же как-то выкручиваться! – Дорогой мой! Получая сорок процентов, а с розницы – все пятьдесят два, издатель запросто мог бы платить нам по сорок су с книги, и оставшаяся прибыль составила бы кругленькую сумму. – Он мог бы безболезненно расстаться и с тридцатью су. – Какие паразиты, а?»
Они говорили все разом, с той убеждённостью, какая бывает, когда собеседники сознательно не слышат друг друга; я подумала о Киплинге, об обезьяньей стае и прошептала: «Бандар-лог!» Стоявший рядом Ламбрук при этом хорошо знакомом слове из языка индусов судорожно сжал челюсти. Он в упор взглянул на меня своими промытыми светлыми глазами. Однако на другом конце салона раздался нервный смешок Рези, и он поднялся с безразличным видом посмотреть, с кем это его жена так шумно веселится.
Известный романист (специальность: копание в женских душах) занял место этого вечно подозрительного мужа и, играя на публику, шепнул мне на ухо: «До чего отвратная погода!» с выражением человека, который бьётся в экстазе. Я уже привыкла к ухваткам этого «красавчика», как его прозвал Рено, и не стала ему мешать: он мирно продолжал свою импровизацию, подготовленную перед зеркалом и разыгранную не без таланта, о расслабляющей зиме без холодов, о восхитительном малодушии, которое приносят с собой ранние сумерки, об обманчивой весне, которую сулит этот тревожный декабрь… Более обещающая весна – тёплая, трепещет под пушистыми мехами (недурной переход)… Отсюда понятно и желание сбросить эти пышные меха на умеющий хранить тайны ковёр всё понимающей холостяцкой квартиры, а она всего в двух шагах отсюда… Дай этому недоумку волю, и он, пожалуй, потащит меня туда…
Я напускаю на себя мечтательный вид, притворяюсь, что уже растаяла под его обаянием, и шепчу:
– Да… Улица пропитана пресным запахом, опьяняющим и вредным, как в оранжерее…
И резко заканчиваю, утрируя диалект родных мест, дабы окончательно сбить с толку своего собеседника:
– Ах, чёрт побери, хлеба нынче взойдут раньше обычного, да и овсы тоже!
Должно быть, он решил, что я полная дура! Я заплясала бы от радости по такому случаю. Однако я обидела этого чудака до глубины души и теперь он тоже на каждом углу станет твердить, гордо выпятив грудь: «Клодина? Ей только с женщинами общаться!..», а про себя прибавит: «… Раз она не подходит мне».
С женщинами? Жалкие идиоты! Зашли бы они к нам в спальню ровно в десять утра!.. Бог мой! Они бы увидели, умею ли я «общаться с мужчинами»!
Я получаю от папы напыщенное и грустное письмо. Вопреки обычному своему жизнелюбию, папа раздражён: не хватает меня. В Париже ему было на меня наплевать. Там старый дом показался ему опустевшим, нет его любимой Клодины. Нет больше тихой девочки с книгой на коленях, забившейся в огромное кресло, которое трещит по швам, – или взобравшейся на орешник и хрустящей, словно белка, ореховой шелухой, – или вытянувшейся во всю длину и повисшей на заборе в предвкушении соседских слив, а также георгинов мамаши Адольф… Папа ни о чём таком не пишет, его удерживает чувство собственного достоинства; да и благородство его стиля не допускает никакого ребячества. Однако он так думает. И я вместе с ним.
Я дрожу, меня глубоко взволновали воспоминания, я полна сожалений и бегу к Рено в надежде» укрыться и заснуть у него на плече. Мой дорогой! Я его отвлекаю (он никогда не ругается!) от добродетельного труда, он не сразу понимает причину того, что называет моими «крушениями». Но он великодушен и всегда готов меня утешить, не задавая лишних вопросов. Я прижимаюсь к его тёплой груди, и мираж родных мест становится неясным, рассеивается. Он моего прикосновения Рено мгновенно приходит в волнение, крепче прижимает меня к себе, и я вижу над собой рыжеватые усы моего господина, от которых пахнет ландышем; я поднимаю к нему лицо и с улыбкой говорю:
– Вы пахнете как курящая блондинка!..
На сей раз он задет за живое и сейчас же парирует:
– А как пахнет Рези?
– Рези?.. – я на мгновение задумываюсь. – От неё попахивает враньём.
– Враньём? Не станешь же ты утверждать, что она тебя не любит, а только притворяется?
– Нет, дорогой. Я сказала больше того, что хотела сказать. Рези не врёт, она скрывает. Она копит. Не болтает много, как, например, щедрая на подробности прелестница ван Лангендонк, которая, начиная фразу словами: «Я только что из Галери Лафайет», заканчивает так: «Пять минут назад я была в Сен-Пьер-де-Монруж». Рези себе таких излишеств не позволяет, за что я ей весьма признательна. Но я чувствую, что она скрывает, что аккуратно прячет всякие мерзости (как Фаншетта к себе в миску) чистенькими лапками; это какие-нибудь банальные гадкие секреты, если угодно, но они есть.
– Тебе что-нибудь известно?
– Ничего, чёрт возьми, если вы говорите о доказательствах! Просто я нюхом чую неладное. Знаете, у её горничной странные причуды; например, по утрам она подаёт хозяйке измятую бумажку: «Мадам забыла это вчера в кармане…» Я однажды случайно заглянула в эту «вчерашнюю» записку и готова руку дать на отсечение, что конверт был запечатан. Что вы думаете о подобной почтовой системе? Даже сам подозрительный Ламбрук не усмотрел бы в этом ничего… кроме старой записки.
– Гениально! – размышляет вслух Рено.
– Итак, вы понимаете, дорогой мой!.. Эта скрытная Рези приходит сюда, вся этакая бело-золотистая, смотрит своими светлыми преданными глазами, пахнет, словно пастушка, папоротником и ирисом…
– Эй, Клодина!
– В чём дело?
– Как это в чём? Что с тобой? Или мне всё это снится? Моя рассеянная презрительная Клодина кем-то вдруг не на шутку заинтересовалась, и этот кто-то– Рези. Клодина её изучает, Клодина размышляет, Клодина делает выводы! Ах так, мадемуазель (он смешно ворчит, скрестив руки на груди – как папа), мы, значит, влюблены!
Я отступаю на шаг, смотрю на него исподлобья насупившись, так что он пугается:
– В чём дело? Опять сердишься? Решительно, ты склонна всё драматизировать!
– Зато вы ничего не принимаете всерьёз!
– А тебя?
Он выжидает, но я не шевелюсь.
– Иди же ко мне, глупенькая! Как ты меня мучаешь!
Я молча сажусь к нему на колени, ещё окончательно не успокоившись.
– Клодина! Открой мне один секрет.
– Какой?
– Почему, когда приходится признаться твоему старому мужу-папочке в своих тайных помыслах, ты, дикарка, артачишься, ты стыдлива сверх всякой меры. Боишься показать всему этому импозантному парижскому свету свой зад?
– Наивный вы человек! Я же знаю, что мой зад – упругий, загорелый, гладкий, чего же мне стыдиться? Зато я совсем не уверена в своих тайных мыслях, в том, что они чисты и как будут встречены… А стыдливость свою я употребляю на то, чтобы скрыть свои слабые и некрасивые места.
Нынче утром я застаю Рено в тихом бешенстве. Молча наблюдаю, как он швыряет в огонь скомканные бумаги, внезапно набрасывается на целую кучу брошюр, лежащих у него на столе, и сваливает всю охапку в камин на потрескивающие угли. Потом метким броском отправляет небольшую пепельницу в корзину для бумаг. Достаётся и Эрнесту, за то что не сразу прибежал на зов хозяина: в его адрес летят страшные угрозы. Пожалуй, становится жарко!
Я сажусь, скрестив руки на груди, и жду. Взгляд Рено останавливается на мне, и он смягчается:
– Это ты, лапочка? Я не видел, как ты вошла. Откуда ты?
– От Рези.
– Как же я не догадался?! Дорогая! Прости, что я так расшумелся: я недоволен.
– Я и не подозревала, что вы на такое способны!
– Не смейся… Поди ко мне. Успокой меня. Мне стало кое-что известно о Марселе… Это начинает надоедать… До чего гнусно!
– Да ну?
Я вспоминаю последнее посещение своего пасынка: он в самом деле переходит всякие границы. Из непонятного бахвальства пересказывает мне то, о чём я его не спрашиваю, и, между прочим, излагает подробности одной своей встречи на улице Помп в час, когда из дверей лицея Жансон выходят детишки в синих беретах… В тот день Рези не дала ему досказать свою одиссею; она появилась неожиданно и почти час пыталась покорить его своими взглядами и самыми соблазнительными позами. Наконец устала, сдалась, повернулась ко мне, махнула рукой, словно хотела сказать: «Уф! С меня довольно!». Я рассмеялась, А Марсель (этот свихнувшийся малый далеко не глуп) презрительно усмехнулся.
Впрочем, презрение сменилось нескрываемым любопытством, как только он увидел, что Рези пустила в ход свой арсенал (всё тот же!) и против меня… Демонстрируя неуместную скромность. Марсель удалился.
Что же ещё натворил этот мальчишка?
Кладу голову к Рено на колени и жду, когда он заговорит.
– Всё то же, дорогая! Мой очаровательный сынок обстреливает новогреческой литературой отпрыска добропорядочного семейства… Молчишь, девочка моя? Увы, пора бы мне к этому привыкнуть!.. Однако эти истории приводят меня в ужас!
– Почему!
(Я говорю едва слышно, но Рено так и взвивается.)
– Как это – почему?!
– Почему, хочу я знать, дорогой мой, вы кокетливо, почти одобрительно улыбаетесь при мысли, что Люс была мне больше чем близкой подругой… а также надеясь – я повторяю: надеясь! – что Рези могла бы стать более удачливой Люс?
До чего забавное выражение лица у моего мужа в эту минуту! Крайнее изумление, нечто вроде оскорблённого целомудрия, растерянная добродушная улыбка волнами набегают на его лицо, словно тень от облаков – на равнину… Наконец он с торжествующим видом восклицает:
– Это не одно и то же!
– Да, к счастью, не совсем…
– Это совсем не одно и то же! Вы-то можете делать всё, что угодно. Это прелестно и… это не имеет значения…
– Не имеет значения? Я с вами не соглашусь.
– Не спорьте! Для вас, милых юных красавиц, это… как бы сказать?., способ утешиться, отдохнуть, отвлечься от нас, мужчин…
– О!..
– …или по крайней мере компенсировать убытки, логическая возможность найти более безупречного партнёра, равного вам по красоте, в котором вы узнаёте собственную чувственность, свои слабости… Если бы я осмелился (но я не посмею!), я бы сказал, что некоторым женщинам просто необходима женщина, чтобы не потерять вкус к мужчине.
(Нет, не понимаю! До чего больно любить друг друга так, как любим мы, и чувствовать, что у нас совсем мало общего!.. Когда я слышу нечто подобное от своего мужа, мне это представляется парадоксом, который ему льстит и за которым в то же время скрывается его нездоровое, как мне иногда кажется, любопытство.)
Рези стала моей тенью. В любое время она рядом, «опутывая» меня своими гармоничными жестами, линия которых уходит в бесконечность. Рези оглушает меня своими словами, взглядами, своей бурной мыслью, и я жду, что мысль эта вот-вот брызнет искрами из её тонких пальцев… Я теряю покой, чувствуя, что она сильнее меня, что её воля упрямо пульсирует в каждой жилке, а потом цепенеет.
Бывает так, что в раздражении, взвинченная её неотвязной нежностью, её дразнящей красотой, которую она бесстыдно выставляет передо мной напоказ, я готова спросить напрямик: «Чего вы добиваетесь?» А вдруг она возьмёт да и ответит?.. И я предпочитаю трусливо отмалчиваться, лишь бы иметь возможность, не совершая греха, быть с ней рядом: за три месяца я сильно к ней привязалась.
Если не считать настойчивого взгляда её серых глаз и наивного, по-детски непосредственного восклицания: «Боже! До чего я вас люблю!», которое вырывалось у неё довольно часто, я пожаловаться ни на что не могу.
Что же ей во мне приглянулось? Я верю в искренность ежели не её нежности, то во всяком случае её желания и боюсь – да-да, уже боюсь! – что только это желание и движет ею.
Вчера меня мучила мигрень, я чувствовала себя подавленно в надвигавшихся сумерках и позволила Рези положить руки мне на глаза. Прикрыв веки, я представляла себе, как она у меня за спиной склонилась в изящной позе, стройная в своём облегающем платье серо-стального цвета, и эта сталь отражается в её глазах.
На нас обеих обрушивается опасное молчание. Однако она не позволила себе ни смелого жеста, ни поцелуя. Лишь произнесла спустя несколько минут: «О дорогая моя, дорогая…» и снова умолкла.
Когда часы пробили семь раз, я стряхнула с себя оцепенение и побежала к выключателю зажечь свет. Улыбка Рези, показавшейся мне бледной и беззащитной в ярком свете, натолкнулась на моё строгое, неулыбчивое, отчуждённое лицо.
Подавив улыбку, она стала искать перчатки, потом изящным жестом поправила неизменную шляпу, жарко выдохнула рядом с моим ухом «прощайте» и «до завтра», и я осталась наедине с зеркалом, вслушиваясь в её легкие удаляющиеся шаги.
Не обманывай себя, Клодина! Твоя задумчивая поза перед этим зеркалом, твой виноватый вид выражают беспокойство, не так ли? Ты чувствуешь себя неуютно, глядя на жаждущие ласк лицо и глаза табачного цвета, которые так нравятся твоей подруге!
– Девочка моя дорогая, о чём ты задумалась? (Его дорогая девочка сидит, поджав ноги, на огромной кровати, с которой она ещё не вставала. Завернувшись в широкую розовую сорочку, она в задумчивости чистит ногти на правой ноге при помощи крохотных щипцов с ручками слоновой кости. И молчит как рыба.)
– Девочка моя дорогая, о чём ты задумалась?
Я поднимаю взлохмаченную голову и смотрю на Рено – он уже одет и завязывает галстук, – словно вижу его впервые в жизни.
– Вот именно, о чём ты думаешь? С тех пор как ты проснулась, ты не сказала мне ни слова. Ты покорно приняла все мои ласки, не обратив на меня ни малейшего внимания!
Я хочу возразить и поднимаю руку.
– …я, очевидно, преувеличиваю, но ты действительно была очень рассеяна, Клодина…
– Вы меня удивляете!
– А как я сам удивлён!… Ты меня приучила к большей сознательности в этих играх…
– Это не игры.
– Можешь называть их хоть кошмарами, моё замечание остаётся в силе. Где ты мысленно бродишь нынче утром, пташка моя?
– …Я бы хотела съездить в деревню, – немного подумав, отвечаю я.
– Ах, Клодина! – Рено удручён. – Взгляни-ка! – Он приподымает занавеску. По крышам струится вода, водосточные жёлобы полны до краёв. – Тебе по душе такое утро? А представь себе, как грязная вода течёт по земле, мокрый подол юбки липнет к ногам, только вообрази, как холодные капли затекают в уши…
– Об этом я и думаю. Вы так и не поняли прелести деревенского дождя, когда сабо с чавканьем отрываются от мокрой земли, оставляя размытый след, а на каждой ворсинке капюшона висит по капельке; капюшон заострён кверху и похож на крышу небольшого домика, а в каждом таком домике можно укрыться от дождя, и потому очень весело… Разумеется, холод пробирает до костей, но ногам тепло от горячих каштанов, которыми полны карманы, а руки прячутся в варежках…
– Молчи! У меня скулы сводит, как представлю себе, что шерстяные варежки касаются кончиков ногтей! Если ты соскучилась по своему Монтиньи, если действительно так этого хочешь, если это твоя «последняя воля» (он вздыхает)… мы поедем.
Нет, не поедем. Правда, я искренне прониклась этой идеей, проговорив её вслух. Однако сегодня утром я думала не о родных краях, не ностальгия заставила меня молчать. Тут другое…
Дело в том… в том… что начались «военные действия», а эта готовая на любое предательство влюблённая Рези видит, что я в нерешительности, что у меня нет плана операции.
Я была у неё в пять часов, потому что теперь она слишком много для меня значит; и как бы я к этому ни относилась – с восторгом или с бешенством, – я не в силах ничего изменить.
Когда мы одни, мне чудится, будто она поджаривается в преисподней. В отблесках от очага кажется, что она охвачена пламенем и светится насквозь; шапка лёгких волос превращается в красноватый нимб, а очертания силуэта размыты в медно-красных сумерках, словно она только что вышла из расплавленного металла. Она улыбается, не вставая, и протягивает мне руки. Рези такая ласковая, что я теряюсь и целую её всего разочек.
– Совсем одна, Рези?
– Нет, я была с вами.
– Со мной… и с кем?
– С вами… и со мной. Мне этого довольно. Но не вам, увы!
– Ошибаетесь, дорогая.
Она качает головой, и это покачивание передаётся всему её телу, приходят в движение даже поджатые под низким пуфом ноги. Нежное задумчивое лицо выхвачено из темноты пляшущими языками пламени, только тонут в сумерках уголки её губ; Рези пристально меня разглядывает.
Вот на чём мы остановились! И это всё, что я обнаружила? Разве я не могла, перед тем как она меня захватит и насытится мною, объясниться с нею чётко и Ясно? Рези – не Люс, девочка для битья, которой надолго хватает одной ласки. Я, я во всём виновата…
Она печально рассматривает меня снизу и вполголоса говорит:
– О Клодина! Зачем вы так недоверчивы? Когда я сажусь слишком близко, я непременно чувствую, как вы напрягаете ногу, безучастную, словно ножка кресла: она отодвигается от вас, будто чужая, и мешает мне приблизиться к вам. «Мешает мне!» Вы хотите меня обидеть, Клодина, если думаете о физической обороне! Разве хоть раз мои губы коснулись вашего лица насильно, в чём принято потом винить спешку или темноту? Вы держались со мной как с… больной, как с… профессионалкой, за которой надо присматривать, перед которой необходимо сдерживать и свои чувства…
Она умолкает и ждёт. Я ничего не говорю. Она продолжает несколько мягче:
– Дорогая! Дорогая моя! Неужели это вы, умная и чуткая Клодина, загоняете нежность в смешные рамки условности?
– Смешные?
– Да, иначе не скажешь. «Ты моя подруга, значит, будешь меня целовать лишь вот здесь и там. Ты моя любовница, значит, и остальное – твоё».
– Рези…
Она заставляет меня замолчать.
– О, не беспокойтесь. Это лишь грубое обобщение. Между нами нет ничего похожего. Просто я хочу, чтобы вы, дорогая, перестали меня обижать и держаться со мной настороже: я этого не заслуживаю. Будьте ко мне справедливы (она умолкает, приблизившись ко мне так осторожно, что я этого и не заметила); что в моей нежности вызывает ваше недоверие?
– Ваши мысли, – тихо отвечаю я.
(Она совсем рядом, достаточно близко, чтобы я почувствовала на своей щеке тепло, которое передалось ей от огня.)
– Сжальтесь же надо мной, – шепчет она, – ради силы любви, которую так трудно скрыть.
Она кажется покорной, почти смирившейся. Я сдерживаю дыхание, чтобы она не догадалась, в каком я смятении; я вдыхаю аромат ирисов и ещё более тонкий запах её разгорячённого тела, когда она поднимает руку и поправляет на затылке золотой шнурок… Как удержаться и не упасть в обморок?.. Гордость мне не позволяет прибегнуть к какому-нибудь отвлекающему манёвру, ведь это было бы шито белыми нитками. Рези вздыхает, раскидывает в стороны руки, словно Рейнская дева[8] при пробуждении… Совершенно неожиданно появляется её муж – как всегда без приглашения.
– Как? До сих пор сидите без света, дорогая Рези? – удивляется он, обменявшись с нами рукопожатиями.
– О, не звоните! – прошу я, не дожидаясь ответа Рези. – Я очень люблю сумерки – то время суток, когда, как говорится, бывает трудно отличить собаку от волка…
– Пожалуй сейчас ближе к волку, а? – слащаво возражает этот невыносимый человек, который, как оказывается, прекрасно говорит по-французски.
Рези молча следит за ним злобным взглядом. Он расхаживает по комнате, заглядывает в зияющую темноту салона и продолжает прогулку. Его ровные шаги всё ближе, вот он подошёл к камину, и огонь высвечивает снизу его жёсткие черты лица и непроницаемые глаза. В десяти сантиметрах от меня он по-военному разворачивается и снова удаляется.
Я продолжаю сидеть, чувствуя себя всё более неуверенно.
Глаза Рези загораются дьявольским огнём. Она рассчитывает свой прыжок… Бесшумно поднявшись одним рывком и очутившись рядом со мной, она обхватывает меня за шею и подчиняет себе невыразимо нежным поцелуем. Я вижу над собой широко раскрытые глаза, она прислушивается к удаляющимся шагам супруга и свободной рукой машет им в такт; при этом губы её подрагивают, будто отсчитывают удары моего сердца: раз, два, три, четыре, пять… Но вот связующая нас нить прерывается, объятия ослабевают: Ламбрук идёт в нашу сторону; Рези снова сидит у моих ног и задумчиво смотрит на огонь.
От возмущения, изумления, тревоги перед настоящей опасностью, которую она только что избежала, я не удержалась и негромко вскрикнула.
– Что вы сказали, мадам?
– Прогоните меня, сударь! Уже поздно. Рено, вероятно, разыскивает меня в морге.
– Позвольте предположить, что поиски он начнёт отсюда, да простится мне подобная самонадеянность.
(Дождётся он у меня, этот господин!)
– Рези… прощайте…
– До завтра, дорогая?
– До завтра.
Вот о чём думает Клодина, полируя нынче утром ногти на правой ноге.
Презренная Рези! Её ловкость, её наплевательское отношение к моей сдержанности, её незабываемый рискованный поцелуй – все эти события вчерашнего дня заставляют меня глубоко задуматься. А Рено полагает, что мне грустно. Он не знает и так никогда и не узнает, что для меня желание, живое и болезненное сожаление, сластолюбие непременно несут на себе отпечаток печали?
Лживая Рези! Врунья! Всего за несколько минут до поцелуя она смиренно и искренне уверяла меня, рассказывала, как для неё обидна моя несправедливая подозрительность. Лгунья!
В глубине души я её оправдываю именно благодаря внезапности, с которой она раскинула мне сети. Эта Рези, жаловавшаяся на то, что я не замечаю если не её желания, то по крайней мере сдержанности, не побоялась тут же разоблачить себя, рискуя вызвать мой гнев и грубую ревность этого колосса, у которого ничего за душой.
Что она больше любит: опасность или меня?
Возможно, меня? Я снова и снова вижу это нечеловеческое напряжение мышц, этот жест алкоголички, с которым она ринулась к моим губам… Нет, не пойду к ней сегодня!
– Вы куда-нибудь идёте, Рено? Возьмёте меня с собой?
– Если хочешь, прелесть моя. Так, стало быть, Рези занята?
– Бог с ней, с Рези. Я хочу выйти с вами.
– Поссорились? Так скоро?
Я не отвечаю и жестом даю понять, что ему лучше убраться с глаз моих долой. Он не настаивает.
Предупредительный, словно любящая женщина, он за полчаса управляется со своими делами и заезжает за мной хоть и не в новой, но ещё крепкой двухместной карете и везёт меня к Пепет выпить чаю, отведать пудинга, сандвичей с салатом-латуком и сельдью… Нам хорошо, мы говорим глупости, как и положено расшалившимся молодожёнам… как вдруг пропадают разом и мой аппетит, и моя весёлость. Взглянув на надкушенный сандвич, я нечаянно вспомнила одно незначительное и уже далёкое происшествие…
Однажды у Рези дома (не больше двух месяцев назад) я то ли в рассеянности, то ли оттого, что была сыта, оставила надкушенный гренок… и оставленный моими зубами след был похож на полумесяц… Мы болтали, и я не заметила, как Рези стащила у меня с тарелки этот начатый тост… Вдруг я увидела, как она вгрызается в мой полумесяц, а она заметила, что я на неё смотрю. Она покраснела, но решила, по-видимому, что всё объяснят такие слова: «Знаете, я такая лакомка!» Это – незначительное происшествие, почему же оно всплывает в памяти и смущает меня теперь? А если она сейчас по-настоящему страдает из-за того, что меня нет?..
– Клодина! Эй, Клодина!
– Что такое?
– Ты не заболела, дорогая? Успокойся, пташка моя, в первые же пригожие дни мы помчимся в Монтиньи, к твоему благородному отцу, к Фаншетте и Мели… Я не хочу, чтобы ты хмурилась, девочка моя любимая…
Я улыбаюсь дорогому Рено через силу, что отнюдь не рассеивает его тревоги, и мы возвращаемся пешком; после дождя сыро, лошади и прохожие оскальзываются на мокрой мостовой.
Дома меня дожидается изящный голубой конверт.
Как?! Неужели я правильно поняла? Так это было сделано, чтобы обмануть того, кто расхаживал, как она пишет? А я, дурочка, чуть было не поддалась на её уловку! «Шутка»? Я ей покажу, можно ли безнаказанно подшучивать, как она!
Ненависть ворочается во мне, как котёнок, сосущий молоко; я вынашиваю коварные планы мести… Не хочу знать, чем продиктована моя ненависть: разочарованием или ревностью… Входит Рено и застаёт меня с распечатанным голубым конвертом в руке.
– Ага! Капитуляция? Отлично! Запомни, Клодина: надо стремиться к тому, чтобы капитулировала всегда другая сторона!
– Ну у вас и нюх!
По моему тону он понимает, что надвигается буря, и проявляет беспокойство.
– Что случилось? Нельзя рассказать? Я не требую подробностей…
– Бог с вами! Вы бредите! Мы повздорили, только и всего.
– Хочешь, я к ней схожу и всё улажу?
Любимый мой! Как он мил, ничего не подозревает… Моё напряжение спадает, я со счастливыми слезами бросаюсь к нему на шею.
– Нет, нет, я пойду завтра, успокойтесь! «Шутка»!
Угасающий здравый смысл пытается удерживать мою руку, когда я собираюсь позвонить к Рези. Однако я отлично знаю свой здравый смысл: он приходит мне на помощь ровно за минуту до того, как я совершаю ошибку, чтобы я сполна насладилась собственной прозорливостью, и сказала себе: «Это ошибка». Получив подобное предупреждение, я устремляюсь ей навстречу в полном рассудке, сознавая весь груз ложащейся на меня ответственности.
– Мадам у себя?
– Мадам немного нездорова, но для вас она дома. (Нездорова? Не настолько, чтобы я сдержалась и не сказала всё, что хочу ей сказать. Тем хуже, чёрт возьми, если мои слова причинят ей страдание. «Игра»? Вот мы сейчас и поиграем…)
Она с головы до ног закутана в белый крепдешин, вокруг глаз залегли сиреневые тени, которые только подчёркивают синеву её зрачков. Её грациозность, взгляд, которым она меня окидывает, застают меня врасплох, и я останавливаюсь:
– Рези! Вам в самом деле плохо?
– Нет, раз я вижу вас.
Я трусливо пожимаю плечами. Эх, была не была! Я насмешливо улыбаюсь, и из-за моей улыбки она вдруг выходит из себя:
– Как вы можете смеяться? Уходите, если хотите повеселиться!
Её неожиданно резкий тон сбивает меня с толку, но я пытаюсь исправить положение:
– Я полагала, что у вас, дорогая, больше вкуса. А вы в своих «играх» и «шутках» зашли слишком далеко.
– Так вы поверили? Всё это неправда. Я написала так из трусости, лишь бы снова с вами увидеться: я не могу без вас жить, но… (она раскисает, готовая вот-вот заплакать)…это не повод для смеха, Клодина!
Она в страхе ждет, что я скажу, и боится моего молчания. Она не знает, что всё во мне трепещет, словно продуваемое ветром гнездо, что меня захлёстывает радость… Мне радостно сознавать себя любимой и слышать её признания; я ревниво оберегаю потерянное было и вновь обретённое счастье; я торжествую, понимая, что я для неё – не просто забавная игрушка… Своим женским достоинством я нанесла ей сокрушительный удар и одержала полную победу, я это чувствую. Но раз Рези меня любит, я могу дать ей ещё пострадать…
– Дорогая Рези…
– Ах, Клодина!..
(Она думает, что прощение близко, и, трепеща от радости, протягивает мне руку; от её волос и глаз исходит одинаковое сияние. Увы! Красота моей подруги, пленительные леса родных мест, страсть Рено, – словом, всё, что я так люблю, пробуждает во мне одинаковое волнение, одинаковую жажду обладания… Неужто у меня на всё про всё – единственное чувство?..)
– Дорогая Рези… Правильно ли я понимаю причину вашей горячности: вы впервые встретили сопротивление? Глядя на вас, я отлично понимаю: до сегодняшнего дня все ваши подруги были вами очарованы и покорены…
Она пытается возразить и вскидывает руку над белым платьем – облегающим, узким и длинным, теряющимся в сумерках, словно шлейф Мелюзины,[9] в котором та прячет хвост, – потом отказывается от этой мысли. Она стоит, опустив руки, и я вижу, как в одно мгновение она собирается с силами: в её глазах вспыхивает злой огонёк. Она бросает мне вызов:
– До сегодняшнего дня? Неужели вы полагаете, что, прожив восемь лет с этой пустышкой, зовущейся моим мужем, я не перепробовала всего на свете? Чтобы разжечь в собственном сердце любовь, я повсюду искала самое прекрасное, самое нежное, что только есть на свете: влюблённую женщину. Возможно, вы превыше всего цените новизну, нечаянность самой первой ошибки? О Клодина! Есть нечто лучшее, когда можно искать и выбирать… И я выбрала, – заканчивает она обиженно, – а вы меня лишь терпели…
Я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не броситься к ней; кроме того, на расстоянии я лучше её вижу и не могу ею не любоваться. Своей поруганной страсти на подмогу она бросается вооружившись до зубов: тут и несравненная грациозность, и нежнейший голос; она мне призналась: «Ты не первая», потому что в данном случае откровенность эффективнее лжи; могу поклясться: её искренность – результат тонкого расчёта… но она меня любит!
Я мечтаю о ней прямо в её присутствии и никак не могу на неё наглядеться. Привычное покачивание головой – вот она, всегдашняя Рези, полуобнажённая, за туалетом… Я вздрагиваю; было бы разумно больше не видеть её во время одевания…
Она устаёт от моего молчания и всматривается в темноту, пытаясь поймать мой взгляд.
– Рези… – с трудом выговариваю я, – вы не возражаете, если… мы сегодня от всего этого отдохнём, подождём до завтра, а там будет видно!.. Дело не в том, что вы меня рассердили. Рези. Я могла бы прийти ещё вчера и посмеялась бы или поругалась, если бы любила вас меньше… (Она держится начеку и при последних словах подаётся вперёд, дёрнув гладким подбородком с едва заметной вертикальной ямочкой.)…Я хочу спокойно обо всём подумать, Рези; вы не должны подчинять Меня себе, завораживать меня своими взглядами, упрямыми мечтами, своими жестами, которые создают впечатление, что Вы касаетесь меня, хоть и на расстоянии… Вы должны сесть вот здесь, рядом со мной, положить голову мне на колени, и ничего не надо говорить, не двигайтесь: малейшее движение – и я уйду…
Она садится у моих ног, со вздохом опускает голову мне на колени и охватывает меня руками за талию. Я не могу унять дрожь и непослушными пальцами расчёсываю её прекрасные локоны, от которых словно идёт свет. Рези не шевелится. Но от её затылка поднимается знакомый запах, я ощущаю жар, исходящий от её лихорадочно пылающих щёк, а в мои колени упираются её упругие груди… О, только бы она не двигалась! Если она увидит моё лицо и моё смущение…
Однако она не шевельнулась, а я и на этот раз ушла, так и не открыв ей своего смущения, столь близкого её волнению.
На улице было свежо, и я постаралась, насколько возможно, успокоиться. В подобных ситуациях нам помогает прийти в себя чувство «самоуважения», верно? Так вот: я чувствую себя полной идиоткой.
Бьюсь об заклад, что завсегдатаи, не пропускающие приёмных дней моего мужа, непременно должны были выходить сегодня от нас с мыслью: «А жена Рено становится любезнее. Она меняется к лучшему!»
Нет, дорогие мои, я не меняюсь, я ищу забвения. Не ради вас я нынче любезна, не из-за вас дрожат у меня руки и я беспрестанно роняю чашки! Не благодаря вам я предупредительна, как богиня юности Геба, о старик, посвятивший себя древнегреческим премудростям и русским крепким напиткам! И не вам, самонадеянный романист, мнящий себя социалистом, предназначена эта бессознательная улыбка, с которой я встретила ваше предложение навестить меня на дому (как платная маникюрша) и почитать мне Пьера Леру;[10] и не вам адресована сосредоточенность, дорогой андалузский скульптор, с какой я слежу за потоком испано-французских ругательств, которые вы обрушиваете на современное искусство; с ревнивым вниманием я ловила не только ваши эстетические аксиомы («Все талантливые люди вымерли два века назад тому»), но в то же время и смех Рези, затянутой в белый драп того же кремового оттенка, что и широкая крепдешиновая туника. Эй, андалузит! Должно быть, вам пришлось отказаться от надежды на моё преображение, когда я вам сказала: «Я видела картины Рубенса. – Ага! Ну и как? – Это просто требуха!» До чего невыразительным показалось вам в ту минуту слово «свинья» и как страстно вы желали моей смерти!
Однако я веду приличный образ жизни, от которого меня тошнит. Меня неудержимо тянет к Рези, я понимаю, что выгляжу смешно, что моё сопротивление тщетно – всё толкает меня к тому, чтобы покончить с этой мукой и испить чашу её прелести до последней капли. Но я тяну РЕЗИну, о тоскливая игра звуков! Я упираюсь и презираю себя за это.
Сегодня она снова ушла в окружении болтливых мужчин, которые много курили и пили, и женщин, немного опьяневших, попав с улицы в жарко натопленную гостиную… Всё время она находилась под неусыпным наблюдением мужа и вот ушла, и я не сказала ей: «Я люблю тебя… До завтра…» Ушла, злючка, гордячка, словно не сомневается во мне; несмотря на моё сопротивление, она уверена в себе, грозная и любящая…
Оставшись наконец с Рено одни, мы угрюмо поглядываем друг на друга, будто утомлённые победители на поле битвы. Он потягивается, отворяет окно и облокачивается на подоконник. Я пристраиваюсь рядом подышать ночной свежестью, сырым после дождя воздухом. Рено обнимает меня за плечи и отвлекает от мрачных мыслей; они беспорядочно разбегаются или мимо проносятся их обрывки, похожие на рваные облака.
Я бы хотела, чтобы Рено, который выше меня на полторы головы, стал ещё больше. Я мечтаю превратиться в дочку или жену Рено-великана, чтобы укрыться в сгибе его локтя, в пещере его кармана. Я спрячусь у него за ухом, и он понесёт меня через бескрайние равнины в дальние леса, и, пока бушует непогода, его волосы будут шуметь, словно сосны, у меня над головой.
Одно неловкое движение Рено (не великана – настоящего), и видение исчезает…
– Клодина! – говорит он звучно, обволакивая меня своим голосом, как и взглядом. – Если не ошибаюсь, у вас с Рези мир?
– Мир… Да, если угодно. Я заставляю её стоять на задних лапках.
Он довольно фыркает.
– Ничего дурного в этом нет, Клодиночка, ничего дурного! Она по-прежнему от тебя без ума?
– Да. А я хочу её помучить после… после того, как прошу. «Чем горше страдание…
– …тем слаще награда», – подхватывает Рено, настроенный в этот вечер весьма игриво. – Твоя подруга очень недурно сегодня выглядела!
– Как всегда!
– Не сомневаюсь. А как она сложена? Я в панике.
– Да понятия не имею! Вы верно, полагаете, что она меня принимает, моясь в тазу?
– Именно так я и думал. Я пожимаю плечами.
– Эти уловки недостойны вас! Поверьте, Рено, что мне достанет честности – да и любви! – открыто признаться, когда наступит такой день: «Рези завела меня дальше, чем я рассчитывала…»
Той же рукой, которой Рено обнимает меня за плечи, он поворачивает меня к свету.
– Да, Клодина?.. Значит?.. (На его склонённом лице – выражение любопытства, страсти, но только не беспокойства.)…Значит, по-твоему, приближается такой день, когда ты признаешься?
– Ну уж во всяком случае не сейчас, – отвожу я взгляд.
Я его избегаю, потому что чувствую себя более взволнованной и трепещущей, как маленькая сумеречная бабочка – рыжий бражник с синими светящимися глазками, порхающий над астрами и цветущими лаврами; когда держишь его в руке, бархатистое тельце трепещет и задыхается, и ты никак не можешь расстаться с этой волнующей теплотой…
В этот вечер я больше не принадлежу себе. Если мой муж пожелает – а это непременно так и будет, – я стану Клодиной, которая его пугает и приводит в неистовство, которая бросается в любовь как в омут, которая дрожит и вцепляется Рено в руку, не имея сил бороться с самой собой.
– Рено! Вы полагаете, Рези – порочная женщина?
Время позднее: около двух часов ночи. Я лежу в кромешной темноте: отдыхаю, тесно прижавшись к Рено. Он только что пережил блаженные минуты, ещё не успокоился и готов хоть сейчас продолжать; я прижимаюсь ухом к его груди и слышу, как нервно бьётся его сердце… У меня всё внутри жалобно стонет, и я наслаждаюсь покоем, наступающим вслед за бурными минутами… Но вместе с разумом ко мне возвращается и неотступная мысль о Рези: она снова и снова встаёт у меня перед глазами.
Вот она стоит в белом, вытянув руки, высокая, в плотно облегающем её платье, и будто светится в темноте, а в моих утомлённых от напряжения глазах мелькают разноцветные точки; вот она сидит перед зеркалом, внимательно разглядывает своё отражение, поднимает руки, прячет лицо, и янтарная шея чуть просвечивает сквозь тускло-золотистый пушок – это тоже Рези. Сейчас, когда её нет рядом, я начинаю сомневаться в её любви. Моя вера в неё ограничивается нетерпеливым желанием постоянно видеть её рядом…
– Рено! Так вы думаете, она порочна?
– Я же тебе сказал, глупенькая, что не знал за госпожой Ламбрук любовников.
– Я спрашиваю не об этом. Иметь любовников ещё не означает быть порочной.
– Нет? В таком случае, что такое, по-твоему, порок? Однополая любовь?
– И да и нет. Всё зависит от того, как ею заниматься. И порок тут ни при чём.
– По-видимому, сейчас я услышу весьма оригинальное определение.
– Мне очень жаль вас разочаровывать. Ведь это же очевидно! Вот я завожу любовника…
– Что-о-о?..
– Это всего лишь предположение.
– Тебе оно будет стоить порки.
– Я завожу любовника, без любви, просто потому что знаю: это дурно. Вот порок! Я завожу любовника…
– Второго, стало быть?
– …любовника, которого люблю или просто хочу– не нервничайте, Рено, это естественный закон природы, и я считаю себя честнейшим существом. Подводим итоги: порок – это зло, совершённое без удовольствия.
– Давай поговорим о чём-нибудь ещё! Все эти твои любовники… Я должен тебя очистить…
– Не возражаю!
(И всё же, если бы я сказала, что заведу «подругу», а не «любовника», Рено счёл бы моё рассуждение вполне приемлемым. Для Рено адюльтер – вопрос пола.)
Она меня волнует. С некоторых пор в этой нежной чертовке, действующей с ловкой предосторожностью, дабы не возбуждать мою подозрительность, я не узнаю бледную от волнения и страстную Рези, горячо меня заклинающую со слезами на глазах… В лукавом взгляде, в котором едва угадывается ласковый вызов, я только что прочла тайну её сдержанности: она знает, – что я люблю её – до чего невыразительно это слово! – она догадалась о моём смятении, когда мы остаёмся вдвоём; во время короткого поцелуя при встрече или прощании (я больше не смею совсем её не целовать!) её дрожь передаётся мне… Теперь она знает и выжидает. Банальная тактика, пусть так. Жалкая уловка влюблённых, старая, как сама любовь, однако я, всезнающая, вот-вот на неё поддамся. О расчётливая дрянь! Я бы ещё могла противостоять вашему желанию, но не своему!
«…Отдаться головокружительным ласкам, желаниям, позабыть обо всём, что любил раньше, и уйти с головой в теперешнюю любовь, ощутить себя помолодевшим после новой победы – вот цель всей жизни!..»
Эти слова принадлежат не Рези. И не мне – Марселю! Его неосознанная развращённость достигает определённого величия, с тех пор как новое увлечение оживляет его увядающую красоту и неутомимый лиризм.
Он с удручённым видом сидит напротив в огромном кресле, он несёт бред, опустив глаза и сведя колени, и то и дело с маниакальным постоянством поглаживает подведённые брови.
Несомненно, он меня недолюбливает, но я никогда не позволяла себе подсмеиваться над его странными привязанностями; возможно, в этом и кроется секрет его доверия.
Больше чем когда-либо я слушаю его серьёзно и не без смущения. «Отдаться головокружительным ласкам, желаниям, позабыть обо всём, что любил раньше…»
– Зачем забывать. Марсель?
Он задирает подбородок, не зная, что сказать.
– Зачем? Понятия не имею. Я забываю, сам того не желая. Вчерашний день бледнеет и уходит в туман, заслонённый днём сегодняшним.
– А я бы предпочла похоронить прошлое и его засохшие цветы в благоухающем ларце – памяти.
(Почти против воли я перенимаю его цветистую, пересыпанную метафорами речь.)
– Не стану спорить… – беспечно машет он рукой. – Расскажите лучше о вашем нынешнем увлечении, о его излишне чувственной, типично венской грациозности…
Я морщу нос и грозно насупливаюсь:
– Сплетни, Марсель? Так скоро?
– Нет, пока только нюх. Сами знаете: большой опыт!.. Итак, вы отдаёте предпочтение блондинкам.
– Почему во множественном числе?
– Эхе-хе! Сейчас в фаворе Рези, а ведь когда-то и я был вам небезразличен!
Какая наглость! Его подводит собственное извращённое кокетство. Совсем недавно я бы влепила ему пощёчину, а теперь не знаю, чем я лучше его. Всё равно! Я смотрю на него в упор, с пристрастием разглядывая его хрупкие виски, кожа на которых до времени увяла, и раннюю морщину на нижнем веке; разобрав его внешность по косточкам, я злобно изрекаю:
– В тридцать лет. Марсель, вы будете похожи на старушку.
Так он заметил! Стало быть, это бросается в глаза? Я не смею успокаивать себя тем, что у Марселя особый нюх. В порыве обречённости, а также от лени я себе говорю: «Раз все так думают, пусть так и будет!»
Легко сказать! Если Рези по-прежнему молча меня обхаживает, изводя своим присутствием и неотступными взглядами, похоже, она отказалась от решительного наступления. В моём присутствии она одевается с таким видом, словно готовит оружие к бою; она кадит своими духами и словно в насмешку выставляет передо мной свои прелести. Проделывает свой фокус с мальчишеской ловкостью, и вместе с тем движения её безупречно-уверенны: мне не на что пожаловаться.
– Взгляните, Клодина, на мои коготки! У меня новый лак – чудо как хорош! Каждый ноготь – как выпуклое зеркальце…
Изящная вызывающе-обнажённая ножка поднимается, словно невзначай обронив туфлю без задника, и бледные пальчики поблёскивают нежно – розовым искусственным блеском… и вдруг нога исчезает как раз в то мгновение, когда я, может быть, готова была вот-вот схватить её и прижаться к ней губами…
Другое искушение – её волосы: Рези лень причёсываться самой, и она поручает причёску моим заботам. Берусь я за дело с воодушевлением. Однако от продолжительного соприкосновения с моими руками эта золотая ткань, каждую нить которой я перебираю с величайшей осторожностью, электризуется, липнет к моему платью, потрескивает под черепаховым гребнем, будто занявшийся пламенем папоротник; меня чаруют, пьянят эти волосы, и я впадаю в оцепенение… Я трусливо бросаю этот сноп волос, а Рези теряет терпение или делает вид, что сердится…
Вчера вечером за столом – во время ужина на пятнадцать персон у Ламбруков – она осмелела и, пока все были заняты толстокожими омарами по-американски, послала мне воздушный поцелуй… поцелуй беззвучный и полный: губы плотно сжимаются, потом приоткрываются, серые глаза широко распахнуты и смотрят властно, потом взгляд затуманивается…
Я задрожала при мысли, что её выходка будет замечена, но ещё больше – от увиденного. Когда она ведёт эту изматывающую игру, случается и ей самой смущаться, как, например, нынче утром у неё дома…
В нижней юбке и корсете соломенного цвета она вертелась перед зеркалом, откидываясь назад всем корпусом под стать испано-монмартрской танцовщице и доставая затылком до поясницы.
– Клодина, вы так умеете?
– Умею, и получше вашего.
– Не сомневаюсь, дорогая. Вы – словно рапира твёрдого закала: упруги и гибки… Ах!
– Что с вами?
– Неужели так рано появились комары? Скорей, скорей взгляните, что там у меня на драгоценной коже, которую я так люблю… а я ещё собиралась сегодня вечером выйти в декольте!..
Она поворачивает голову и пытается разглядеть на оголённом плече укус (воображаемый?). Я наклоняюсь над ней.
– Да, да, повыше лопатки, ещё выше, вот здесь… кто-то меня укусил… Что вы там видите?
Я вижу совсем близко, почти касаясь, безупречную линию плеча, профиль озабоченной Рези, ниже – открытую девичью грудь, расходящиеся и округлые грудки, как те, что изображают на фривольных гравюрах прошлого века… Я вижу всё это, теряюсь, не произношу ни слова и не сразу ловлю на себе пристальный, призывный взгляд своей подруги. Однако продолжаю любоваться её белоснежной кожей без оттенков и теней; бросаются в глаза лишь розовые соски того же цвета, что и лак на её ногтях…
Рези с торжествующим видом следит за моим бегающим взглядом. Наконец я справляюсь с волнением и твёрдо смотрю ей прямо в лицо; теперь смущается она, её ресницы трепещут, словно осиные крылышки… Её внезапно поголубевшие глаза начинают бешено вращаться, она сама просит: «Довольно… спасибо…» – и смущается не меньше моего.
«Спасибо…» Стоило Рези выдохнуть это слово, вобравшее в себя и сладострастие, и ребячество, и я сдаюсь скорее, чем после самой смелой ласки.
– Девочка моя, почему так поздно? И в такой вечер, когда мы можем наконец поужинать вдвоём!.. Иди скорее, ты и так хороша, не уходи к себе под тем предлогом, что хочешь причесаться… Мы вместе отправимся туда попозже. Ну, иди же сюда, садись, прелесть моя. Я заказал нынче к ужину гадкие баклажаны с пармезаном,[11] которые ты так любишь.
– Да…
Я слушаю и не понимаю ни слова. Моя шляпа осталась у Рено в руках; я ерошу волосы на своей разгорячённой голове и падаю на кожаный стул против мужа; свет в столовой неяркий, приглушённый.
– Будешь суп? (Я морщу нос.) Придётся тебе меня подождать. Рассказывай, откуда ты, почему похожа на лунатика, а на лице одни глаза? Ты, верно, только что от Рези, а?
– Да…
– Согласись, Клодина, что я не самый ревнивый муж.
Увы, недостаточно ревнивый! Так следовало бы мне ответить, я же возражаю только в мыслях. Он придвигает ко мне загорелое лицо, будто перечёркнутое светлыми усами; его женственная улыбка проникнута отеческой влюблённостью, и я не смею…
Желая занять чем-нибудь руки, я крошу золотистый хлеб и подношу ко рту, как вдруг моя рука дрогнула: я вдыхаю стойкий запах, впитавшийся в кожу, и бледнею.
– Ты не заболела, девочка моя? – обеспокоенно спрашивает Рено, откладывая салфетку…
– Нет-нет, просто устала. Очень хочется пить…
Он звонит и просит подать моего любимого шипучего вина, асти-муската: когда я его пью, не могу сдержать улыбку. На сей раз я пьянею раньше, чем выпиваю вина.
Да! Да! Я была у Рези! Я хочу крикнуть, с хрустом потянуться всем телом, откинувшись назад.
Я пошла к ней, как обычно, в пять. Она никогда не назначает мне встречи, но непременно ждёт к этому часу, и я ничего не обещаю, но обязательно прихожу в это время.
Я иду к ней быстрым шагом. Отмечаю про себя, что дни становятся всё длиннее, весенние дожди поливают тротуары, а нарциссы из Ниццы, наваленные на тележки, наполняют сырой воздух волнующе-вызывающим весенним ароматом. Во время этого недолгого пути я теперь слежу за сменой времени года, как когда-то ревниво поджидала появление первого клейкого листочка в лесу, первого дикого анемона – тёплого бутона с сиреневыми разводами, ивовых почек– пушистых хвостиков с медовым ароматом. Вольная птаха! Теперь тебя держат в клетке, да и сама ты держишься за неё. Сегодня, как и всегда. Рези ждёт меня в своей бело-зелёной спальне с матово-белой кроватью и большими креслами в стиле Людовика XV позднего периода, обитыми орехового цвета шёлком с бантиками и большими белыми букетами. В зеленоватом свете спальни лицо и волосы моей подруги излучают сияние.
Однако сегодня…
– Как у вас темно. Рези! И в передней света нет! Скажите что-нибудь: я вас не вижу!
Раздаётся её недовольный голос, он доносится из глубокого кресла – сомнительного сидения: слишком широкого для одного и тесноватого для двоих:
– Да, это забавно. Неполадки с электричеством. Обещали поменять только к завтрашнему утру. Здесь, естественно, нет ничего такого, чем можно было бы заменить… Горничная предлагала расставить свечи в мои флаконы!..
– Что ж, мысль недурна!
– Благодарю… Вы всегда готовы заключить против меня союз с моей злой судьбой… Свечи! Надеюсь, не церковные? Или, может, мне завернуться в саван? Вместо того, чтобы меня утешить, вы смеётесь: я же слышу, как вы там веселитесь втихоря! Садитесь со мной в кресло, дорогая Клодина…
Я без малейшего колебания забираюсь в большое кресло. Обвив руками её талию, я чувствую сквозь складки платья её тепло, аромат её духов ударяет мне в голову…
– Рези, вы похожи на цветок белого табака, который ждёт ночи, чтобы испустить благоухание… С наступлением темноты все вдыхают только его запах; он затмевает даже розы…
– Неужели я в самом деле благоухаю лишь ночью?
Она опускает голову мне на плечо. Она горячая и живая, и я поддерживаю её, словно пойманную куропатку…
– Ваш муж опять появится из темноты, как англо-индийский сатана? – спрашиваю я приглушённым голосом.
– Нет, – вздыхает она. – Он сопровождает соотечественников.
– Индусов?
– Англичан.
Ни она, ни я не думаем, что говорим. На нас опускается ночь. Я не в силах расцепить руки, да и не хочу этого.
– Клодина! Я люблю вас…
– Зачем об этом говорить?
– Почему бы не сказать? Ради вас я оставила всё, даже флирты – единственное моё утешение и спасение от скуки. Я в вашей власти, я совершенно безобидна и болезненно робка при мысли, что могу быть вам неприятна.
– Болезненно робка, о! Рези…
– Это именно то слово. Вы же знаете, что любовь и желание – болезни неизлечимые: они приносят страдания.
(Да, знаю… Насколько хорошо я это знаю? В эту самую минуту я как раз с упоением слушаю в себе эту боль.)
Неуловимым движением она повернулась ещё больше, прильнув ко мне всем телом. Я почти не почувствовала, как она передвинулась, мне показалось, что она просто вращается внутри своего платья.
– Рези, не говорите ничего. У меня такое ощущение, будто я связана по рукам и ногам, и мне так хорошо! Не заставляйте меня вставать… Представьте себе, что сейчас ночь, мы путешествуем… Ветер ерошит волосы… Наклонитесь: эта низкая ветка может хлестнуть вас по лицу!… Прижмитесь ко мне, осторожно! В колее вода, из-под колёс летит грязь…
Она потворствует моей игре, послушно исполняя все мои капризы. Её откинутая голова покоится у меня на плече, а рассыпавшиеся волосы щекочут мне лицо, будто листва, порождённая моим беспокойным воображением в поисках развлечений…
– Я путешествую, – бормочет она.
– Скоро мы приедем?
Она нервно сжимает мою свободную руку.
– Да, Клодина, скоро будем у цели.
– Куда мы едем?
– Наклонитесь поближе, я шепну вам на ушко.
Я наивно исполняю её приказание. И наталкиваюсь на её губы. Я долго слушаю, как она шепчет, почти касаясь моих губ… Она не обманула: скоро мы будем у цели… Моя торопливость не уступает её торопливости, потом обгоняет её и подчиняет себе. Опамятовавшись, я отстраняю ласкающие руки Рези – она всё понимает, пугается и после недолгого сопротивления замирает, уронив руки…
Где-то вдалеке хлопнули ворота, и я вскакиваю. С трудом различаю в темноте бледное пятно – сидящую передо мной Рези, она припадает пылающими губами к моему запястью. Я обнимаю её за талию и поднимаю с кресла, крепко прижимаю к себе, потом заставляю откинуться и целую наугад в глаза, в сбившиеся волосы, в тёплый затылок…
– Завтра!
– Завтра… я люблю тебя…
…Я убегаю; в голове у меня гудит. Мои пальцы еще помнят лёгкое прикосновение кружев, атласной ленты, бархатистой кожи, равной которой нет в целом свете; мне невыносим вечерний ветер: он сдувает аромат духов, которыми успела пропитаться моя кожа…
– Клодина! Кажется, ты остыла к баклажанам с сыром… я знаю, что делать! (Голос Рено застаёт меня врасплох; я словно возвращаюсь издалека. Верно, я ничего не ем. Зато как хочется пить!) Дорогая! Ты ничего не хочешь мне сказать?
Нет, мой муж совсем не похож на других! Я чувствую неловкость под его настойчивым взглядом и умоляю:
– Рено, не подтрунивайте надо мной… Я устала, издёргалась, мне неловко перед вами… Давайте дождёмся утра, только не воображайте невесть чего!..
Он умолкает, но пристально следит весь вечер за стрелками часов и в половине одиннадцатого под каким-то немыслимым предлогом тащит меня в спальню. Вот мы в нашей огромной кровати; Рено изо всех сил спешит обнаружить в моих волосах, на моих руках следы преступления, о котором я умалчиваю!
«Завтра!»– умоляюще шептала Рези. «Завтра!» – согласилась я. Увы, это завтра никак не наступит. Я поспешила к ней, твёрдо веря в более продолжительное и взлелеянное удовольствие, выбрав для визита такое время, когда ещё не стемнело: я хотела вволю полюбоваться побеждённой Рези… и совершенно забыла о её муже! Этот ничтожный тип прерывал нас дважды; два раза он своим внезапным появлением спугнул наши жадно тянувшиеся друг к другу руки! Мы с Рези переглядывались, она была готова вот-вот расплакаться, я кипела от бешенства; когда он вошёл в третий раз, я едва не запустила стаканом с оранжадом в этого подозрительного, холодного, вежливого мужа… Как дрожал её голос, когда она сказала «прощайте»! Теперь нам мало воздушных поцелуев и робких прикосновений украдкой…
Что делать?
На обратном пути я строила и сейчас же отметала самые невероятные планы. Ничего!
Сегодня я снова иду к Рези; я скажу, что бессильна что-либо придумать; я её увижу, я вдохну её аромат…
Озабоченная не меньше моего, она спешит мне навстречу:
– Ну что, дорогая?
– Ничего не придумала. Вы на меня не сердитесь? Она впивается глазами в мой рот, её губы дрожат и приоткрываются… Её ответное желание приводит меня в волнение… Сейчас схвачу её прямо здесь и зацелую до смерти!
Она читает мои мысли и отступает на шаг. «Нет!» – шепчет она задыхаясь и показывает на дверь.
– Может, у меня, Рези?
– Да, если хотите…
Я улыбаюсь, потом качаю головой:
– Нет, у нас постоянные звонки; Рено ходит туда-сюда, хлопают двери… Нет!
Она в отчаянии заламывает белые руки.
– Значит, никогда? Думаете, я могу целый месяц жить воспоминаниями о вчерашнем вечере? Раз вы не можете ежедневно утолять мою жажду видеть вас, – отвернувшись, продолжает она, – не надо было и…
Надув губки, она опускается в то же кресло, что и вчера… Сегодня на ней вечернее облегающее платье из светлой шерсти в тон волосам, я ясно угадываю под ним плавный изгиб бедра, расплывчатый контур ноги, покрытой неосязаемым пушком серебристых волосков…
– О Рези!
– Что?
– А экипаж?
– Экипаж! Тряска, неожиданности, усталость, вдруг – любопытные физиономии в окне, лошадь падает, полицейский предупредительно распахивает дверцу, кучер стеснительно постукивает рукояткой хлыста в окошко: «Мадам! Дальше проезда нет, прикажете назад?» Нет, Клодина, только не экипаж!
– В таком случае, дорогая, подыщите подходящее гнёздышко сами… до сих пор вы находили лишь возражения!
Словно спугнутый уж, она вскидывает золотистую головку и поднимает на меня полные слёз глаза, в которых застыл упрёк.
– Так-то вы меня любите?! Вы бы ради меня пошевелились, если бы любили, как я вас!
Я пожимаю плечами.
– Зачем самим создавать препятствия? Экипаж вас парализует, в этой гостиной вас на каждом шагу подстерегают супружеские ловушки… Может, взять «Субботнюю газету» и найти кров на один день?
– Я бы не прочь, – с невинным видом вздыхает она, – но такие места находятся под наблюдением полиции… кто-то мне об этом говорил.
– Наплевать мне на полицию.
– Вам – да: ваш Рено – покорный муж…
Её голос меняется.
– …Клодина, – раздумчиво выговаривает она, – Рено, только Рено может… – Я в изумлении смотрю на неё и не нахожусь что ответить. Стройная в своём светлом платье, она с серьёзным видом ждёт, подперев кулачком детский подбородок. – Да! Клодина, наш покой – в его руках… и в ваших.
Она распахивает объятия, её лицо, непроницаемое и нежное, притягивает меня.
– Наш покой! О дорогая! Можете назвать его нашим счастьем. Но поймите, что я не могу больше ждать, ведь теперь я знаю, как вы сильны, теперь страстная и робкая Рези принадлежит вам!..
Я устремляюсь к её рукам, к её губам; я готова мириться с узкой, стесняющей движения одеждой, я вот-вот испорчу нашу радость своей торопливостью…
Она вырывается из моих объятий:
– Тс-с! Кто-то идёт!…
(Как она боится! Она стала ещё белее и прислушивается, наклонившись вперед; у неё расширились зрачки!.. О! Хоть бы этому несчастному Ламбруку свалилась на голову труба и освободила нас от его присутствия!)
– Рези, любовь моя, почему вы решили, что Рено…
– Да, именно Рено! Он умный муж, он вас обожает. Надо ему сказать… почти всё, и его любящее сердце подскажет нам выход.
– А вы не боитесь его ревности?
– Нет…
Ах, эта её ухмылка!.. Один её двусмысленный жест, изгиб лукавых губ – и готовое вырваться у меня смелое признание замирает на устах. Подозрительность омрачает мою радость, хотя до сих пор чувственная Рези была со мной вполне искренна, и я упивалась нежностью её кожи и голоса, я купаюсь в её волосах, заботу о которых она мне поручает, и не могу оторваться от её губ… Неужели этого мало? Чего бы мне ни стоило, я попрошу помощи – не теперь, позднее, я ещё хочу разобраться в своих чувствах! – попрошу помощи у Рено; я готова ради неё растоптать свою стыдливость и гордость, лишь бы наша страсть обрела надёжную гавань.
Капризы, раздражение, слёзы, примирения, сумасшедшие минуты, когда мы теряем голову от одного прикосновения – вот отчёт о прошедшей неделе. Я ещё не говорила с Рено: мне дорого обходится это молчание! И Рези сердится. А я даже не призналась своему дорогому папочке, как далеко зашли наши с Рези ласки… Впрочем, он всё знает в общих чертах и от этого приходит в крайнее возбуждение. Что за необъяснимая жажда к сводничеству заставляет его подталкивать меня в объятия Рези, одевать меня для неё? В четыре часа я отбрасываю книгу, помогавшую мне скоротать время, а Рено (если он рядом) встаёт» суетится: «Ты идёшь туда? – Да». Он запускает в мои волосы свои ловкие пальцы, чтобы взбить локоны, склоняется надо мной, щекоча меня усами, поправляет мне галстук, сплетённый из толстых шелковых нитей, потом проверяет, свежий ли у меня воротничок. Зайдя ко мне за спину, он следит за тем, ровно ли сидит на мне меховая чалма, подаёт соболью муфту. Наконец, он суёт мне в руки букет тёмно-красных роз, какие любит моя подруга! Признаться, я ни за что бы до этого не додумалась.
На прощанье он нежно меня целует:
– Ступай, девочка моя. Будь умницей. Не теряй гордости, не будь слишком покорной, сделай так, чтобы ты была желанной…
«Желанной…» Я и так желанна, увы! Но отнюдь не благодаря продуманной тактике.
Когда Рези приходит ко мне, я нервничаю ещё больше. Я принимаю её здесь, в спальне, – это наша с Рено комната. Стоит повернуть ключ – и мы одни. Однако я не хочу. Мне, кроме всего прочего, претит мысль, что горничная моего мужа (молчаливая девушка, чьи движения бесшумны и вялы) вдруг постучит в запертую дверь: «Тут корсаж госпожи… портниха хотела бы ещё раз обмерить проймы». И наверняка под дверью будет подслушивать Эрнест, лакей, похожий на святошу. Вся эта прислуга – не моя, я прошу их о чём-нибудь крайне редко и через силу. А больше всего я, надобно признаться, боюсь любопытства Рено…
Вот почему, сидя в спальне, я безучастно наблюдаю за Рези, которая находится во всеоружии своего очарования и. морща носик, осыпает меня упрёками:
– Вы ничего для нас не подыскали, Клодина?
– Нет.
– Вы не обращались к Рено?
– Нет.
– Это жестоко…
Она едва слышно выдыхает это слово и неожиданно опускает глаза, а я чувствую, что вот-вот сдамся. Но появляется Рено, деликатно стучится и слышит в отчет раздражённое «Войдите».
Мне совсем не нравится, что по отношению к Рено Рези ведёт себя с кокетливой покорностью; не люблю Я и его манеру вынюхивать у неё то, что мы от него скрываем, шарить глазами по её волосам и платью, словно надеясь увидеть следы моих ласк.
Вот и сегодня при мне… Когда она входит, он целует ей обе руки ради удовольствия сказать потом:
– У вас, теперь, кажется, одни духи с Клодиной: сладковато-тяжёлый шипр.
– Да нет! – простодушно возражает она.
– Значит, мне показалось.
Рено переводит на меня понимающий одобрительный взгляд. Всё у меня внутри восстаёт… Может, повиснуть от отчаяния у него на усах, пока он не закричит, не ударит меня?.. Нет. Я ещё держусь, креплюсь изо всех сил, глядя на этого вежливого мужа, позволяющего жене резвиться, предаваясь невинным детским забавам. Кстати, он готов уйти, проявляя оскорбительную сдержанность кабинетного червя. Я пытаюсь его удержать:
– Останьтесь, Рено…
– Ни за что! Рези выцарапает мне глаза.
– С какой стати?
– Я слишком хорошо знаю, душенька, чего стоит свидание с тобой…
Мою радость отравляет страх: а что, если непостоянная и лживая Рези отдаст предпочтение Рено! Как нарочно, сегодня он чертовски хорош в длинной визитке; у него изящные ноги, широкие плечи… И Рези тут как тут, причина всех моих хлопот – в манто из выдры, на золотых волосах – весенняя шляпа, украшенная сиренью и зелёными листьями… Я чувствую, как меня подхватывает уже знакомая волна жестокости, заставлявшая меня когда-то бросаться на Люс с кулаками, царапаться… Каким сладким бальзамом показались бы мне сейчас слёзы Рези, пролейся они на мою истерзанную душу!
Она замолкает, смотрит, и её взгляд красноречивее всяких слов… Я не могу устоять и сдаюсь.
– Рено, дорогой, вы куда-нибудь собираетесь перед ужином?
– Нет, девочка моя, а почему ты спрашиваешь?
– Я бы хотела поговорить… попросить об одной услуге.
Рези вскакивает с кресла, торопливо поправляет со счастливым видом шляпу… она поняла:
– Я ухожу… Да, вот именно, никак не могу остаться… А завтра мы побудем вместе подольше, да, Клодина? Ах, Рено, как, должно быть, вам завидуют, что у вас такая прелестная девочка!
Она исчезает под шелест собственных юбок, оставив Рено в замешательстве.
– Она что, с ума сошла? Что это с вами обеими?
(Боже мой! Заговорю ли я когда-нибудь? До чего тяжело!..)
– Рено… я… вас…
– Что такое, девочка моя? Какая ты бледненькая!
Он сажает меня к себе на колени. Может быть, так будет легче…
– Дело вот в чём… У Рези весьма назойливый муж…
– Это верно, особенно для неё.
– И для меня тоже.
– Вот так так! Хотел бы я на это посмотреть!.. Неужели он себе позволяет что-нибудь такое?..
– Нет. Не двигайтесь, обнимите меня снова, вот так… Просто этот несчастный Ламбрук всё время торчит у нас за спиной.
– Ах, вот как?.. (О чёрт! Я ведь знаю, что Рено далеко не глуп. Он же всё понимает с полуслова.) Ах ты, влюблённая крошка! Значит, кто-то мучает тебя с твоей Рези? Что нужно сделать? Ты же знаешь: твой старый муж тебя любит и не станет лишать радости… Твоя светловолосая подруга прелестна, она так тебя любит!
– Да? Вы так думаете?
– Уверен! Вы прекрасно друг друга дополняете. Твоей янтарной красоте не страшен её блеск… Но не всплеск – получился александрийский стих!
У него задрожали руки… я знаю, о чём он думает… Тем не менее я ищу спасения в его голосе: в нём звучит нежность, неподдельная нежность…
– Чего ты хочешь, пташка моя любимая? Чтобы я завтра освободил на полдня эту квартиру?
– Нет!..
Помолчав в смущении, я прибавляю:
– …Вот если бы мы могли… где-нибудь ещё…
– Да нет ничего проще! (Он резко поднялся, поставил меня на ноги и теперь молодцевато вышагивает по комнате.) Где-нибудь ещё… Вот, например… Нет, не то… А, я знаю, как тебе помочь! (Он снова подходит ко мне, обнимает за плечи и тянется к моим губам. Но я в таком смущении, что отвожу взгляд…) Прелестная моя девочка! Будет тебе твоя Рези, а Рези получит Клодину, ни о чём не беспокойся. Придётся только подождать день-другой – целую вечность, правда? Поцелуй своего папочку, он заткнёт уши и закроет глаза на ваши проказы!..
Радость, обладание Рези во всём её блеске и благоухании, облегчение после моего признания Рено – всё это не снимает с меня тяжести другого рода… О дорогой Рено, как бы я хотела получить от вас сухой категоричный отказ!..
Я надеялась, что эта ночь ожидания пройдёт хорошо, сердце будет радостно биться в предвкушении встречи, образ Рези мелькнёт сквозь сладкую дрёму будто в тумане… Однако само это ожидание напоминает мне о том, как я с нетерпением ожидала в комнатушке на улице Жакоб другую гостью, более юную и пылкую… Нет, ошибаюсь, эта бессонная ночь похожа скорее на ту, когда я два года назад ждала встречи с Рено… Понравлюсь ли я Рези? Ну уж в страстности мне не откажешь!.. Измотанная бессонницей, я легонько толкаю худой иззябшей ногой чутко спящего Рено, устраиваюсь на его руке, прижавшись к нему всем своим дрожащим телом, и наконец забываюсь сном.
Одно сновидение сменяет другое, они перетекают друг в друга, смешиваются и не поддаются анализу; время от времени мелькает юный гибкий силуэт, похожий чем-то на лунный лик, то ныряющий в облака, то снова выплывающий на небосклон… Когда я окликаю: «Рези!», она оглядывается и становится похожа на смуглую малышку Элен: тот же выпуклый нежный лоб, те же бархатистые веки, та же пухлая короткая губка… Зачем мне приснилась эта мельком виденная и почти забытая девочка?
Рено даром времени не терял. Вчера он вернулся к ужину оживлённый, шумный и заботливый.
– Дай знать Рези! – целуя меня, говорит он. – Пусть эта юная колдунья помоется перед завтрашним шабашом!
– Завтра? И где же?
– Встречаемся здесь: я отвезу вас на место. Не годится, чтобы видели, как вы входите вдвоём; кроме того, я помогу вам устроиться.
Такая комбинация несколько охлаждает мой пыл: я бы предпочла получить ключ, адрес комнаты, свободу…
Рези приходит раньше времени, вид у неё озабоченный; я, пытаясь изобразить на лице улыбку, говорю:
– Не угодно ли отправиться со мной? Рено нашёл нам… как бы это сказать… холостяцкую квартирку.
В её глазах прыгают зайчики.
– А-а!.. Так он знает, что я знаю, что…
– Вот чёрт! Разве было возможно действовать иначе? Вы же сами мне советовали – да как настойчиво. Рези, за что я вам теперь очень благодарна! – обратиться за помощью к Рено…
– Да, да… (Её серые глаза смотрят ласково и вместе с тем лукаво; вдруг в них вспыхивает беспокойство, она ловит мой взгляд, то и дело приглаживая золотистый пушок непокорных волос на затылке…) Боюсь, вы сегодня любите меня недостаточно для… этого, Клодина!
Она сказала это, вплотную приблизившись ко мне, я почувствовала на себе её дыхание, и этого оказалось довольно: я крепко сжимаю челюсти, так что у меня краснеют уши…
– Я всегда люблю вас… даже слишком сильно… безумно. Рези… Да, я бы хотела, чтобы никто на свете не имел права разрешать или запрещать нам встречаться, когда мы забываем обо всём и чувствуем себя в полном одиночестве. Но если я могу за надёжно запертой дверью на мгновение поверить, что вы принадлежите мне, в первую очередь мне, или даже только мне… я ни о чём не буду жалеть.
Она с мечтательным видом слушает мой голос, даже, может быть, не понимая моих слов. Мы одновременно вздрагиваем, когда входит Рено, и Рези на какое-то время лишается уверенности. Он понимающе улыбается, отчего её смущение понемногу проходит, и с заговорщицким видом достаёт из жилетного кармана ключик:
– Тс-с! Кому же его доверить?
– Мне! – протягивая руку, властно говорю я.
– Мне! – ласковым голосом умоляет Рези.
– Не-зна-ю-как-мне-быть! – скандирует Рено. – Придётся вам тянуть жребий, девочки.
Из-за этой дурацкой шутки в стиле Можи и пронзительного смеха Рези в ответ на слова Рено я едва не взрываюсь от бешенства. Рено предчувствовал такой исход! Он встаёт.
– Идёмте, девочки, автомобиль внизу.
Сидя против нас на жёстком откидном сидении, он с трудом скрывает, как возбуждён нашей проказой. Нос у него белеет, а усы вздрагивают, когда он скользит взглядом по Рези. А та неуверенно пытается поддерживать разговор, умолкает, вопросительно заглядывает в моё печальное надменное лицо: я теряю терпение…
Да, я сгораю от нетерпения! Мне страстно хочется вкусить того, чему предшествовали всю эту сумасшедшую неделю настойчивые мольбы моей подруги; но особенно тяжело мне дождаться, когда кончится это шокирующее путешествие втроём…
Как?! Мы останавливаемся на улице Гёте? Так близко? А мне показалось, что мы ехали целых полчаса… Лестница, ведущая в дом под номером пятьдесят девять, – весьма внушительная. В глубине двора – конюшни. Три этажа. Рено бесшумно распахивает дверь: все стены, включая переднюю, обтянуты шёлком, отчего в квартире царит гнетущий полумрак.
Пока я с некоторым предубеждением осматриваю небольшую гостиную, дальновидная Рези (я умышленно не называю её опытной Рези) подбегает к окну и исследует улицу, не поднимая занавесок из белого тюля. Видно, удовлетворившись осмотром, она вместе со мной бродит по крошечной гостиной, которую маньяк-любитель эпохи Людовика XIII испанского периода украсил шедеврами из резного и золочёного дерева, тяжёлыми рамами с грубым орнаментом, христами, агонизирующими на ярком бархате, отталкивающими молитвенниками, а также огромной витриной в виде носилок, массивной и красивой, на боковых стенках которой выступают вырезанные и позолоченные дары осени: яблоки, виноград, сливы… Эта кощунственная простота мне по душе, я расслабляюсь. За приподнятой портьерой видны угол светлой спальни в английском стиле, медная шишка кровати, кресло, обитое весёленькой тканью в цветочек…
Словом, впечатление очень приятное.
– Рено! Это прелестно! – заявляет Рези. – У кого мы в гостях?
– Вы у себя дома, красавицы! Вот электричество. Здесь – чай и лимон, сандвичи, там чёрный виноград, ну и, разумеется, к вашим услугам моё сердце, оно принадлежит вам обеим.
До чего он непринуждён, как безупречно исполняет свою сомнительную роль! Я наблюдаю за тем, как он с женской предупредительностью и ласковостью расставляет блюдца, как улыбается своими иссиня-чёрными глазами, как протягивает Рези виноградную гроздь и та кокетливо надкусывает ягоду… Впрочем, почему я удивляюсь на него, если моё поведение кажется ему вполне естественным?
…Я прижимаю её к груди, она льнёт ко мне всем телом. Я ощущаю прикосновение её прохладных коленей, она щекочет меня своими крашеными коготками. Её скомканная рубашка напоминает скорее муслиновую тряпку. Я бережно поддерживаю её голову (она покоится у меня на локте), её лица не видно: его захлестнула волна роскошных волос. День клонится к вечеру, тень опускается на светлую обивку, непривычную для моих глаз и потому мешающую мне забыться. Рези говорит, почти касаясь моих губ, и время от времени у меня перед глазами поблёскивают, словно уклейка, её белоснежные зубы. Рези говорит оживлённо, она подняла руку и рисует в воздухе указательным пальцем то, о чём говорит. Я слежу за тем, как её белая рука описывает в наступающих сумерках круги, и этим жестом Рези словно подчиняет себе мою сломленную волю: меня охватывает приятная истома…
Я бы хотела, чтобы Рези испытывала такую же грусть, как и я, с тоской и страхом провожала каждую проведённую нами минуту или хотя бы оставила меня наедине с моим воспоминанием… Сию минуту Рези поражает изысканной прелестью. А совсем недавно она была умопомрачительно красива…
Вздрогнув от первого моего прикосновения, она повернула ко мне необыкновенное лицо; у неё отсутствующий взгляд, брови опущены, рот соблазнительно приоткрыт, она будто напряжённо чего-то ждёт… Вдруг она швыряет к моим ногам свои сокровища, я обо всём забываю под её требовательное воркование, её захлёстывает порыв безудержной страсти, за которым следует немного детское «спасибо», громкие ахи и вздохи, будто девочка, умирающая от жажды, пила, не отрываясь, до полного изнеможения…
Теперь она говорит, и её дорогой голос нарушает очарование настоящей минуты. По правде говоря, она «выбалтывает» свою радость, совсем как Рено… Неужели они оба не могут смаковать её молча? Я вдруг становлюсь мрачной под стать этой странной комнате… Какой из меня отвратительный партнёр в первые после близости минуты!
Я оживаю и крепко обнимаю Рези; её теплое тело будто нарочно создано для меня: оно изгибается, когда изгибаюсь я, оно так подвижно в своей неуловимой стройности, что я нигде не встречаю сопротивления…
– Ах, Клодина, вы так крепко обнимаете!.. Да, уверяю вас, что его супружеская холодность, его оскорбительная ревность могут всё простить… (Она имеет в виду моего мужа? Я не вслушивалась… И зачем ей прощение? Это слово здесь неуместно. Поцелуем я сдерживаю поток её нежных слов… на несколько секунд.)…Вы, вы, Клодина… Клянусь, что я никогда так мучительно не ждала встречи ни с кем, кроме вас. Столько времени потеряно, любовь моя! Вспомните: скоро весна, и каждый день приближает нас к летнему отдыху, а значит – к разлуке…
– Я тебе запрещаю уезжать!
– Да, запрети мне что-нибудь! – умоляет она с неизбывной нежностью, обняв меня за шею. – Ругай меня, не бросай меня, я никого не хочу видеть кроме тебя… и Рено.
– Ага! Рено снискал милость?
– Да, потому что он добр, у него нежная душа, он понимает и поддерживает нас… Клодина, я не испытываю стыда в присутствии Рено, это странно, правда? (И впрямь странно, я даже завидую Рези. А вот мне стыдно! Нет это не совсем подходящее слово, скорее… я немного шокирована. Вот именно: мой муж меня шокирует.)
– …И потом, дорогая, это не имеет значения, – приподнимаясь на локте, заключает она, – ведь мы втроём переживаем несколько необычных страниц в жизни каждого из нас!
«Несколько необычных страниц!» Ну и болтушка! А если я с силой прижмусь к её губам, она догадается, почему мне хочется сделать ей больно? Я хотела бы прокусить её острый язычок; я хотела бы любить молчаливую Рези, безупречную в своём молчании, оживляемом лишь взглядами и жестами…
Я забываюсь в поцелуе – чувствую только, что подрагивают ноздри у моей подруги да часто вздымается грудь… Становится совсем темно; я поддерживаю голову Рези обеими руками, словно драгоценный груз, взлохмачиваю волосы, такие нежные, что даже на ощупь могу определить их оттенок…
– Клодина! Я уверена, что сейчас семь часов! – Она вскакивает, бежит к выключателю, и нас заливает свет.
Я чувствую себя одиноко, мне холодно, я сворачиваюсь клубком на нагретом месте, надеясь подольше сохранить тепло Рези и впитать в себя её горьковатый аромат. Мне ведь спешить не надо. Мой муж преспокойно дожидается меня дома!
Она ослеплена и какое-то время крутится на месте, не в силах найти разбросанное бельё. Вот она наклоняется за обронённым черепаховым гребнем, снова поднимается, и её сорочка соскальзывает наземь. Она не смущаясь закалывает волосы торопливо, но как всегда очень грациозно, и это меня забавляет и в то же время чарует. Подмышки и низ её живота утопают в золотой пене такого нежного оттенка, что при свете кажется: моя Рези обнажена, будто статуя. Но у какой статуи может быть такой упругий задок, такой смелый изгиб рядом с хрупкой талией?
Серьёзная, тщательно причёсанная, как подобает приличной даме, Рези прикалывает к волосам свою весеннюю шляпку и замирает на мгновение перед зеркалом, причём единственная её одежда – эта сиреневая шапочка. Увы, мой смех подхлестывает её! Вот уже сорочка, корсет, полупрозрачные трусики, нижняя юбка цвета утренней зари обрушиваются на неё, словно по мановению волшебной палочки. Ещё минута, и Рези-светская дама закутана в меха, её руки затянуты в шведскую лайку цвета слоновой кости; она стоит передо мной, гордясь своей необычной ловкостью.
– Блондиночка моя! Уже темно, и все ваши бело-золотые прелести не могут соперничать с солнцем… Помогите-ка мне встать: я не в силах оторваться от этих простыней, они меня удерживают…
Я встаю и потягиваюсь, раскинув влажноватые руки – чтобы размять затёкшую спину; я разглядываю себя в большое, удобно расположенное зеркало; мне нравится моё мускулистое тело, его мальчишеская угловатость, более чёткие формы, нежели у Рези…
Она тычется головой мне под мышку, и я отворачиваюсь от зеркала, чтобы не видеть вызывающую картину: нагая женщина рядом с одетой.
Я торопливо одевалась с помощью подруги, от неё веет любовью, она утопает в мехах…
– Рези, дорогая, не пытайтесь научить меня своей стремительности! Рядом с вашими волшебными ручками я всегда буду выглядеть так, словно одеваюсь ногами!.. Как? Мы даже не отведали…
– У нас не было времени, – замечает Рези и посылает мне улыбку.
– Хотя бы винограду, а? Жарко…
– Ну хорошо, пусть будет виноград… Бери…
Она надкусила ягоду, я слизываю сок у неё с губ…
Меня шатает от желания и изнеможения. Она вырывается из моих объятий.
Погасив свет и приотворив дверь на холодную, гулкую, ярко освещённую лестницу, Рези в последний раз тянет ко мне горячие губы, пахнущие мускатным виноградом… и вот уже мы на улице среди суетливых прохожих; из-за неурочного одевания я ощущаю озноб, лёгкое недомогание, как бывает, когда приходится вставать среди ночи…
– Девочка моя дорогая! Иди-ка, я тебя повеселю! Рено входит в туалетную, где я затеяла утреннюю пытку своим коротким волосам. Он уже сидит в плетёном кресле и улыбается.
– Вот, полюбуйся. Преданный человек, изъявивший желание за шестьдесят сантимов в час следить за порядком в моей квартире на улице Гёте, передал нынче утром предмет, обнаруженный среди простыней и аккуратно завёрнутый в обрывок «Пти Паризьен», с такой сопроводительной надписью: «Это Ваш подбородник, сударь…»
– !!!
– Ты, конечно, скажешь, что это непристойно. Взгляни.
У него на руке покачивается узкая полоска линона в мелкую складку, обрамлённая малинскими кружевами… Погончик от сорочки Рези! Я подхватила его на лету… ни за что ей не отдам.
– …Подозреваю, что эта консьержка шепнёт словечко нашим водевилистам, горячо любимым публикой. Расскажет, как вчера около шести часов вечера я приходил тайком – а я очень беспокоился, что моя любимая так долго не возвращается – узнать, что с ней. А консьержка мне ответила с осуждением, сдерживаемым из почтительности: «Эти дамы находятся здесь уже около двух часов после того, как господин удалился».
– Ну и что?
– Ничего… Я не стал подниматься, Клодина. Поцелуй меня «за это».
Теперь это уже не дневник Клодины, потому что я не могу рассказывать только о Рези. Что стало с былой беззаботной Клодиной? Трусливая, нетерпеливая, печальная, она болтается в фарватере у Рези. Время идёт, ничем не нарушаемое, если не считать наших свиданий на улице Гёте раз-два в неделю. В остальное время я послушно следую за Рено в исполнении его обязанностей: премьеры, ужины, литературные салоны. В театр я нередко вожу подругу с довеском в виде Ламбрука: только на это время я и могу быть спокойна, что она мне не изменяет. Страдаю от ревности, однако… Рези я не люблю.
Нет, не люблю! Но я не могу от неё отделаться, да и не пытаюсь. Когда её нет рядом, я могу не дрогнув представить себе, как её сбивает машина или она раздавлена во время аварии в метро. Но у меня начинается гул в ушах, а сердце трепещет, как заячий хвост, стоит мне подумать: «В эту минуту она подставляет губы любовнику или подруге, при этом ресницы её трепещут, а голова откинута назад со столь хорошо мне знакомым выражением сладострастия».
Ну и что из того, что я её не люблю?.. Страдаю-то я не меньше!
Я с трудом выношу Рено, так охотно исполняющего роль третьего лишнего. Он отказался отдать мне ключ от холостяцкой квартирки, сославшись – не без основания – на то, что нас с Рези не должны видеть входящими вдвоём. И всякий раз, как я говорю: «Рено! Завтра мы пойдём туда…», я делаю над собой усилие, неизменно переживая унижение.
Рено предупредителен, мил; ему, несомненно, нравится, как и Рези, эта «необычная» ситуация… Их общая потребность – в том, чтобы показать себя порочными и современными, – приводит меня в смущение. Я делаю то же, что и Рези, однако не чувствую себя порочной…
Сейчас Рено тянет время, перед тем как оставить нас там. Он разливает чай, садится, выкуривает сигарету, болтает, встаёт, чтобы поправить рамку или сбить щелчком моль с бархатного молитвенника… Словом, даёт понять, что это его квартира. А когда он наконец собирается уйти, делая вид, что торопится, и извиняется, то возражает Рези. «Да нет, побудьте с нами ещё немного!..» Я же не говорю ни слова.
Я не принимаю участия в их разговоре: сплетни, пересуды, шутки, которые очень скоро становятся фривольными, прозрачные намёки на свидание с глазу на глаз, которое сейчас состоится… Она смеётся, близоруко щурится, грациозно покачивает головой, поводит плечами… Я вам клянусь – клянусь! – что шокирована, раздражена и оскорблена этим не меньше целомудренной девочки, разглядывающей непристойные картинки… Сладострастие – моё – не имеет ничего общего с лапаньем и тисканьем.
В светлой спальне, где витают, смешиваясь, ирисовый аромат Рези и резкий сладковато-шипровый запах Клодины, в огромной постели, впитавшей в себя запахи наших тел, я молча мшу за столько тайных уколов и кровоточащих ран… потом, подстроившись под меня и заняв привычную позу, Рези начинает меня расспрашивать; её задевают мои краткие простые ответы, она жаждет узнать побольше и не может взять в толк, что я имею в виду, когда заявляю: раньше я была умнее, а теперь просто потеряла голову.
– А как же Люс?
– Ну, Люс ведь меня любила.
– И… ничего больше?
– Ничего! Вы находите, что я смешна?
– Нет, конечно, дорогая Клодина.
Положив голову мне на грудь, она задумывается. Её взгляд затуманивается, на неё нахлынули воспоминания… Если она начнёт рассказывать, я её ударю… В то же время я с нетерпением жду, когда она заговорит.
– Рези, ты себя не сохраняла до свадьбы?
– Наоборот! – подскочив, восклицает она, не в силах побороть желание говорить о себе. – Всё началось до смешного обыкновенно… У меня была преподавательница пения, крашеная блондинка, одни мослы… Поскольку у неё были глаза цвета морской волны, она считала себя вправе носить всякие модерновые штучки и мнила себя англосаксонской Сфингой[12]… Под её руководством я работала над голосом, с ней же я изучила всю гамму извращений… Я была юной, восторженной особой: только что вышла замуж и всего боялась. Я бросила уроки через месяц, да, равно через месяц, страшно разочарованная, после того как случайно подсмотрела через щёлку в двери, как эта Сфинга, перепоясанная воздушным шарфиком, уличала свою кухарку в том, что та якобы украла двадцать пять сантимов…
Рези оживляется, раскачивается, встряхивает своими шелковистыми волосами, улыбается своим воспоминаниям. Она сидит, прижавшись к моему бедру, свернувшись и поджав ногу; рубашка соскользнула у неё с плеча; похоже. Рези самой очень весело.
– А потом был кто, Рези?
Она умолкает, взглядывает на меня, закрывает рот и наконец решается.
– Потом была одна девушка.
Я вижу по её лицу, что она кого-то пропустила.
– Девушка? Правда? Как интересно! (Так бы её и укусила!)
– Да, интересно… Но я так настрадалась! Ни за что на свете не буду больше связываться с девушками!
(Сейчас она похожа на влюблённую девочку: уголки губ опущены, она зыдумалась и не замечает, что её плечо заголилось. С каким бы удовольствием я оставила кровавый отпечаток двойного ряда зубов на этом плечике, отливающем в полумраке перламутровым блеском!)
– Так вы её… любили?
– Да, любила. Но сейчас я люблю только вас, дорогая!
То ли её охватила настоящая нежность, то ли подсказал инстинкт, но она обхватила меня своими безупречно-гладкими руками, и я утопаю в её рассыпавшихся волосах. Однако я хочу услышать конец истории…
– …А она вас любила?
– Да разве я знаю? Ничто на свете, любимая Клодина, не может сравниться с жестокостью, холодной и пытливой требовательностью молоденьких девушек! (Я имею в виду порядочных девушек: остальные не в счёт) Они не знают страдания, жалости, справедливости… Вот и та моя девушка, ещё более требовательная и жадная до удовольствий, чем молодая вдова, могла в то же время заставлять меня ждать неделями, соглашалась со мной увидеться только в семейном кругу, упивалась моей печалью: я ловила на себе её жёсткий взгляд, не портивший её хорошенького личика… А спустя две недели я узнавала, за что была наказана; причиной оказывалось то пятиминутное опоздание на свидание, то слишком оживлённый разговор с приятелем… И сердитые слова, резкие намёки, произносимые во всеуслышание, при всех, напоказ: сразу было видно, что она ещё не обжигалась!..
Моё уязвлённое сердце учащённо бьётся. Я готова её убить, лишь бы не слышать этих слов. Однако она становится мне дороже, после того как в увлечении разоткровенничалась. Я предпочитаю видеть её глаза, потемневшие от воспоминаний, чем ловить детский вызывающий взгляд, каким она окидывает Рено, как любого мужчину, и любую женщину, и даже привратника…
Бог мой! До чего я изменилась! Возможно, в глубине души я всё та же (надеюсь, что это так), однако словно бы… ряженая. Наступила весна, парижская весна – чахоточная, гнилая, скоро выдохшаяся, и всё-таки весна. А что я о ней знаю, кроме шляпок Рези? Фиалки, сирень, розы расцветали по очереди на её прелестной голове под горячими лучами от её светоносных волос. Она с важным видом председательствует на моих примерках у модистки, раздражаясь тем, что на моей коротко стриженной голове некоторые «дамские» шляпы выглядят нелепо. Она потащила меня к Готэ, чтобы заказать там для меня каркас из находящих одна на другую лент, мягкий корсет, послушно повторяющий малейшее движение моих бёдер… Она с озабоченным видом перебирает ткани, останавливая своё внимание на синих тонах, подчёркивающих желтизну моих глаз, и насыщенных розовых цветах, от которых мои щёки приобретают особый янтарный оттенок… Она занимается моими туалетами, одевает меня. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не ударить её, и боюсь ей не угодить. Я бросаю перед её дверью букетик диких нарциссов, купленный у уличного торговца… Мне нравится их резкий южный аромат, а Рези его не любит.
До чего я несчастна! как же сделать так, чтобы отпустила тоска, сжимающая мне сердце? Рено, Рези – оба они мне необходимы, и я не собираюсь отказываться от одного из них в пользу другого. Однако я страстно желала бы их разделить или, вернее, сделать так, чтобы они были между собой незнакомы.
Смогу ли я это положение изменить? Во всяком случае, попытка не пытка.
Сегодня меня навещает Марсель. Он не может понять, в чём дело: я выгляжу хмурой и враждебной. Дело в том, что уже неделю я избегаю свидания, о котором умоляет Рези – свеженькая, на всё готовая, по-весеннему возбуждённая… Но я не могу больше терпеть присутствие Рено, словно вклинивающегося между мной и Рези. Неужели он этого не чувствует? В последний раз, когда мы были на улице Гёте, мой ласковый муж, любитель подсматривать эротические сцены, натолкнулся на такую грубую непримиримость, что Рези забеспокоилась, встала и подала ему уж не знаю какой знак… Он сейчас же ушёл… Это взаимопонимание между ними привело меня в ещё большее отчаяние, я заупрямилась, и Рези ушла, впервые за всё это время не сбросив шляпы, которую она снимает после нижнего белья.
Итак, Марсель подсмеивался над тем, что я нынче чересчур ершистая. Он уже давно разгадал секрет моей озабоченности и моей радости; вынюхивает, где моё больное место, да так ловко, что я удивилась бы, не знай я своего пасынка. Он видит, что сегодня я мрачна, и продолжает настаивать, безжалостно бередя мою рану.
– Вы – ревнивая подруга?
– А вы?
– Я… И да, и нет. Вы за ней следите?
– А разве вас это касается? Да и зачем мне за ней следить?
Он качает своей изящной размалёванной головкой, долго поправляет галстук, отливающий перламутром; потом переводит взгляд в угол.
– Просто так. Я-то плохо её знаю. Просто с первого взгляда она производит впечатление женщины, за которой надо присматривать.
Я злорадствую:
– Неужели? Я доверяю вашему женскому опыту…
– Прелестно! – невозмутимо изрекает он; это жестокое слово. Кстати, вы абсолютно правы. Я видел вас втроём на премьере в «Водевиле», и госпожа Ламбрук показалась мне изысканной… ну, пожалуй, слишком строго причёсана… Зато сколько грации, как она, должно быть, вас любит… вас и моего отца!
Я внутренне напрягаюсь, но не подаю виду. Марсель разочарован. Он поднимается, по-особенному вильнув бёдрами… Ради кого это он старается. Бог ты мой?!
– Прощайте, мне пора. Вы способны нагнать тоску на самого весёлого автора, если бы они не были столь мрачными… все как один!
– Ради кого вы меня покидаете?
– Ради себя самого. У меня медовый месяц со своим новым домом.
– У вас новый дом..?
– Да, именно дом, не путайте с домовым. Как?! Вы не знаете, что я теперь свободен?
– Нет, ведь они такие скромные!
– Кто?
– Ваши друзья.
– Этого требует профессия. Да, у меня теперь квартирка как у кокотки. Такая малюсенькая-премалюсенькая. Вдвоём там можно находиться лишь обнявшись.
– И вы обнимаетесь?
– Я этого не говорил. Не хотите ли сами на неё взглянуть? Только папочку моего с собой не приводите. А вот подругу свою – пожалуйста, если ей это интересно… Ну как?
Я схватила его за руку: мне вдруг пришла в голову мысль…
– Вы никогда не выходите во второй половине дня?
– Во второй половине… Так точно: по четвергам и субботам. Но не надейтесь, – прибавляет он стыдливо, словно девочка, – что я вам скажу, куда иду…
– Это меня не интересует… Скажите. Марсель… Нельзя ли в ваше отсутствие посмотреть на место вашего отдохновения?
– Моего утомления, хотели вы сказать? (Он поднимает порочные сере-голубые глаза. Он понял.) Да, если угодно. А хорошенькая госпожа Ламбрук не болтлива?
– О!
– Я дам вам ключ. Не разбейте мои безделушки, я ими очень дорожу. Электрический чайник стоит в зелёном шкафу слева от входа; ошибиться невозможно, у меня там только рабочий (!) кабинет и гостиная с туалетной комнатой. Печенье, вино Шато-Икем, арак и имбирный бренди – в том же шкафу. В ближайший четверг?
– Да. Спасибо, Марсель.
Он, конечно, негодяй, но я расцеловала бы его от чистого сердца. От радости я вышагиваю от одного окна к другому, заложив руки за спину, и насвистываю что есть силы.
Он даёт ключ! Он!
Я ощупываю сквозь портмоне совсем маленький ключик от замка системы Фише. Я веду с собой Рези в безумной надежде найти «решение». Видеть её тайком, отстранить от этой истории, никак его не касающейся, моего дорогого Рено, которого я слишком люблю, – да, чёрт возьми! – и потому мне больно видеть, как он вмешивается во все эти тёмные делишки…
Рези послушно меня сопровождает; ей весело, она счастлива, что моя крепость наконец пала после недельного сопротивления.
На улице тепло; мы едем в открытой коляске; Рези распахивает похожий на мужской пиджак – строгий жакет из синей саржи – и глубоко вздыхает, словно ей не хватает воздуха. Я украдкой любуюсь её чётким профилем, детским носиком, ресницами, сквозь которые пробивает солнце, бархатистыми пепельными бровями… Она держит меня за руку, терпеливо ждёт и время от времени наклоняется вперёд, разглядывая тележку с цветами, от которой поднимается весенний аромат, витрину или проходящую мимо нарядную женщину… Как она нежна, Боже мой! Пусть кто-нибудь попробует сказать, что она меня не любит! Да, она любит только меня.
Шоссе д'Антен, большой двор, затем небольшая дверь, крохотная опрятная лестница, лестничные площадки, на которых можно удержаться, стоя на одной ножке.
Я миную три этажа на одном дыхании и останавливаюсь: здесь уже пахнет Марселем, сандаловым деревом и сеном с примесью эфира. Я отпираю дверь.
– Подождите, Рези, сюда можно войти только по одному!
Да, всё именно так, как я говорю. Как мне смешно в этом кукольном домике! Зародыш передней предшествует недоразвитому рабочему кабинету; спальня-гостиная… – беседка едва достигает нормальных размеров.
Как две кошки, очутившиеся в новой обстановке, шаг за шагом, задерживаясь взглядом на каждой вещи, на каждой картине… Здесь слишком много запахов!..
– Взгляните, Клодина: каминный аквариум…
– Рыбки с тремя хвостами!…
– А у этой плавники похожи на оборки! А это что: курильница?
– Нет, чернильница, по-моему… или кофейная чашка… а может, ещё что-нибудь.
– Посмотрите, дорогая: прекрасная старинная ткань! Вот бы такую подкладку к демисезонному жакету!.. Какая прелестная богиня со сложенными руками…
– Это божок..
– Да нет, Клодина!
– Хорошенько не разглядеть, там драпировка. Ай! Не садитесь, Рези, как я, на ручку этого английского зелёного кресла!.
– Верно. Что за причуда заводить эти копья из полированного дерева! Того и гляди сядешь на кол.
– Тс-с, Рези, не будем говорить о кольях в доме Марселя.
– Идите скорее сюда, мой милый пастушок!
(Мне не нравится, что она меня называет «мой милый пастушок»: это выражение Рено. Мне больно за неё, но особенно за него.)
– Зачем?
– Взгляните на его портрет!
Я присоединяюсь к ней в гостиной-спальне… и так далее. Это в самом деле портрет Марселя, изображённого византийской дамой. Довольно любопытная пастель, смелые цвета, нечёткий рисунок. Колечки рыжих волос падают на уши, у неё… у него… – тьфу ты, чёрт! – у Марселя тяжёлый лоб весельчака, а на вытянутой руке он держит шлейф прозрачно-неподвижного платья из газа, расшитого жемчугом, падающего отвесно, словно ливень, а в его складках тут и там мелькает то нежное бедро, то щиколотка, то колено. Вытянутое лицо, презрительный взгляд ярко-синих глаз из-под рыжей чёлки – да, это Марсель.
В задумчивости застыв рядом с Рези, прислонившейся к моему плечу, я вспоминаю сразивший меня в Лувре портрет кисти Бронзино, с которого смотрит подозрительный черноглазый юноша…
– До чего красивые руки у этого мальчика! – вздыхает Рези. – Жаль, что у него такой странный вкус…
– Жаль для кого? – подозрительно спрашиваю я.
– Для его близких, разумеется!
Она смеётся и тянется зубами к моим губам. Мои мысли принимают другой оборот…
– Так… а где он спит?
– Он не спит, он сидит. Лежать для него – слишком вульгарно.
Что бы она ни говорила, я отыскала за занавеской розового бархата нечто вроде узкого алькова, диван, обитый тем же бархатом, а на нём листья платана оставили пепельно-зеленоватые угловатые тени. Я спешу нажать на кнопку выключателя, и на этот алтарь льётся свет из опрокинутого хрустального цветка… Вот это да! Орхидея…
Рези указывает изящным пальчиком на многочисленные диванные подушки..
– Теперь сразу видно, что здесь не лежала голова женщины, как, впрочем, и другая часть её тела.
Я смеюсь над её проницательностью. Отлично выбранные подушки, все как одна из жёсткой парчи, расшитой серебряными и золотыми нитями и блёстками. Женские волосы непременно зацепились бы за них.
– Ничего, мы снимем эти подушки. Рези.
– Давайте снимем, Клодина…
Возможно, это будет самое приятное воспоминание о наших нежных отношениях. Я отдаюсь на волю охвативших меня чувств и становлюсь покладистой. Она как всегда пылает страстью, будто поборов робость, а опрокинутый цветок проливает опаловый свет на наш недолгий отдых…
Немного спустя этажом ниже разбитое фортепьяно и сомнительный тенор объединяются и с поразительным упорством долбят одно и тоже:
Поначалу меня смущает что у кого-то такое же, как у меня, чувство ритма. Однако мало-помалу я привыкаю. Теперь мне это не мешает… скорее наоборот
Если бы кто-нибудь мне раньше сказал, что один такт из «Робера-Дьявола»[13] произведёт на меня такое впечатление, что у меня перехватит от волнения горло… Впрочем, для этого необходимо особое стечение обстоятельств.
Около шести часов, когда умиротворённая Рези засыпает, обвив мою шею руками, у входа раздаётся требовательный звон колокольчика; мы так и подскакиваем. Обезумев, Рези с трудом сдерживает крик и вонзает коготки мне в затылок. Я приподнимаюсь на локте и прислушиваюсь.
– Дорогая! Успокойся, не бойся ничего, кто-то ошибся дверью… или это какой-нибудь приятель Марселя: не мог же он их всех предупредить, что его не будет дома…
Она приходит в себя, отнимает руки от побелевшего лица, озирается; в комнате царит беспорядок в стиле восемнадцатого века, самый большой беспорядок, какой только можно себе представить… и вдруг – снова: тр-р-р…
Она вскакивает и начинает одеваться, причём, несмотря на то, что она в панике, её ловкие пальчики знают своё дело. Звон не умолкает, он гремит неспроста: за верёвку дёргает чья-то умная рука, она дразнит, выводит какую-то мелодию… От нервного напряжения я сжимаю челюсти.
Моя бедная подруга, бледная, готовая упорхнуть, зажимает уши. Всякий раз как снова раздаётся звонок, уголки её губ вздрагивают. Мне её жалко.
– Рези! Это, очевидно, приятель Марселя…
– Приятель Марселя! Вы разве не слышите, с какой злобой, с каким смыслом названивает этот невыносимый человек!… Нет, этот «кто-то» знает, что мы здесь. Если мой муж…
– Какая же вы трусиха!
– Благодарю! Легко быть храброй с таким мужем, как у вас!
Умолкаю. К чему препираться? Застёгиваю корсет. Одевшись, я неслышно подхожу к двери и прислушиваюсь. Ничего не разобрать из-за этого звона!
Вот, наконец, последняя долгая трель, после которой звучит нечто вроде восклицательного знака, – и я слышу легкие удаляющиеся шаги.
– Рези! Он ушёл.
– Наконец-то! Подождём немного: возможно, нас выслеживают… Чтобы я ещё когда-нибудь сюда пришла!..
Какой печальный финал для свидания без будущего! Моя трусливая подруга так торопится со мной расстаться, подальше уйти от этого дома, из этого квартала, что я не смею предложить ей возвращаться вместе… Она выходит первой, пока я гашу опрокинутый цветок и собираю разбросанные подушки. Марсель смотрит на меня с портрета, высокомерно задрав подбородок и поджав накрашенные губы…
Сегодня передо мной сидит в чёрном коротком пиджаке оригинал компрометирующей византийской пастели. Он искрится от любопытства, как в те времена, когда его занимала история с Люс.
– Как прошёл вчерашний день?
– Спасибо. У вас там настоящий храм, достойный вас.
Он кивает.
– И вас – тоже.
– Нет, пожалуй, слишком изысканно. В особенности ваш портрет меня… заинтересовал. Мне было приятно узнать, что вам близка эпоха византийского императора Константина.
– Это скорее веление сегодняшнего дня… Так вы, стало быть, обе не лакомки: мой Шато-Икем, подарок бабушки, не соблазнил вас?
– Нет. Любопытство затмило все другие инстинкты.
– О, любопытство, – улыбается он той же улыбкой, что на портрете. – Какие вы хорошие хозяйки: когда я вернулся, всё было в идеальном порядке! Надеюсь, вас никто не побеспокоил?
Улыбка вспыхивает и мгновенно гаснет на его лице, он быстро взглядывает на меня и сейчас же опускает глаза… Ах ты, негодник! Так вот кто трезвонил в дверь или же нанял кого-нибудь с этой целью! Как же я сразу не догадалась?! Ну, ты меня не поймаешь, гадкий мальчишка!
– Отнюдь нет. Как и полагается в приличном доме. Кажется, один раз кто-то позвонил… впрочем, не могу утверждать. Я в это время целиком была поглощена… вашей богиней-гермафродитом со скрещёнными руками…
Это послужит ему уроком! Поскольку мы с ним оба отличные актёры, он напускает на себя довольный вид гостеприимного хозяина.
Письмо из Монтиньи я вынуждена прочесть вслух, чтобы понять, о чём говорится: сплошные каракули!
Что господин всё такой же – в этом я ничуть не сомневаюсь. И что ясень-плакальщик окреп – тоже хорошо. Большой куст инкарнатных роз скоро распустится… До чего же он хорош: разросся во всю стену… Зацветает он рано, пышно цветёт всё лето, то и дело выбрасывает благоухающие бутоны и увядает только к осени; деревце это умрёт, так и не исполнив своего предназначения… Куст инкарнатных роз вот-вот распустится. Эта мысль заставила меня вновь почувствовать, как крепко я связана с Монтиньи. Он вот-вот распустится!.. Я испытываю почти материнскую гордость, словно мне сказали: «Ваш сын завоюет все призы!»
Ко мне взывает вся дружная семья растений. Мой прадедушка, старый орешник, состарился в ожидании моего приезда. Под ломоносом скоро пойдёт звёздный дождь…
Нет, не могу я, не могу! Что станется без меня с Рези? Я не хочу оставлять на неё Рено; мой несчастный папуля такой любвеобильный, а она такая… любезная!
Увезти с собой Рено? Оставить Рези совсем одну в знойном Париже, это с её-то фантазией и страстью к интриге!.. Она мне изменит.
Боже мой! Неужели вот так час за часом, от поцелуя к ссоре, прошло уже четыре месяца? За это время я не сделала ничего, я провела четыре месяца в ожидании. Прощаясь с ней, жду новой встречи; встречаясь, жду, что удовольствие, растянутое или краткое, сделает её ещё красивее и хоть немного искреннее. Когда Рено с нами, жду его ухода; жду ухода Рези, чтобы поговорить спокойно, без горечи и ревности, со своим Рено; со времени нашей связи с Рези он, как мне кажется, стал любить меня ещё больше.
Всё к этому шло! Я заболела, и вот уже три недели выброшены коту под хвост. Инфлюэнца, переохлаждение, переутомление – пусть мой лечащий врач называет это как хочет: у меня был сильный жар и очень болела голова. Но я же крепкая!
Дорогой папочка Рено, до чего вы были со мной ласковы! Никогда ещё я не была вам так признательна за то, как предупредительно вы со мной говорили, тщательно подбирая выражения и обходя острые углы…
Рези тоже за мной ухаживала, несмотря на моё опасение показаться ей некрасивой: Я закрывала руками пылающее лицо. Несколько раз меня шокировали и её манера взглядывать на Рено, садиться «для него» на край моей постели, приподняв одно колено, и сама эта грациозная амазонка в соломенной шляпе, в платье, отделанном английской вышивкой, с бархатным поясом, и все её уловки, слишком кокетливые при посещении больной. Прикрываясь тем, что у меня жар, я как-то ей крикнула: «Уходи!», и она решила, что я брежу.
Мне также показалось, что Рено улыбается её приходу, будто порыву свежего ветра… Они обсуждают при мне то, чего я не видела, я с трудом слежу за их беседой и чувствую себя оскорблённой, словно они говорят на каком-то своём языке…
Я рассердилась на свою подругу за то, что она столь свежа и хороша собой, за её матовые ровные щёки. И хотя она любовно укладывала вдоль дивана, на котором я набиралась сил, тёмно-коричневые розы на длинной ножке, я бралась за зеркальце, спрятанное за подушками, и подолгу разглядывала своё бледное лицо, думая о Рези с ревнивой злобой.
– Рено! Это правда, что листва на бульварах уже порыжела?
– Да, правда, девочка моя. Хочешь съездить в Монтиньи? Там деревья ещё зелёные.
– Они слишком зелёные… Рено! Сегодня я могла бы выйти, я прекрасно себя чувствую. Я съела яйцо, потом целую отбивную, выпила бокал асти и поклевала винограду… Вы куда-нибудь собираетесь? (Стоя у окна своего «рабочего святилища», он смотрит на меня с нерешительностью.) Я бы с удовольствием вышла куда-нибудь с таким красивым мужем, как вы. Этот серый костюм очень вам идёт, а пикейный жилет подчёркивает ваши манеры обольстителя времён Второй империи, которые я так люблю… неужели нынче вы так молодо выглядите ради меня?
На его смуглых щеках проступает едва заметный румянец, он разглаживает длинные с проседью усы:
– Ты же знаешь, как мне больно, когда ты говоришь о моём возрасте…
– А кто говорит о вашем возрасте? Я, напротив, боюсь, что вы будете вечно молоды, и это похоже на врождённую болезнь. Возьмите меня с собой, Рено! Я чувствую такой прилив сил!
Моё архикрасноречие на него не действует.
– Нет, Клодина, коновал тебе сказал: «Не раньше завтрашнего дня». Сегодня пятница. Наберись терпения, воробышек. Ага, а вот и подруга, которая сумеет удержать тебя дома…
Он пользуется приходом Рези и исчезает. Я не узнаю моего папочку, так старательно пытающегося доставить мне удовольствие вопреки здравому смыслу… А врач этот – просто дурак!
– Чем вы недовольны, Клодина?
(Она так хороша, что я веселею. Голубая, голубая, голубая – и в то же время воздушная, словно вышедшая из голубой пены…)
– Рези! Должно быть, эльфы стирали своё бельё в той же воде, что и ваше платье.
Она улыбается. Я сижу, вплотную прижавшись к её бедру, и вижу её чуть снизу. Продолговатая ямочка в форме восклицательного знака делит её упрямый подбородок пополам. Её ноздри похожи на безупречный арабеск, которым я любовалась, рассматривая нос у моей Фаншетты. Я вздыхаю.
– Ну вот! Я хотела выйти, а этот осёл врач не разрешает. Оставайтесь хоть вы со мной! Подарите мне свою свежесть, поделитесь вольным воздухом, раздувающим ваши юбки и свистящим в вашей шляпке из листьев. Это шляпа или корона? Вы как никогда похожи сегодня на неотразимую венку, дорогая, благодаря пене ваших белокурых волос… Оставайтесь со мной, расскажите мне об улице, об обожённых на солнце деревьях… Вы хоть немножечко скучаете по мне?..
Однако она не садится и пока говорит вкрадчивым голоском, переводит взгляд от одного окна к другому словно в поисках выхода.
– О, до чего мне тяжело! Я бы хотела, любовь моя, провести рядом с вами целый день, особенно когда вы одна… Ваши губы уже забыли, верно, мои поцелуи!..
Она наклоняется и подставляет мне свой ротик; я вижу, как блестят её зубы, и отворачиваюсь.
– Нет, у меня как будто жар. Ступайте погулять. Я хочу сказать: отправляйтесь на прогулку.
– Мне не до прогулки, Клодина! Завтра годовщина моей свадьбы – ничего смешного в этом нет! – а я в этот день обыкновенно преподношу мужу подарок…
– Так что же?
– В этом году я забыла о своём долге признательной супруги. И вот теперь я убегаю, ради того чтобы мистер Ламбрук обнаружил нынче вечером под своей салфеткой в виде епископской митры хоть что-нибудь: портсигар, жемчужные пуговицы, футляр с динамитом – всё равно! Не то – три недели ледяного молчания, безупречного достоинства… Боже! – восклицает она, воздев кулаки к небу. – В Трансваале так нужны люди! Какого чёрта он торчит здесь?!
Её насмешливость и словоохотливость вызывает у меня недоверие.
– Рези! Отчего бы вам не доверить покупку безупречному вкусу лакея?
– Я об этом думала. Однако все слуги в доме, за исключением моей «meschine», подчиняются мужу.
(Видимо, она во что бы то ни стало хочет уйти.)
– Ну что же, добродетельная супруга, идите праздновать день Святого Ламбрука…
(Она уже опустила белую вуалетку.)
– Если я вернусь до шести часов, вы захотите меня видеть?
(Как она хороша, когда вот так наклоняется! Из-за резкого движения юбка обвила её ноги, и Рези предстала передо мной словно нагая… Меня охватывает лишь платоническое восхищение… Интересно: это результат моего выздоровления? Желание, как прежде, не сотрясает всё моё существо… И потом, она отказалась пожертвовать ради меня днём Святого Ламбрука!)
– Там будет видно. В любом случае можете подняться, и вам воздастся по заслугам… Да нет же, говорю вам, у меня жар!..
И вот я одна. Я потягиваюсь, прочитываю три страницы, прохаживаюсь по комнате. Сажусь за письмо папе, потом усердно полирую ногти. Сидя перед туалетным столиком, я время от времени бросаю взгляд в зеркало, будто на циферблат. В общем, выгляжу я не так уж плохо… Волосы немного отросли, меня они не портят. Белый воротничок, красная муслиновая рубашка в тонкую белую полоску – от всего этого веет пешей прогулкой, улицей… Я прочитываю решение в собственных глазах, едва взглянув в зеркало. Готово! Соломенная шляпа с чёрной лентой, куртка перекинута через руку, чтобы Рено не ругал меня за легкомыслие – я на улице.
Господи, ну и жара! Теперь меня не удивляет, что инкарнатные розы вот-вот распустятся… До чего я ненавижу Париж! Чувствую необычайную лёгкость: я похудела. Свежий воздух немного кружит голову, но если не стоять на месте и идти дальше, к этому скоро привыкаешь. В голове у меня мыслей не больше, чем у пса, которого вывели на прогулку после недели проливных дождей.
Я невзначай, почти автоматически направилась к улице Гёте. Вот чёрт!.. Улыбаюсь, подходя к дому номер пятьдесят девять, и бросаю доброжелательный взгляд на занавески из белого тюля, закрывающие окна в третьем этаже…
Что это?! Занавеска шевельнулась!.. Это едва уловимое колебание пригвоздило меня к тротуару, я так и застыла на месте. Кто это там «у нас»? Верно, ветер ворвался со двора через окно и приподнял тюль… Однако пока здравый смысл говорит одно, в душе у меня начинает шевелиться подозрение, и вдруг меня озаряет догадка, раньше чем я успеваю осмыслить происходящее.
Я перебегаю улицу, влетаю, словно в кошмаре, на третий этаж по ступеням, застеленным мягким, хорошо впитывающим влагу покрытием, в котором утопают ноги… Набрасываюсь на медную кнопку и звоню что есть мочи… Нет, они не откроют!
Я пережидаю, прижав руку к груди. Мне на память сейчас же приходят слова моей молочной сестры Клер: «В жизни всё как в книгах, верно?»
Я робко тянусь к кнопке и вздрагиваю, когда вновь раздаётся этот незнакомый звон… Проходят две долгие секунды, и я, словно маленькая девочка, заклинаю про себя: «Только бы не открыли!»
Но вот приближаются шаги, и ко мне возвращается мужество, а вместе с ним накатывает и злость. Недовольный голос Рено спрашивает: «Кто там?»
У меня перехватывает дыхание. Я держусь за стену, выкрашенную под мрамор, и чувствую, как камень холодит руку. Слыша, как приотворяется дверь, я хочу только одного – умереть…
…недолго! Надо, надо! Я Клодина, чёрт побери! Я Клодина! Сбрасываю сковывающий меня страх, словно пальто. Говорю: «Отворите, Рено, или я закричу». Смотрю прямо в лицо тому, кто открывает дверь; он одет. В изумлении отступает назад, обронив при этом одно-единственное и вполне умеренное слово: «Чёрт!», как игрок, которому не везёт.
Я снова так и застываю при мысли, что я сильнее его. Я Клодина! И говорю:
– Я увидела снизу, что кто-то мелькнул в окне. Вот и поднялась на огонёк.
– Я сделал гадость, – бормочет Рено.
Он пальцем не пошевельнул, чтобы мне помешать, напротив: отходит в сторону, пропуская меня в комнаты, и входит следом за мной.
Я стремительно миную небольшую гостиную, приподнимаю цветастую портьеру… Так я и знала! Рези здесь, здесь, чёрт возьми, одевается… Она стоит в корсете и трусиках, держа в руках нижнюю кружевную юбку, а шляпа – уже на голове, словно она ждала меня… У меня перед глазами всегда будет стоять её белое лицо, искажающееся под моим взглядом и готовое вот-вот распасться. Хотела бы я пережить такой же ужас… Она смотрит на мои руки, и я прямо вижу, как белеют и пересыхают её губы. Не сводя с меня глаз, она протягивает руку и пытается нащупать своё платье. Я делаю шаг вперёд. Она едва не падает, вскидывает руки и выставляет локти вперёд, будто защищая лицо. В этом жесте открываются её подмышки – я столько раз вдыхала их аромат, отчего у меня внутри поднималась настоящая буря… Сейчас возьму этот графин, швырну его… или, может, вон тот стул… Глаза мне застилает дрожащая пелена, словно поднимающееся над лугом марево…
Рено, не отступающий от меня ни на шаг, трогает меня за плечо. Он немного бледен, у него нерешительный и очень расстроенный вид. Я с трудом выговариваю:
– Что вы… тут делаете? Он против воли улыбается.
– Да… мы тебя ждали… ты же видишь.
Мне всё это привиделось в кошмаре, или он теряет рассудок. Я оборачиваюсь к той, что стоит здесь; за то время, пока я на неё не смотрела, она успела надеть платье цвета голубой воды, в которой эльфы полоскали своё бельё… Пусть только попробует улыбнуться!
«В жизни всё как в книгах, верно?» Нет, милая Клер. В книгах та, что приходит мстить, делает как минимум два выстрела. Или уходит, хлопнув дверью и испепелив виновных презрительным словом… Я же ничего не нахожу, не знаю, что мне следует предпринять, – вот в чём дело. За пять минут так просто не войдёшь в роль обманутой супруги!
Я по-прежнему преграждаю выход. Мне кажется, Рези близка в обмороку. Любопытно было бы взглянуть!
Зато он не испугался. Как и я, он скорее с интересом, а не с волнением следит за лицом Рези, на котором написан неподдельный ужас, и наконец понимает, что эти минуты нашему сближению отнюдь не способствуют…
– Послушай, Клодина… Я хотел бы тебе сказать…
Я дёргаю плечом, и он умолкает. Похоже, ему не очень-то хотелось продолжать; он пожимает левым плечом со смиренным видом фаталиста.
Кого я ненавижу, так это Рези! Медленно к ней приближаюсь. Я словно вижу себя со стороны. И это раздвоение личности делает меня нерешительной. Ударю я её сейчас или только запугаю до бесчувствия?
Она отступает, огибает небольшой чайный столик, пробирается к портрету. Так, пожалуй, она от меня ускользнёт! Нет, так дело не пойдёт!
Однако она уже пытается нащупать портьеру, пятится, не сводя с меня взгляда. Я бессознательно нагибаюсь за камнем – камня нет… Она исчезла.
Я роняю руки, внезапно обессилев.
Мы остались вдвоём и смотрим друг на друга. У Рено почти такое же доброе выражение лица, как обычно. Только немного усталое. Красивые глаза печальны. О Господи! Сейчас подойдёт и скажет: «Клодина»… – и если я дам волю своей злости, если выплесну на него упрёки и слёзы, с ними же выйдет и поддерживающая меня сила: я покину эту квартиру, повиснув у него на руке, жалкая и извиняющая… Ни за что! Я… я Клодина, чёрт возьми! И потом, я его же возненавижу за своё прощение.
Я слишком долго жду. Он подходит и говорит: «Клодина…»
Я резко отстраняюсь и инстинктивно бросаюсь в бегство, подобно Рези. Только в отличие от неё я бегу от самой себя.
Я поступила правильно. Улица, взгляд на предательскую занавеску всколыхнули во мне гордыню и озлобление. Теперь, кстати сказать, я знаю, куда мне идти.
В фиакре домчаться до дому, схватить дорожную сумку, спуститься вниз, швырнув ключ на стол, – это займёт не больше четверти часа. Деньги у меня есть, немного, но мне хватит.
– Кучер! Лионский вокзал!
Перед тем как сесть в поезд, я отправляю телеграмму папе, потом Рено: «Вышлите Монтиньи одежду и бельё для пребывания неопределённый срок».
Эти серо-голубые васильки на стене – словно тени цветков на светлой бумаге… и эта персидская занавеска с непонятным рисунком… да, вот чудовищный плод, а здесь – яблоко с глазами… Раз двадцать я видела их во сне за два года, проведённых в Париже, но никогда не представляла так ярко, как сейчас.
На сей раз я отчётливо слышала сквозь некрепкий сон, как скрипнул насос! Подскочив в своей девичьей постели, я обвожу взглядом комнату, в которой прошло моё детство, и мои глаза наполняются слезами. Это светлые слёзы, похожие на золотой луч, прыгающий в окнах; они дороги мне, как и цветы на серых обоях. Значит, это правда, я здесь, в этой комнате! Не думаю ни о чём другом; но вот вытираю глаза розовым носовым платком… стоп! он не из Монтиньи!
Мне так грустно, что слёзы высыхают сами собой. Мне причинили зло. Спасительное зло? Я близка к тому, чтобы в это поверить, не могу же я наконец страдать в родном Монтиньи, в этом доме… Мой любимый письменный стол в чернильных пятнах! В нём до сих пор хранятся мои школьные тетрадки: «Арифметика», «Чистописание»… С приходом Мадемуазель уже не говорили: «Задачи», «Диктанты»; на смену им пришли более изысканные «арифметика» и «чистописание», это больше в стиле «Среднего образования»…
Крепкие коготки скребутся в дверь, царапают замок. Тревожное и властное «мяу!» требует, чтобы я отворила… Девочка моя любимая, как ты хороша! В голове у меня такая мешанина, что я чуть было не забыла о тебе, Фаншетта! Иди ко мне на руки, в постель, уткнись мокрым носиком и холодными зубами мне в подбородок, взволнованная до такой степени, что стучишь лапками по моей голой руке, выпустив все коготки. Сколько же тебе лет? Пять? Или шесть? Не помню. Ты такая беленькая, что всегда будешь юной. И умрёшь юной – как Рено. Ну вот! Это воспоминание всё мне портит… Побудь со мной ещё, прижмись к моей щеке, и я забудусь, слушая твоё громкое урчание…
О чём ты подумала, когда я приехала так внезапно и без багажа? Даже папа заподозрил неладное.
– Ну что? А где твой муж-паразит?
– Он приедет, как только освободится, папа.
Бледная, с отсутствующим видом, я была мыслями ещё там, на улице Гёте, между двумя существами, причинившими мне зло. Хотя часы пробили десять, я отказалась сесть за стол и хотела одного: как можно скорее лечь в постель, забиться в тёплую уютную норку и подумать, поплакать, разжигая в себе ненависть… Однако тень моей прежней комнаты приютила столько доброжелательных маленьких призраков, что вместе с ними приходит сон, крепкий и благодатный.
За дверью раздаются шаркающие шаги. Мели входит без стука, не собираясь, видимо, отказываться от прежних привычек. Она держит в одной руке небольшой облупившийся поднос – всё тот же! – а другой поддерживает левую грудь. Она постарела, перестала за собой следить и готовя на сомнительное посредничество, однако, глядя на неё, я чувствую, как у меня отлегло от сердца. Эта некрасивая служанка вносит на облезлом подносе в дымящейся чашке «приворотное зелье, которое омолаживает…» Зелье её пахнет шоколадом. Я умираю с голоду.
– Мели!
– Что, душечка моя?
– Ты меня любишь?
Она не спеша ставит поднос и только после этого вяло пожимает плечами:
– Может, и так.
Это правда. Я чувствую, что это правда. Она продолжает стоять и наблюдает за тем, как я ем. И Фаншетта смотрит на меня, усевшись мне на колени.
Обе откровенно мной восхищаются. Но вот Мели качает головой и с осуждающим видом взвешивает левую грудь на руке.
– Что-то ты осунулась. Что они там с тобой делали?
– У меня была инфлюэнца, я писала папе. А где он?
– У себя в кабинете, могу поклясться. Увидишь его, когда время придёт. Хочешь, я схожу за бадейкой?
– Это ещё зачем? – улыбаюсь я, с удовольствием вслушиваясь в местный говор.
– Чтобы помыть твою задницу и остальные места.
– Угу! И какие!…
С порога она оборачивается и спрашивает без обиняков:
– Когда будет господин Рено?
– Я-то почём знаю? Он тебе напишет. Пошевеливайся, живо!
В ожидании бадьи я свешиваюсь в окно. На улице – ни души, только крыши домов взбегают к самому небу. Из-за крутого подъёма каждый следующий дом упирается окнами второго этажа в первый этаж дома предыдущего. Несомненно, пока меня здесь не было, подъём стал ещё круче. Я останавливаю свой взгляд на углу улицы Сестёр, которая ведёт прямо – я хотела сказать «криво» – к школе… А не навестить ли мне Мадемуазель? Нет, я недостаточно хороша собой… И потом, я могу там встретить малышку Элен, эту будущую Рези… Нет, хватит с меня подруг, довольно женщин!… Я встряхиваю рукой, растопырив пальцы и словно пытаясь отделаться от длинного волоса, зацепившегося за ноготь… Проскальзываю босиком в гостиную… Эти старые кресла со всеми своими дырками ещё помнят мою улыбку! Здесь ничто не изменилось. Два штрафных года в Париже не изменили их круглые спинки и хорошенькие ножки в стиле Людовика XVI, хотя обивка обветшала… Какая дура эта Мели. Синяя ваза пятнадцать лет стояла слева от зелёной, а она поставила её справа! Я поскорее расставляю всё по местам и завершаю убранство комнаты, в которой прошла почти вся моя жизнь. Всё на своих местах, только куда-то подевались моя былая радость, моё беззаботное одиночество…
За закрытыми ставнями – залитый солнцем сад… Нет, нет, сад, тобой я полюбуюсь через час! Ты слишком сильно меня волнуешь, стоит мне лишь заслышать шелест твоей листвы, а я очень давно не видела зелени!
Папа думает, что я сплю. Или забыл, что я приехала. Ничего. Я пойду в его пещеру и вытяну из него проклятия, но всему своё время. Фаншетта следует за мной по пятам, опасаясь, как бы я не сбежала. «Де-е-евочка моя!» Ничего не бойся. Знай, что моя телеграмма гласила: «Одежду и бельё – неопределённый срок…» Неопределённый. Что сие означает? Понятия не имею. Но мне кажется, что я здесь надолго. Как приятно убежать от своей болячки!
Моё утро завершается в волшебном саду. Деревья выросли. Временный жилец ничего не тронул, даже к траве на дорожках не прикасался, по-моему…
На огромном орешнике – тысячи спелых орехов. И стоит мне вдохнуть тяжёлый густой аромат одного из его смятых листиков, как глаза у меня закрываются сами собой. Я прислоняюсь к орешнику – а он защищает сад и в то же время опустошает его: в его прохладной тени гибнут розы. Да что за дело? Нет ничего прекраснее дерева – этого, во всяком случае. В глубине, у той стены, за которой сад мамаши Адольф, две сосны-близняшки с серьёзным видом кивают головами; они круглый год не меняют тёмно-зелёный наряд…
Уже отцвели кисти у глицинии, что карабкается на крышу… Тем лучше! Я не могу простить глицинии, что её цветы украшали когда-то волосы Рези…
Застыв у ствола орехового дерева, я снова сливаюсь с природой. Вон там голубеет вдали Перепелиная гора. Завтра будет красиво, если Мутье не закроют облака.
– Ангел мой! Тебе письмо!
…Письмо… Уже… Недолго же я отдыхала! Неужели он не мог дать мне побольше времени, ещё немного солнца и вольной жизни? Я чувствую себя маленькой и робкой перед неумолимо надвигающейся мукой… Стереть, стереть из памяти всё, что было, и начать всё сначала… Увы!
(Мог бы не трудиться. Я знаю всё, что он скажет. Да, я была его дочкой! Почему же он меня обманул?)
Как мне плохо, как больно! Я рыдаю, сидя на земле и уткнувшись лбом в ореховый ствол. Мне обидно за себя; мне обидно, увы, и за него… До сих пор я не знала, что такое «слёзы любви», зато теперь выплакала их за двоих; и я переживаю за него даже больше, чем за себя… Рено, Рено!..
Впадаю в оцепенение, моя печаль как бы понемногу застывает. Слежу горящим взором за полётом осы, за сложной траекторией садовницы, за тем, как встряхивает крыльями птица…
До чего хорош этот аконит обычного синего цвета, яркого и насыщенного… Откуда этот сладковатый аромат – так пахнут восточные масла или пирог с вареньем из лепестков роз… Да это же большой куст инкарнатных роз приветствует меня… Ради него я поднимаюсь на ноги, облепленные муравьями, и подхожу ближе.
…Сколько роз, сколько роз! Мне хочется сказать: «Передохни. Ты долго цвёл, много работал, растратил свои силы и аромат…» Вряд ли он меня послушается. Он хочет побить рекорд среди роз по количеству цветков и силе запаха. Он вынослив, в хорошей форме и выкладывается изо всех сил. У него несчётное число благочестивых дочерей– прелестных маленьких розочек; их лепестков будто едва коснулись по краям кистью, обмакнув её в ярко-красную краску. Если бы кто-нибудь вздумал рассматривать их поодиночке, они могли бы показаться глуповатыми; но кому взбредёт в голову критиковать покрывало из жужжащих пчёл, которое розы набросили на эту стену?
– …Свинья ослиная! Пускай бы кто-нибудь содрал шкуру с этого исчадия ада!..
Сомнений быть не может, это папа объявился. Я рада его видеть, меня отвлечёт его экстравагантность: я бегу ему навстречу. Он свешивается из окна второго этажа, где находится библиотека. В его бороде прибавилось седины, но она по-прежнему струится трехцветной рекой по его груди. Ноздри его пышут огнём, он готов всех смести с лица земли.
– Что с тобой, папа?
– Эта мерзкая кошка испачкала своими лапами и навсегда погубила мою восхитительную акварель! Надо вышвырнуть эту дрянь в окно!
(Так он теперь пишет акварелью? Я трепещу за свою де-е-евочку…)
– Папа, что ты с ней сделал?
– Ничего, разумеется! Но я был вправе на неё рассердиться, это был мой долг, слышишь, мерзавка ты эдакая?!
Я облегчённо вздыхаю. Я редко вижу папу и совсем забыла, что его молнии совершенно безопасны.
– А как ты чувствуешь себя, Диночка?
В его голосе звучат ласковые нотки, а это детское имя всколыхнуло в моей душе нежнейшие воспоминания; я любовно перебираю их одно за другим… Вдруг папа устраивает новый разнос.
– Эй, ослица, я кажется, с тобой говорю?
– Да, папочка. У меня всё хорошо. Ты работаешь?
– Усомниться в этом равносильно оскорблению. Вот прочти, это вышло на прошлой неделе; это произвело сенсацию. То-то удивились мои коллеги-бездельники!..
Он швыряет мне номер «Отчётов» с его бесценным сообщением.
(Малакология, малакология! Ты одариваешь своих верных служителей счастьем и заставляешь их позабыть о человечестве со всеми его бедами… Листая номер приятного розового цвета, я вдруг наткнулась на настоящего слизняка, тягучее такое слово, переползающее с одной строки на другую всеми пятьюдесятью одной буквой: «тетраметил-монофенил-сульфотрипа-риа-амидо-трифенил-метан». Увы, я слышу смех Рено: он бы повеселился от такой находки…)
– Позволь, папа, я оставлю эту брошюру себе! Это ведь у тебя не последняя?
– Нет, – величаво отзывается он из своего окна. – Я заказал десять тысяч экземпляров отдельным тиражом у Готье-Вийяра.
– Это мудро. В котором часу обед?
– Обратись к челяди. Я – только мозг: я не ем, я думаю.
Он с треском захлопывает окно, и оно сейчас же вспыхивает на солнце.
Знаю я отца; как человек, превратившийся в мозг, он в назначенный час прекрасно «обдумывает» серьёзный кусок мяса.
Целый день уходит на то, чтобы шаг за шагом, по крохам собрать моё детство, разбросанное по углам старого дома. Я смотрю сквозь живую решётку, которую сплела за моим окном мощная глициния, как меняется и бледнеет, а затем лиловеет Перепелиная гора. Густой тёмно-зелёный лес становится к вечеру синим; оставлю его на завтра… Сегодня же я перевязываю свою рану и стараюсь утишить боль в спасительном одиночестве. Слишком много света, свежего ветра, а зелёные колючки, украсившие себя розовыми цветочками, могут обтрепать нежную спасительную повязку, под которой прячется моя израненная печаль.
Я слушаю, как засыпает в закатных лучах наш сад. У меня над головой то и дело бесшумно проносится маленькая летучая мышь… Со сливы падают ягоды; они лопаются, едва успев созреть, а падая, увлекают вслед за собой упрямых ос… Пять, шесть, десять насекомых облепляют трещинку на небольшой ягоде… Осы падают и всё равно продолжают лакомиться, рассекая воздух прозрачными крылышками… Так же трепетали под моими губами золотистые ресницы Рези…
Я не вздрогнула при воспоминании о предавшей меня подруге; вопреки ожиданиям, в эту минуту у меня не перехватило дыхание. Так я и думала: не любила я её!..
Зато не могу без боли вспомнить, как Рено стоял в сумерках спальни, ожидая моего решения, и в его печальных глазах был написан страх…
– Радость моя! Тебе телеграмма!
(Это уже слишком! Я настроена воинственно и поворачиваюсь, приготовившись разорвать голубой листок.)
– Ответ оплачен.
Я читаю:
…На большее он не осмелился. Он подумал о папе, о Мели, о начальнице почты мадемуазель Матье. Я тоже о них обо всех думаю и потому отвечаю так:
Заснула в слезах. Не помню, что мне приснилось, однако просыпаюсь я в угнетённом состоянии, с трудом подавив вздох. Заря только занимается: всего три часа утра. Куры ещё спят, и только оглушительно чирикают воробьи. Нынче будет тепло: небо на востоке голубое…
Я хочу, как когда-то в детстве, встать до зари, отправиться во Фредонский лес и напиться из источника, ещё хранящего ночную свежесть, захватить темноту, отступающую под натиском солнечных лучей в самую чащу.
Спрыгиваю наземь. Лишившись моего соседства, Фаншетта даже не открывает глаз: сворачивается клубком и продолжает спать. Раздаётся лёгкий скрип: она только крепче прижимает белую лапку к закрытым глазам. Утренняя роса её не интересует. Фаншетта любит ясные ночи: она сидит, прямо держа спину, подобно египетской богине-кошке, и, глядит в небо, наблюдает за нескончаемым движением молочно-белой луны.
Я торопливо одеваюсь в предрассветной мгле и вспоминаю, как когда-то худенькой девочкой отправлялась зимним утром в Школу, дрожа от холода и утопая в неубранном снегу. Надвинув красный капюшон по самые глаза, я на ходу сдирала зубами шкурку с варёных каштанов, то и дело оскальзываясь в своих маленьких остроносых сабо…
Пробираюсь садом, перелезаю через садовую решётку. На двери в кухне пишу углём: «Клодина вышла, вернётся к обеду»… Уже задрав юбку и приготовившись перелезть через решётку, я улыбаюсь своему дому, потому что нет для меня на свете ничего роднее этой серой гранитной коробки с облупившимися и распахнутыми круглые сутки ставнями на доверчивых окнах. Лиловато-розовую черепицу на крыше украшает бархатистый белый лишайник, а на флигеле две ласточки чистят свои белые грудки в первых солнечных лучах.
Моё неожиданное появление на улице вызывает беспокойство у собак, копающихся в помойке; серые кошки выгибают спины и бросаются врассыпную. Рассевшись по слуховым оконцам, они не спускают с меня жёлтых глаз… Скоро кошки снова спустятся, как только за поворотом стихнут мои шаги…
Эти парижские ботиночки – не для Монтиньи.
Я бы предпочла не такие изящные, зато подбитые гвоздями.
Мне холодно: совсем я отвыкла от утренней свежести; у меня мёрзнут уши. Вверху проплывают лёгкие розовые облачка, и вдруг края крыш окрашиваются в ярко-рыжий цвет… Я устремляюсь на этот свет, подбегаю к воротам Сен-Жан, что на полпути к вершине холма, где одинокий домишко, стоящий на краю города, сторожит поле. Здесь я останавливаюсь и облегчённо вздыхаю…
Неужели конец моим страданиям? Суждено ли мне именно здесь навсегда проститься со своей болью? Этой лощине, узкой словно колыбелька, я шестнадцать лет поверяла все свои мечты одинокой девочки… Мне кажется, они до сих пор здесь спят под покровом молочно-белого тумана, который колышется и перетекает, словно волна…
Стук опускаемого ставня выводит меня из задумчивости и заставляет выйти из-за каменного укрытия на ветер, который сейчас же набрасывается на моё лицо… Мне теперь не до людей. Я хочу спуститься, пройти сквозь пелену тумана, подняться по жёлтой песчаной дороге до леса, где вершины деревьев уже вспыхнули под лучами восходящего солнца… Вперёд!
Я торопливо шагаю вдоль изгороди, пристально глядя под ноги, словно высматриваю целебную траву, способную излечить меня от тоски…
Возвращаюсь я в половине первого совершенно разбитая, словно мне задали трепку трое браконьеров. И пока сетует Мели, я с растерянной улыбкой разглядываю своё измученное лицо со свежей царапиной над губой, свалявшиеся волосы в репейниках, мокрую юбку, на которой зелёные мохнатые зёрнышки дикого проса оставили свой рисунок. Рубашка из голубого линона треснула под мышкой, и через прореху поднимается горячий влажный запах, от которого когда-то терял голову Рен… Нет, хочу о нём забыть!
До чего красиво в лесу! Какой нежный свет струится сквозь листву! А какая холодная роса на поросших травой обрывах! Хотя мне не попадались ни в лесной поросли, ни на лугу прелестные полевые цветы: незабудки и смолёвки, нарциссы и весенние маргаритки, а купены и ландыши давно уже отцвели и их колокольчики осыпались, мне по крайней мере удалось омыть руки в росе и пробежать голыми ногами по высокой траве, забыть об усталости, лёжа на сухом бархате мхов и сосновых иголок, беззаботно погреться в горячих солнечных лучах… Я вся напоена светом, свежим дыханием ветра, во мне ещё звучат звонкие трели цикад и крики птиц, будто в комнате, распахнувшей окна в сад…
– Хорошее было платье! – с сожалением говорит Мели.
– …Мне всё равно! У меня хватает платьев. Ах, Мели, кажется, я бы не вернулась, если бы не обед!.. Умираю с голоду!
– Отлично! Еда на столе… Надо же, что удумала! Мсье так беспокоился, места себе не находил! Ты ничуть не изменилась: всё такая же шалая!
Я так набегалась за утро и столько всего увидела, что после обеда остаюсь в саду. Огород, куда я ещё не заглядывала, угощает меня тёплыми абрикосами и терпкими персиками, которыми я лакомлюсь, лёжа на животе под высокой елью и положив перед собой старый томик Бальзака.
В голове у меня – ни одной мысли, усталость взяла своё; не в этом ли состоит возвращённое мне счастье, забвение, благодатное одиночество былых времён?
Может быть, я ошибаюсь? Да нет. Мели неправа, я больше не «такая же, как прежде». С наступлением сумерек меня снова охватывает беспокойство, возвращается чувство неловкости, мучительной неловкости, которая гонит меня из комнаты в комнату, заставляет пересаживаться из одного кресла в другое, хвататься то за ту книгу, то за эту, как бывает с больным, катающимся по постели в поисках прохлады… Я возвращаюсь на кухню, долго стою в нерешительности… помогаю Мели сбивать майонез, который никак не получается… наконец с непринуждённым видом спрашиваю:
– Писем мне сегодня не было?
– Нет, ангел мой: принесли одни газеты для мсье.
Засыпая, чувствую себя до того измученной, что у меня гудит в ушах, а натруженные икры судорожно подёргиваются. Но спала я неспокойно, даже во сне чего-то ожидая. Вот почему сегодня я не спешу вставать с постели и лежу между Фаншеттой и остывающим шоколадом.
Фаншетта, убеждённая в том, что я вернулась ради неё одной, со времени моего возвращения не устаёт радоваться; возможно даже, её радость преувеличена. Я мало с ней играю. Ей не хватает прежних забав: я не вожу её на задних лапках, не хватаю за хвост, не связываю ей лапы попарно с криком: «А вот белый заяц! Он весит восемь ливров!» Я неизменно ласкова, охотно глажу её и уже не щиплюсь, не кусаю её за ушки… Фаншетта! Нельзя иметь всё сразу; вот, к примеру, я…
Кто там поднимается по ступеням крыльца? Думаю, это почтальон… Лишь бы не было писем от Рено!..
Мели уже принесла бы мне его письмо… А она всё не идёт. Я слушаю во все уши, напрягаю все свои чувства… Не идёт… Нет письма… Тем лучше! Пусть забудет и не мешает мне выбросить его из головы!..
Что означает этот вздох? Облегчение, в этом я ничуть не сомневаюсь. Однако вот уже мне страшно за успокоившуюся Клодину… Почему он не написал? Потому что я ему не отвечаю… А он боится вызвать моё неудовольствие… Или он написал и разорвал письмо… Пропустил почту… Он болен!
Я вскакиваю, оттолкнув ощетинившуюся кошку; она мигает глазами: не успела проснуться. От этого резкого движения я прихожу в чувство, мне становится стыдно…
Мели такая медлительная… Должно быть, положила письмо в кухне на край стола, рядом с маслом, которое приносят обёрнутым в два свекольных листа с черешками… Письмо может замаслиться… Я хватаюсь за шнур и звоню изо всех сил, словно в церковный колокол.
– Принести горячей воды, душенька?
– Да, чёрт побери… Скажи, Мели, почтальон ничего для меня не приносил?
– Нет, ангел мой. – Её выцветшие голубые глаза смеются, она игриво замечает: – Ага! Соскучилась по своему муженьку, молодая жена? Не терпится!..
Она выходит хихикая. Я отворачиваюсь от зеркала, лишь бы не видеть собственное жалкое лицо…
Собравшись с духом, поднимаюсь следом за Фаншеттой на чердак, где я не раз находила убежище, когда надолго заряжал дождь. На чердаке просторно и сумрачно, на деревянных роликах сушилки развешаны простыни; в одном углу навалена целая гора попорченных мышами книг; старинный стул, продавленный и без одной ноги, ждёт, когда на него сядет призрак… В огромной ивовой корзине обрывки обоев времён Реставрации: на пронзительно-жёлтом фоне в лиловую полоску – зелёная решётка, увитая сложным растениями, а над ними порхают невероятные птицы цвета зелёной тыквы… Всё это – вперемешку с останками старого гербария; я любовалась (пока не испортила гербарий) хрупкими островами редких растений, неведомо откуда взявшихся… Однако кое-что от гербария осталось, и я с наслаждением вдыхаю сладковатый аптечный запах застарелой пыли, заплесневелой бумаги, высохших растений и цветков липы, которые были собраны на прошлой неделе и теперь сохнут на расстеленной белой простыне… Я поднимаю голову, и в высоком слуховом окне, как в раме, предстаёт передо мной давно знакомый далекий и законченный пейзаж: слева – лес, сбегающий луг, красная крыша в углу… Композиция тщательно продумана, картинка простенькая, но прелестная.
Внизу звонят… Я слушаю, как хлопают двери, доносятся неясные голоса, – похоже, будто переносят что-то тяжёлое… Бедная измученная Клодина! Совсем немного нужно теперь для того, чтобы тебя взволновать!.. Не могу больше терпеть – лучше спущусь в кухню.
– Где тебя носило, душа моя? Я пошла было тебя искать, а потом решила, что ты опять куда-нибудь умотала… Господин Рено прислал твой чемодан. Рака-лен отнёс его в твою комнату по маленькой лестнице.
При виде огромного чемодана телячьей кожи я мрачнею и чувствую раздражение, словно передо мной – вражеский лазутчик… На одной из стенок ещё осталась огромная красная наклейка с белыми буквами: «ОТЕЛЬ БЕРГ».
Она сохранилась со времени нашего свадебного путешествия… Я попросила оставить эту наклейку; благодаря ей чемодан виден издалека, это удобно… В отеле «Берг»… Тогда всё время шёл дождь, мы так ни разу и не вышли… Я с ненавистью отбрасываю крышку, словно хотела бы избавиться от дорогого и вместе с тем мучительного воспоминания и задушить замаячившую передо мной надежду…
На первый взгляд кажется, что горничная вроде бы ни чего не забыла. Горничная… Здесь поработали не её руки, другие… Между летними рубашками и тонким свежевыглаженным бельём, перевязанным ленточкой, не горничная положила небольшой зелёный футляр… Рубин, подаренный мне Рено, прозрачный, кроваво-красный, похож на дорогое сладкое вино… Я протягиваю руку… – нет, нет, пусть полежит пока в своём зелёном футлярчике!
Во внутреннем отделении уложены мои платья: плоские корсажи, обвисшие рукава – три простеньких платья, которые я могу оставить здесь. Но оставлю ли я и эту старинную шкатулочку золочёного серебра, которую подарил мне тоже он, как рубин, как и всё, что у меня есть. В неё насыпали моих любимых шоколадных конфет, тающих во рту… Рено, злой мальчишка, если бы вы знали, как горьки эти конфеты, омытые моими слезами…
Теперь я долго собираюсь с духом, прежде чем взяться за следующую вещь; в каждой складке притаилось прошлое; там подстерегает нежная и умоляющая забота того, кто предал меня… Всюду чувствуется его рука; он долго гладил это сложенное бельё, завязывал бантики на этих пакетах…
Взгляд у меня затуманился, я не спешу опустошить эту святыню…
Я бы хотела, чтобы время остановилось! На самом дне, в одной из сафьяновых туфелек без задника спряталось свёрнутое в трубочку письмо. Я знаю, что прочту его… однако меня охватывает озноб при виде этого запечатанного письма! До чего неприятно оно хрустнуло в моих дрожащих пальцах! Надо его прочесть, хотя бы только затем, чтобы прекратить этот отвратительный хруст…
– Куда это ты собралась? Обед уже на столе.
– Тем хуже для него. Я обедать не буду. Скажи папе… что хочешь, что я иду гулять к Перепелиной горе… Приду не раньше вечера.
Продолжая говорить, я лихорадочно укладываю в небольшую корзинку горбушку от каравая с трещинкой, яблоки этого урожая, ножку цыплёнка, которую я стянула с поданного к обеду блюда… Разумеется, я не буду здесь обедать! Чтобы разобраться в своих чувствах, я должна посидеть в лесной тени, словно прося совета у прекрасных деревьев, чарующих игрой света и тени в их густых кронах…
Не обращая внимания на палящее солнце, я иду не останавливаясь по неширокой Вримской дороге, похожей скорее на канаву или песчаное русло высохшей реки. У меня из-под ног шарахаются в разные стороны изумрудные ящерицы, такие пугливые, что мне ни разу не удалось поймать ни одной из них; надо мной вьётся целая туча обыкновенных бежево-коричневых бабочек. Но вот пролетает, делая зигзаги, траурница, она почти касается изгороди, словно ей не дают подняться выше тяжёлые крылья коричневого бархата… Вдалеке тонкий волнистый след словно вдавлен в песок на дороге: там прополз уж, чёрный и блестящий. Может быть, он держал в своём плоском черепашьем ротике зелёные лапки ещё живой лягушки…
Я поминутно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, как уменьшается на глазах сарацинская башня, увитая плющом, и разваливающийся замок. Хочу дойти до вон того небольшого домика лесничего; в сторожке ещё сто лет назад провалился пол первого и единственного этажа, лишился он и окон, дверей, названия. Теперь здешние жители зовут его так: «неболь-шой-домик-стены-которого-исписаны-гадостями». Вот так. И это правда: никогда ещё я не видела столько непристойных слов, грубых и наивных, – нацарапанных, написанных углём, сопровождённых рисунками, которые вырезаны ножом или нарисованы мелом, – вдоль, поперёк, наискосок через все стены. Но мне не нужен этот шестиугольный домишко, куда приходят по воскресеньям банды задиристых парней и девиц… Мне нужен лес, который охраняла когда-то эта сторожка, – лес, нетронутый подгулявшей молодёжью, потому что он слишком густой, слишком мрачный, перерезанный канавами, которые поросли папоротником…
Я проголодалась. Тревожные мысли отступили. Я ем, словно дровосек, поставив корзинку на колени, испытываю огромное наслаждение оттого, что просто живу, радуюсь вкусу хрустящего хлеба, и яблока, подёрнутого белым налётом! Прекрасный пейзаж пробуждает во мне чувственность сродни той, что я переживаю, утоляя физический голод: эти высокие, как один, и мрачные деревья пахнут яблоком, этот свежий хлеб так же веселит, как крыша розовой черепицы, что проглядывает сквозь деревья…
Потом я ложусь на спину, скрестив руки на груди, и жду, когда придёт спасительное оцепенение.
В поле – ни души. Да и зачем здесь люди? На этих полях ничего не выращивают. Растёт трава, умирают деревья, дичь сама идёт в силки. Пастухи водят баранов вдоль кустарника, – и всё в этот час отдыхает вместе со мной. Цветущий куст ежевики обманчиво пахнет клубникой. Под низкой веткой корявого дуба я укрыта так же надёжно, как под козырьком дома… Я переползаю на свежую травку, но тут раздаётся шелест скомканной бумаги и отгоняет сон… Письмо от Рено бьётся у меня в корсаже, письмо умоляет…
Он писал впервые в жизни, может быть, не взвешивая слова, он писал не обдумывая написанное, – он, которого от слова, повторенного через две строки, коробит обычно не меньше, чем от чернильного пятна на пальце…
Это письмо я ношу, будто невеста, на груди. Оно, да ещё позавчерашнее – единственные любовные письма, которые я получила от Рено: во время нашей недолгой помолвки Рено жил совсем рядом, и с тех пор я всегда, с радостью, покорностью или равнодушием, следовала за мужем – любителем путешествий и светской жизни.
…Что хорошего я сделала для нас с ним за эти полтора года? Я радовалась его любви, меня огорчало его легкомыслие, я бывала шокирована его мыслями и поступками– всё это ни слова не говоря, избегая объяснений, и я не раз сердилась на Рено за своё молчание…
Я поступала эгоистично, страдая и не пытаясь найти избавление от страдания; из гордыни я осуждала его молча. А ведь он на всё был готов ради меня! Я всего могла добиться благодаря его ласковой предупредительности; он любил меня достаточно для того, чтобы мною руководить, – надо было только мне с самого начала направить его. А что сделала я? Попросила… ключ от холостяцкой квартиры!
Необходимо всё начать сначала. К счастью, ещё не поздно. «Дорогой мой папочка! – скажу я ему. – Приказываю вам меня обуздать!..» Ещё я ему скажу… столько всего…
…Пусть идёт время, пусть движется солнце, вылетают из леса нежные ночные бабочки, пусть покажется, хоть для неё и рановато, робкая симпатичная сова и, мигая подслеповатыми глазами, сядет на опушке леса; пусть лесная поросль откликнется с наступлением вечера тысячью голосов, негромких криков – я буду слушать вполуха и следить за всем рассеянным ласковым взглядом… Вот я встаю, потягиваюсь, разминаю затёкшие руки и ноги и, подгоняемая сгущающимися сумерками, бегу в Монтиньи… Ведь скоро придут за почтой, чёрт возьми! Я хочу написать Рено.
Решение принято… Ах, как мало мне для этого было нужно!
Дорогой Рено! Мне трудно Вам писать, ведь я делаю это в первый раз. Но мне кажется, что я никогда не смогла бы сказать Вам то, что хочу успеть сказать, прежде чем уйдёт вечерняя почта. Я должна перед Вами извиниться за свой отъезд и поблагодарить Вас за то, что Вы позволили мне уехать. Мне понадобилось четыре дня, проведённых в одиночестве и тоске, чтобы понять то, в чём Вы убедили бы меня за несколько минут… Тем не менее, я считаю, что эти четыре дня не прошли даром.
Вы написали мне о своей любви, дорогой папочка, ни слова не сказав о Рези; Вы не упрекнули меня: «ты сама занималась с ней почти тем же, чем и я…» Хотя это было бы в общем правильно… Но Вы-то знали, что это не было одно и то же… и я Вам признательна за то, что Вы этого не сказали.
Я бы ни за что не хотела в будущем огорчать Вас, но Вы должны мне помочь, Рено. Да, я Ваша дочка – и не что иное, – дочка чересчур избалованная, которой Вы должны иногда в чём-то отказывать. Я пожелала иметь Рези, и Вы преподнесли мне её, словно конфетку… А надо было объяснить, что сладости бывают вредны и что желательно избегать дешёвых товаров… Не бойтесь, дорогой Рено, огорчить свою Клодину, немножко её пожурив. Мне нравится зависеть от Вас и побаиваться друга, которого я очень люблю.
Ещё я хочу сказать Вам вот что: я не вернусь в Париж. Вы доверили меня родному краю, который мне очень дорог; так приезжайте ко мне сюда, держите меня здесь, любите тоже здесь. Если Вам придётся иногда от меня уезжать– вынужденно или такова будет Ваша воля, – я буду Вас здесь ждать как верная жена. Этот край и прекрасен, и печален, не бойтесь здесь соскучиться, тем более что рядом буду я. Ведь я похорошела, стала ещё нежнее и вернее.
Приезжайте ещё и потому, что я не могу больше жить без Вас. Я люблю Вас, люблю – я в первый раз пишу Вам об этом. Приезжайте! Я ждала Вас долгих четыре дня, дорогой мой муж, теперь Вы наконец перестанете быть для меня слишком моложавым!..
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |