"Записки одессита" - читать интересную книгу автора (Свинаренко Игорь Николаевич)
Драки за Пастернака
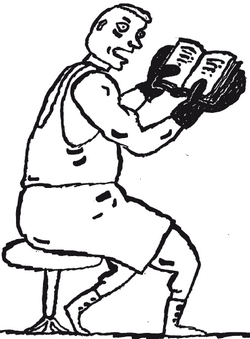 |
За пятый класс я поменял четыре школы, а везде бьют, это ж драться надо. И дома я дрался, с младшим братом, один из нас был Фидель Кастро, а второй Джон Кеннеди. В мире тоже было неспокойно, как раз начался Карибский кризис, ждали ядерной войны. Серьезное было настроение. И мама решила: умирать, так всем вместе. Мы сели в Одессе в поезд и поехали в город Братск, где работал отец.
Я там знал все, мы там раньше жили пару лет. На меня сильно повлиял Братск. Сейчас не понимают, что такое была Братская ГЭС. Это был символ. Бренд! В оттепель туда поехали люди, чтобы строить коммунизм с человеческим лицом. Абсолютная романтика. Мне было десять лет, а романтику я уже чувствовал. На плотину просто молились все. Кто работал на основных сооружениях – это гвардия была, не в конторе ж сидеть…
Мои родители поженились в 56-м в городке Усть-Кут, там одни лагеря вокруг были и судоверфь. Зеков повыпу-скали, а без них верфь, где папа был главным инженером, закрылась, ну и махнули они в Братск, тогда город только начинался. Жили в палатках, и я в школу из палатки пошел – не туристской, конечно, это была военная палатка, здоровенная такая, с каркасом, на деревянном помосте. К этим палаткам приходили местные в ремесловой форме и били всех приезжих пацанов. Потом мы переехали на другой берег, в коммуналку. Через Ангару перебирались по льду, пешком.
Папа был большой начальник на стройке, он получал северные надбавки, и мама тоже. Жили мы хорошо. У нас первая машина появилась в 1958 году, «Москвич». Потом купили «Волгу», у вдовы экскаваторщика – Героя Соцтру-да, он в лоб ударился с «МАЗом». Новую же достать было нельзя. Эти руины повезли в Иркутск и там сделали из них машину. Та «Волга» жрала резину, пока ее не перепродали, там же лонжероны пошли…
 |
 |
В 63-м или в 64-м туда приехал Евтушенко, который был в опале. Он читал тогда стихи о русской игрушке:
Его там приняла интеллигенция. Стихи Евтушенко после его выступлений ходили в записях. Вот с чего я к стихам потянулся: мои родители слушали эти катушки. Мне интересно – он герой был для родителей, они встречались с ним в какой-то компании. Я стал читать стихи и благодаря Евтушенко проскочил Асадова (это был отстой). Я стал читать очень серьезные вещи… Спустя два года после того как я впервые услышал Евтушенко, знал уже, кто такие Пастернак, Элюар, Лорка, Превер, Бодлер… Это все сформировалось очень-очень рано.
А потом я и сам стал писать.
Стихи. При том что я девушку без трусов впервые в 21 год увидел… Я с 18 лет стал встречаться со своей первой женой и, четыре года с ней встречаясь, не трахался… Наверно, отсюда все мои стихи.
После ракеты с Кубы убрали, все как-то утряслось, мама поняла, что конец света откладывается – и мы, прожив пару лет в Сибири, вернулись в Одессу. Опять новая школа, снова драки. Я был посередине – мог побить половину класса, а вторая половина могла побить меня. И я пошел в старую кирху на Ленина, где размещалось общество «Авангард» – к знаменитому тренеру Аркадию Бакману, заниматься боксом. Это был патриарх, он до войны получил бронзовую медаль на первенстве Советского Союза. Я прозанимался у него почти год, а прогресса не было.
Понятно – тренер плохой… Я был ленив, не хотел работать и не понимал, что плохому танцору яйца мешают. И я сказал этому старому мудрому еврею, что хочу перейти к другому тренеру.
– Нет вопросов, – сказал он. – Но вот сейчас будет открытый ринг, выйди и подерись вон с тем парнем. Ты же должен напоследок показать, чему я тебя научил.
Я вышел, и этот пацан меня отхерачил так, как меня никто и никогда не бил. Он был не лучше меня, просто не пропускал тренировок…
Я после долго еще ничего не понимал. Учиться и вкалывать мне было скучно, мне было интереснее плохо учиться и ходить фарцевать с Толиком Кантором. Он учился еще хуже меня, и я удивлялся: как же он, идя на такое дело, не знает английского.
Первый раз был такой. На Приморском бульваре Толик подошел к индийскому матросу и спросил:
– Хэв ю бизнес?
– Ес.
– Гоу.
И мы втроем пошли к памятнику Пушкину, а там спустились в туалет.
– Шоу, – сказал Толя.
Матрос распахнул пальто, он был в штатском, а там на подкладку навешан товар. Мы взяли у него греческую жвачку, сигареты «Мальборо», носки нейлоновые, ручки, ну, такие, если их перевернуть, с бабы слезает купальник. На 25 рублей набрали товара и дали ему тридцатку старыми деньгами, которые в 61-м вышли из употребления… Индус стал смотреть банкноту на свет, есть ли там водяные знаки. Знаки были. Он успокоился и, довольный, пошел на свой пароход.
Меня поймал завуч, когда я в школьном туалете торговал жвачкой по 10 копеек за пластинку. Мне поставили тройку по поведению и на 10 дней выгнали из школы. Заняться было нечем, и я стал в парке грабить крестьянских детей: они приезжали в Одессу из своих колхозов, их называли рогатые – кугуты. Подходишь к такому и говоришь:
– А ну дай пару копеек.
– Нету.
– А попрыгай.
Он прыгает, мелочь звенит и переходит ко мне. Я пошел, как тогда говорили, по наклонной плоскости. Было понятно, что это все не то, и я решил вернуться в спорт. Меня взяли, к другому тренеру уже, я стал заниматься серьезно, не пропускал тренировок и скоро по «Воднику» взял третье место по Союзу. Это было очень здорово. Я научился тогда работать!
Дальше я поступил в высшую мореходку и стал чемпионом города среди юношей. А потом мне запретили заниматься боксом, оказалось, у меня что-то с сердцем, блокада какой-то ножки… Слава Богу, я перестал заниматься, а то бы мне отбили мозги. У меня был однажды нокдаун, а это всегда сотрясение мозга. Помню, я пришел в себя на счете «семь». А шесть секунд до этого я не слышал ничего и не видел. Бой остановили. Когда через два часа я попытался сесть в автобус, то долго не мог ногой попасть на подножку. После у меня было еще два сотрясения, один раз мы подрались ужасно совершенно на морвокзале, а второй – на Зее меня ударило арматурой, когда я работал третью смену подряд мастером и потерял бдительность. За три года, что я работал на Севере, мы на участке человек восемь похоронили. Помню, на моих глазах из кабины крана вывалилась половина крановщика – верхняя половина: его перерезало тросом, когда стрела падала.
Бокс… У меня было 23 боя, 19 из них я выиграл. Когда ты серьезно начинаешь заниматься такими делами, у тебя пропадает всякое желание на улице драться. Тренер нам рассказывал: «Если ты решил драться, то надо драться эффективно. Но человек очень хрупок, он может удариться затылком о бордюр и умереть. Вам это надо?» Боксера учат терпеть, быть хладнокровным, не поддаваться: может, тебя заводят, чтобы ты кинулся. Это самурайское дело – научиться пахать тяжело и удары держать. Очень многому я научился в спорте. Прежде всего работать. Я понял: какие бы у тебя ни были способности, ты должен пахать, а то, что на поверхности лежит, ничего не стоит. Если у тебя нет базы, ничего не будет… Кстати, со стихами приблизительно то же. Я знаю что говорю.
Я знаю всего Пастернака, я давно понял, что это гений, я так не смогу никогда, и потому я бросил писать стихи. Но думать о них не перестал.
Как-то я в ресторане, пьяный, заспорил насчет Пастернака. В Америке еще. Было так. Я тогда крепко выпил… Под конец вечера появился человек, знакомый моих знакомых, у него была жена полухудожница, он подсел к нам. Я знал его в лицо, он год назад из Питера приехал в Америку; понятно, денег нет, озлобленность, неуверенность в завтрашнем дне. Там таких много, я сам когда-то через это прошел. И вот он говорит:
– Я – поэт.
– А, поэт! Ну раз так, прочти что-нибудь. Он прочитал мне какие-то свои стихи. Я, естественно,
сказал, что это говно. И добавил:
– Пастернак – высокая поэзия, а ты кто? Какой из тебя поэт? – и процитировал:
Я на чем всегда попадаю? На Пастернаке. Моя рецензия переполнила чашу терпения поэта. Я, видно, его оскорбил в самое сердце. При том что ему и так жилось несладко.
Мы вышли из ресторана… А был я в таком состоянии, что меня мог и пятилетний ребенок избить. Похожий случай у того же, кстати, ресторана был с Володей Козловским – с «Голоса Америки», я ему сказал:
– Как говорил Мастер поэту Бездомному: не пишите больше.
Но Володя – интеллигентный человек, он не стал драться и просто ушел, как будто согласившись со мной.
На улице, помню, поэт начал истерически что-то кричать. Дальше я лежу на асфальте, поэт сидит у меня на груди с поднятым кулаком и говорит:
– Я тебе сейчас как врежу в челюсть, гад! Проси прощения!
Я послал его на хуй. Он ударил меня по голове. Потом все кончилось. Ч^^г Идти я мог с трудом, но до машины добрался, залез в свой «мерседес» и поехал – это было намного легче, чем идти.
В семь утра я проснулся, вспомнил все и начал обзванивать знакомых, я искал поэта, бой с которым закончился так жалко. Я дозвонился полухудожнице:
– Слушай, ты найди этого пацана, и пусть он найдет меня… Если он боится синяков, у меня есть две пары боксерских перчаток, побуцкаемся при свидетелях, и я буду удовлетворен. А так у меня еще и цепочка пропала за две тысячи… Заявлю в полицию – его депортируют…
Он не находился, а полицию я не вызывал. Зато мне передали, как жена поэта отзывается обо мне:
– Мы боимся! Егор с такими людьми связан, пришлет наемного убийцу…
Наверно, они намекали на то, что я работал со строителями, а этот бизнес держала тогда итальянская мафия…
Я не стал никого в этом разубеждать. Я только зловеще молчал, и это действовало. Пару лет поэт с этим жил и мучился, и оглядывался по вечерам…
Потом у меня была еще одна драка по поводу Бориса Леонидовича, в Москве.
Мы сидели в «Маяке» в пятницу вечером. Выпили крепко… Один малый, толстый и здоровый, взял микрофон и стал петь со сцены. Кто-то из девушек за нашим столом говорит:
– Зачем мы это должны слушать? Пойди лучше почитай Пастернака.
Я подошел к сцене и говорю:
– Слышь, брателло, я могу после тебя выступить? Он говорит:
– Иди на хуй. Иди, короче, отсюда.
– Слушай, ну это некрасиво, это ж клуб. Надо отвечать за свои слова…
– Ну ладно. – И он бросил микрофон. Я стал читать стихи… Но вокруг стоял такой шум, и до такой степени меня никто не слушал, что я быстро понял: это ни мне не нужно, ни им. Когда я сошел со сцены, ко мне подходит мой толстяк:
– Слышь, брателло, ты ж мне сказал, что надо отвечать, – так я готов.
Он меня пригласил драться!
Мы пошли в предбанник, что у сортиров.
За нами пошел охранник. Я был хоть пьяный, но сообразил, что, если этот здоровяк попадет в меня со своей массой, то я тут же упаду. И я понял, что надо убивать его.
Когда я увидел, что его правый кулак идет к моей голове, то тут же – фантастическая вещь, какая память у тела! – я его левой снизу как захуячил в челюсть – и еще правой сбоку по голове. Тебя научили 30 лет назад, а тело помнит. В чем прелесть бокса, так в том, что ты без замаха бьешь. Из любого положения, где у тебя рука находится. А так-то человек, если не боксер, обычно делает замах – и показывает свои намерения.
Ударил я, значит, и – о чудо! – он сразу стал оседать…» И тут я – в первый раз в жизни – ударил человека ногой. (Ну, первый, – так надо же когда-то начинать.
Человек, когда начинает драться, через какое-то время – особенно если под эти» делом – он звереет, контроль над собой теряет, вся цивилизация с него слетает.
С каждым такое может быть. После остается осадок неприятный, ты же вроде имеешь какое-то уважение к себе. . И вдруг понимаешь, что ничем не отличаешься от грубых тварей. Я помню, на Зее, на коммунальной кухне, двое жильцов поссорились. Один вытащил нож, другой свалил его и стал ногами в тяжелых таких рабочих ботинках бить упавшего по голове, она только моталась из стороны в сторону, как у куклы, человек был без памяти.
После друг затащил его к себе в комнату. А на следующее утро оба дружно побежали за бутылкой и скоро вернулись с водкой и с банкой помидоров…
 |
Охранник посмотрел, как я бью лежачего ногой, и сказал:
– А вот это, Егор Иваныч, было лишнее.
Мне ответить было нечего: он прав, а я нет. Смотрю – у меня руки в крови. Помыл я руки… А он лежит, лежит без чувств. А я, дурак пьяный, пошел сел за стол и еще выпил. Я не думал, что сейчас ментов вызовут, они заметут нас в каталажку, отпиздят, а потом будут разбираться. Ко мне подошел малый, вижу, пьяный, но в достаточно хорошей форме. И говорит:
– На хера вы искалечили моего товарища? Что он вам сделал?
– Он первый меня ударил по голове.
– Где, покажи.
– Он не попал.
– А, не попал! Ты думаешь, ты тут самый храбрый? Сейчас будем с тобой разбираться… Я хочу знать: из-за чего вы подрались?
Я подумал и честно сказал:
– По-моему, за Пастернака.
– Ну, так это ж другое дело! Тогда к вам нет претензий. Дело, видно, и правда было плохо, потому что я, когда на следующий день подъехал к галерее, смотрю – у меня бежевые туфли замшевые PRADA забрызганы кровью.
Нехорошо получилось, нехорошо… А я знаю, что вся компания, которая в пятницу в «Маяке», включая этого парня, которого я бил ногами, вечером субботы ездит в «Петрович» на танцы. И я туда… Смотрю: все вроде там. Тина, еще кто-то, я не всех по именам знаю… Они увидели меня – и смеются! Я говорю:
– Мне жаль, что так получилось, это недостойно джентльмена. Вот, побил человека…
– Да нет, – говорят мне, – ничего страшного не случилось. Он приехал домой как ни в чем не бывало. Что его удивило наутро, так это то, что на лбу у него была выбита цифра пять.
– Пять?
– Кровавая такая пятерка, видно, кто-то его ебальни-ком к домофону приложил… Он вообще замечательный парень, но пару раз в год напивается как свинья, пристает к людям, и ему иногда перепадает. Что-то его нет сегодня, наверно, стыдно на люди показаться.
И тем не менее приношу извинения. И в знак примирения прошу передать ему акварель Рустама Хамдамова.
Прошел месяц. Я снова сижу в «Маяке», в большой очень теплой компании, выпиваю, а что ж еще. И вдруг Орлуша говорит:
– Ну что вы, в самом деле, как маленькие дети? Помиритесь уже!
– А с кем мириться? Я ни с кем не ссорился.
– Да вот же за столом человек, с которым ты дрался.
А я его плохо помню… Как и он меня. И тут смотрю, здоровенный парень за нашим столом вскинулся:
– Так это вы меня тогда отпиздили?
– Ну, я приношу свои извинения и их вам уже передавал…
– Большое вам спасибо! Таких мудаков, как я, в таком состоянии нужно пиздить.
И потом, увидев меня в «Петровиче», он всякий раз кричал:
– А, это мой кореш, который меня тогда так зверски избил!
Когда ты читаешь, что Пастернак дрался с Есениным, – согласись, что-то есть в этом неестественное, это же разрушение образа… Остается осадок, остается… Прав был охранник в «Маяке»: лишнее это, Егор Иваныч.
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |