"Тот, кто называл себя О.Генри" - читать интересную книгу автора (Внуков Николай)
ГЛАВА О РЫБАКАХ, которые плетут свои сети за столами в светлых комнатах, о золотых самородках, валяющихся под ногами, и о Плотнике, слушающем Моржа
Итак — Нью-Йорк.
Первые прогулки от Тридцать четвертой улицы до Бродвея.
Первые строчки первых впечатлений в толстом сафьяновом блокноте.
«Великий Багдад — над подземкой.
Толпы Аль-Рашидов.
По тротуару с опаской прокрадываются Одноглазый Дервиш, Маленький Горбун и Шестой Брат Цирюльника.
С благоговением здесь произносят имя могучего джинна Рок-Эф-Эль-Эра, шепотом говорят о страшных делах калифа Кар-Нег-Ги.
Синдбад-Мореход стоит у руля деревянного парохода для воскресных экскурсий. На палубе толпятся школьники. Синдбад перекладывает руль. Пароход бодро поплевывает горячей водой из машины и берет курс на Эллис-Айленд.
Здесь десять султанов на одну Шехерезаду, поэтому Шехерезады Нового Багдада не боятся рокового шелкового шнурка.
Здесь происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Кутней-Фоллс. Гуляешь в Центральном парке, хочешь сорвать гвоздику — и вдруг на тебя нападают бандиты, «Скорая помощь» везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке, разводишься, перебиваешься с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в механическую стирку, платишь членские взносы в клуб, бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам дорогой платок, на тебя роняют с крыши дома кирпич, лопается трос в лифте, твой желудок не ладит с готовыми обедами, на тебя наезжает автомобиль, тебе ампутируют ногу, общее заражение, тебя оплакивают родственники, твое тело кремируют, пакетик с твоим прахом рассыпается в давке, несколько человек чихают — и круг жизни завершен в бешеном темпе тустепа».
Он поселился в небольшом отеле «Марти» на Западной Двадцать четвертой улице, недалеко от Бродвея и Шестой авеню.
Здесь, в двух комнатках, окнами выходящих на улицу, он повел очень уединенную и очень напряженную жизнь.
Он зачеркнул свое прошлое и уклонялся от разговоров о нем.
Даже немногие друзья, которые у него появились, знали только, что он жил на ранчо в Техасе, работал в аптеке, сотрудничал в техасских газетах, путешествовал по Центральной Америке и имел молодую дочь.
Женская часть прислуги отеля какими-то неисповедимыми путями разузнала, что он вдовец.
Он выходил из своей комнаты только под вечер, всегда хорошо одетым, с перчатками в левой руке; дорогим шелком блестел на его голове модный котелок с круто загнутыми вверх полями. Возвращался в отель поздно, иногда глубокой ночью. Никто не мог догадаться, где он бывает.
В первый же после приезда день он отправил Гилмену Холлу записку:
«Я в Нью-Йорке. Запад, 24-я улица, отель «Марти». О. Генри».
Холл пришел вечером.
В пенсне, с узкими черными усиками по краю верхней губы и с тяжелым, грубо очерченным подбородком, он был похож больше на биржевого маклера, чем на редактора.
— Так вы, значит, и есть тот самый таинственный О. Генри? — спросил он, разглядывая Билла.
— Почему таинственный? — спросил Билл.
— Вы посылали свои рукописи из Нового Орлеана, хотя там не жили.
— Да, верно, — сказал Билл.
— Действительно, в январе 1901 года он через миссис Вильсон послал в «Эйнсли» рассказ «Денежная лихорадка».
— Я и наш младший редактор Ричард Дэффи прочитали ваш рассказ с большим удовольствием. Мы сразу постарались двинуть его в набор. Если вы помните, он был напечатан в майском номере.
— Да, помню, — сказал Билл.
Он вспомнил и то, что гонорар за рассказ пришелся весьма кстати, потому что шел последний месяц его жизни в тюрьме.
Холл простучал ногтями по ручке кресла какой—то бодрый марш.
— Видите ли… я должен принести вам некоторые извинения.
— Я их, безусловно, приму, — улыбнулся Билл. Холл засунул руки в карманы брюк и вытянул ноги.
— Мы вам написали в Питтсбург, что наш журнал окажет вам всевозможную поддержку.
— Так, — сказал Билл.
Это относилось только к публикации ваших рассказов.
— Я так и предполагал, — сказал Билл. — Что еще?
— Еще существуют гонорары, которые уплачиваются согласно контракту. Я хочу говорить с вами начистоту. «Эйнсли» — журнал небольшой. Количество подписчиков у нас не превышает пяти тысяч. Мы не сможем платить вам больше сорока долларов за вещь, как бы хороша она ни была.
Билл задумался. Сорок долларов в Нью-Йорке не ахти какие деньги. Он может написать рассказ за две недели. Итого — восемьдесят долларов в месяц. На первых порах это его, пожалуй, устроит.
— Что вы скажете, если я соглашусь?
Холл внимательно посмотрел на него.
— Я скажу, что для нашего журнала это было бы удачей. Число подписчиков, благодаря вам, через полгода удвоилось бы. Но мало вероятно, что ваш гонорар тоже удвоился бы. Видите, я говорю откровенно.
— Чего же вы хотите? — спросил Билл.
— Простого соглашения. Мы с вами джентльмены, не так ли? Сможете ли вы обещать нашему журналу один рассказ в месяц?
— Но почему бы нам не заключить контракт?
— Я повторяю: разговор у нас откровенный. Подумайте. Через некоторое время к вам придут приглашения из других журналов, и условия, поставленные ими, будут более выгодны, чем наши. Начнутся трения. В конце концов мы вынуждены будем расстаться и, вероятнее всего, врагами. Я этого не хочу.
Билл встал и прошелся по комнате.
— Мистер Холл, — сказал он. — Я джентльмен. Я обещаю вашему журналу один рассказ в месяц.
Холл потер руки.
— Вы еще очень неопытны в издательских делах, мистер Генри. Мой совет: держитесь осторожно. Не продавайте ваш талант первому встречному. Не давайте себя одурачивать. Учтите, что вы в Нью-Йорке.
Редактор ушел.
Билл, сидя за столом, вновь пережил весь разговор.
Его поразила честность, с которой этот человек подошел к делу. Он был худшего мнения об издателях. Он не догадывался, что у Гилмена Холла был далекий расчет, и недаром он называл его джентльменом.
Целый год он свято соблюдал свое обещание. Он писал два рассказа в месяц. Один из них он отсылал в «Эйнсли», а другой — по старой памяти — Мак-Клюру. Мак-Клюр был щедр. За вещи, которые ему нравились, он платил по семьдесят пять долларов, но никогда ни словом не обмолвился о контракте.
«Пришлите в июньский номер какой-нибудь «летний» рассказ, слов, этак, тысяч на пять», — писал он и без задержки присылал чек. Этим кончались деловые отношения.
Билл писал быстро. Долго было обдумывать вещь, построить ее сначала в голове. Но когда дело доходило до бумаги, рассказ как бы стекал с пера стремительным ручейком.
Впечатления от Нью-Йорка еще не устоялись. Для своих рассказов он пользовался прошлым.
Он вспомнил южноамериканские странствия, людей, с которыми встречался на разных берегах, томных испанских сеньорит и жуликов с благородными лицами и повадками государственных деятелей. Он написал «Лотос и бутылку», «Остатки кодекса чести» и «Художников». Всего за год он написал двадцать два рассказа, но разослал по издательствам только шестнадцать.
Шесть рассказов он отложил в нижний ящик стола. Это был капитал на всякий случай. Теперь он чувствовал себя прочно. Он даже разрешил себе писать не каждый день. Все свободное время он посвящал путешествиям по «Новому Багдаду».
«Молчаливый, мрачный, громадный город, — записывал он ночами в своей комнате. — Говорят, что он холоден, как железо. Говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди. Сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но мне кажется, что под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо».
«Как живут в царстве Гарун Аль-Рашида? Ее зовут Мэри. Она работает продавщицей в универсальном магазине, в отделении перчаток. Получает шесть долларов в неделю.
Бюджет:
За комнату — два доллара в неделю.
В будни завтрак стоит ей десять центов: она приготовляет себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается и причесывается. По воскресеньям она пирует: съедает телячью котлету и пару оладьев с ананасным вареньем в третьеразрядном ресторане; это, вместе с чаевыми, стоит тридцать пять центов. Днем она завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета стоит шесть центов в неделю и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. Одета она очень скромно, но старается подражать моде. Как ей это удается при таком жаловании — я не берусь разгадать».
«Район Шестой авеню корректно именуется «Кругом сатаны». В продолжении он дает так называемую Дымовую трубу. Пролегая вдоль реки, параллельно Одиннадцатой и Двенадцатой авеню, Дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький, неприютный Клинтон-парк. Обитатели Дымовой трубы занимаются освобождением обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без всякого шума. Городские власти предоставляют обывателю право изливать свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы».
Шли недели. Деньги таяли со сказочной быстротой, и чеков от Мак-Клюра и из «Эйнсли» было явно недостаточно, чтобы покрыть все возраставший дефицит. Казалось, жизнь должна была научить его бережливости. Но, видимо, эта наука ему не далась. Ни копить денег, ни считать их он не умел.
Неожиданно из Питтсбурга пришло письмо, написанное большими, почти печатными буквами:
«Папа, — писала Маргарэт. — Я зачеркнула все сто дней в календаре, потом еще тридцать один и еще семнадцать. От тебя мы получали письма, но билета в Нью-Йорк там не было. Ты, наверное, забыл его купить, да?»
— Я думал, что она давно забыла, — пробормотал Билл. — Господи, бедная моя Марги, это не от меня зависит, что я тебя все время обманываю. Жизнь такая. Мы обманываем других, другие обманывают нас.
Он сел за стол, придвинул к себе лист бумаги и начал писать ответ.
В дверь постучали.
— Войдите, — сказал он.
На пороге остановился полный, с широким красным лицом человек и внимательно посмотрел на Билла.
— Я разыскиваю Сиднея Портера, или О. Генри, — сказал он.
Билл засмеялся и встал из—за стола.
— Оба они — это я, — сказал он.
— Ха, значит, я попал в точку! — обрадовался толстяк. Он затворил за собою дверь и протянул руку Биллу. — Меня зовут Боб Дэвис. Я работаю у Нобля в «Сэнди Уорлд». Можно присесть?
— Да, да, конечно! — воскликнул Билл. — Извините мою рассеянность. Значит вы — представитель «Сэнди Уорлд»? Прекрасно. Ваш шеф — Нобль? Жаль, что у моего шефа не такое громкое имя. Мой О. Генри работает только у О. Генри.
Толстяк расхохотался, хлопнув себя толстой ладонью по колену.
— Ловко это у вас! Чувствуется ваш стиль. Мы там, у себя в редакции, читали ваших «Воробьев из Мэдисона» и еще кое-что. Хорошо. Старик заинтересован. Он вызвал меня вчера к себе и сказал: «Иди, отыщи его». Я пошел. Вот я здесь.
Он послал вас заключить со мною контракт?
— Да, вроде этого, — сказал Боб Дэвис.
Они помолчали.
Биллу неудобно было спрашивать, какую ставку предлагает Нобль, а Дэвис что-то обдумывал, глядя в окно.
— Хотите виски? — спросил Билл.
— Спасибо, не откажусь. Не грех выпить стаканчик.
Билл открыл письменный стол, достал бутылку и налил себе и гостю. Дэвис повертел стакан в пальцах и выпил.
— Да, так вот что. Старик сказал, чтобы я предложил вам шестьдесят долларов за рассказ. Подойдет?
— На сколько рассказов в месяц он рассчитывает? — спросил Билл.
Дэвис удивился.
— На один, конечно. Больше одного, он сам понимает, не написать даже Сэму Клеменсу. Я говорю, конечно, о настоящей вещи.
— У меня уже есть договоренность с «Эйнсли» и с Мак-Клюром, — сказал Билл.
— Тоже на один в месяц?
— Нет, нет, — сказал Билл, — вообще на рассказы. Я им посылаю, когда у меня есть что-нибудь свободное.
— Хорошо. По правде сказать, старик Нобль и не рассчитывает быть монополистом ваших вещей. Он мне таки сказал: «Один в месяц, а что будет сверх — не мое дело».
«Мак-Клюру можно посылать раз в шесть недель, — подумал Билл. — А два рассказа в месяц я смогу написать.
В «Хьюстон Пост» мне приходилось писать по пять рассказов, да еще скетчи и стихи».
— Я, кажется, согласен.
Толстяк улыбнулся, вынул из кармана заранее составленный контракт и положил его на стол перед Биллом.
— Вот. На один год. Поставьте сумму и подпишитесь в конце.
«Марги, — написал Билл, когда Дэвис ушел. — Мы очень скоро будем вместе. Я не забыл про билет. Я просто вспомнил, что у тебя еще не кончились занятия в школе, и решил, что пришлю его попозднее — осенью».
И опять блокнот:
«Меблированные комнаты в районе нижнего Вест-Сайда. Их гостеприимство похоже на лживую улыбку продажной красотки. На оклеенных серыми обоями стенах висят картинки, которые по пятам преследуют всех бездомных: «Любовь гугенота», «Свадебный завтрак», «Первая ссора», «Психея у фонтана». Каминная доска. На ней скопились жалкие остатки крушения, оставленные робинзонами, когда парус удачи унес их в новый порт».
«Ресторан на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом — судок с приправами. Из перечницы вытряхивается облачко чего-то меланхолического и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплется ничего. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, «изготовленный по рецепту одного индийского раджи», как значится в меню…»
Миллионеры и разносчики, художники и трактирщики, плантаторы и генералы, священники и бродяги, жулики и врачи, полицейские и музыканты — они мирно, бок о бок уживались на страницах его волшебного блокнота. Теперь ему не приходилось долго раздумывать, о чем писать. Он открывал свою карманную энциклопедию, просматривал несколько записей и садился за стол.
Рукопись обычно была готова через три-четыре часа.
Потом начинались муки. Он переписывал рассказ много раз подряд, искал меткие, как выстрел, слова, подбирал сравнения и те обороты речи, которые могли до конца, четко и стройно передать его замысел. Стремительно разворачивающийся сюжет работал в его вещах точно и чисто, как хорошо отрегулированный мотор.
«Короткий Рассказ не есть Короткий Рассказ, если он не обладает оригинальностью, яркостью стиля, сжатостью, единством, великолепным содержанием и выдумкой», — любил повторять он.
Прошел еще месяц.
Билл выработал себе режим: две тысячи слов утром, две тысячи — после обеда, потом прогулка по Нью-Йорку (район Пятой авеню, взгляд на виллы миллионеров, Шестая авеню, знакомство с «дном» города, поворот, Двадцать девятая улица, еще поворот, Грамерси-парк, последний поворот, легкий коктейль или пиво в какой-нибудь закусочной) и с одиннадцати вечера до половины первого ночи — правка рукописей.
Седьмого числа каждого месяца он отсылал один рассказ Ноблю, шестнадцатого — Гилмену Холлу и «под занавес» — рассказ Мак-Клюру.
Потом стало чего—то не хватать.
Иногда во время работы к столу подбиралась тоска. Хотелось веселой, непринужденной болтовни, музыки, ярких огней, смеха, пестроты, праздничного шума.
Он вспомнил толстяка Дэвиса.
Ему с самого начала понравилась улыбка на широкой физиономии младшего редактора, его манера держаться и вести разговор.
«С таким можно куда угодно», — подумал он и написал Дэвису записку:
«Дорогой Бобдэвис, что вы скажете насчет того, чтобы вечерком удариться в кафе «Франс» для легкого отдыха? Я люблю болтать под музыку и запивать впечатления добрым шотландским виски.
С. Портер»,
Ответ последовал немедленно: «Я согласен».
Днем Нью-Йорк казался поблекшим. Трех и четырехэтажные дома, некрасивые, старые, построенные все на один манер, сжимали своими однообразными фасадами неширокие улицы. Нижние этажи были сплошь заняты закусочными, лавчонками с крохотными пыльными витринами, частными конторами и распивочными. Железные каркасы реклам, плакаты ревю, прислоненные прямо к стенам, сами облупленные стены, ворохи бумажного мусора на тротуарах, лотки с овощами и фруктами, выдвинутые в самую гущу толпы, — все это выглядело ярмарочно, неряшливо, иногда — просто убого.
Город оживал ночью.
Вспыхивали огни на Бродвее и Манхэттене. Фасады прочерчивались световыми линиями. На улицах появлялись хорошо одетые женщины и мужчины. Через окна, через неплотную ткань занавесей, взгляд проникал в яркую глубину ресторанчиков, где за мраморными столиками велись шумные разговоры, на подсвеченных снизу эстрадах танцевали молоденькие разбитные герлс и негры-музы-канты потели над своими банджо и трубами.
Билл не любил грохота и завываний джаз-бандов. Ему нравилась мягкая, ласковая, минорных тонов музыка. Под нее было легко думать, изобретать сюжеты, мечтать. Он облюбовал кафе «Франс» именно поэтому.
Сюда он и привел Дэвиса.
Они заняли столик в углу, дальнем от входа, и заказали бутылку шотландского.
— Приятное местечко, — сказал Дэвис, оглядываясь.
— Да, здесь недурно, — отозвался Билл.
Они пили виски маленькими глотками, надолго отставляя стаканы, курили и разглядывали посетителей. Маленький оркестр, отгороженный от зала полупрозрачным тюлем занавеса, заиграл что—то знакомое, неторопливое, затаенное.
Дэвис, размякший от уюта, музыки и виски, вопросительно посмотрел на Билла.
— «Камыши» Куперена. Это единственное место в Нью-Йорке, где их умеют исполнять, — сказал Билл.
— Откупорили вторую бутылку.
— А знаете, как все началось? — спросил Дэвис.
— Что?
— Наше знакомство.
Билл покачал головой.
— Ведь это я открыл вас.
— Ну, нет, — сказал Билл. — Приоритет принадлежит Мак-Клюру, за ним следует Гилмен Холл, потом Мэнси.
Я открыл вас Ноблю, — сказал Дэвис — Мы — я и Хайбиндер — прочитали «Красное и Черное» и «Художников». Хайбиндер посоветовал подложить журналы на стол шефу. «Идиотом он будет, если пропустит эти рассказы», — сказал он. Однако Нобль не оказался идиотом. Он вызвал меня, ткнул пальцем в вашу фамилию и сказал: «Иди и отыщи этого человека. Сначала предложи ему сорок долларов. Если не согласится — пятьдесят. В третий раз можешь набавить до шестидесяти». Я пришел к вам. Помните разговор? Вы засмеялись. Смех был хороший. Добрый. Я увидел, что торговаться бессмысленно и сразу предложил шестьдесят долларов. Вот как было дело.
Оба расхохотались.
— Спасибо, дружище, — сказал Билл.
За соседний стол уселась девушка, рыжеволосая, синеглазая, в шуршащем зеленоватом платье. Она оглянулась, увидела Билла и кивнула ему головой. Билл привстал, поклонился.
— Кто это? — спросил Дэвис.
— Так… Статистка в кордебалете. Я, к счастью, незнаком с дочерями миллионеров.
— Красивая девушка.
Билл грустно усмехнулся.
— Ее искусство стоит восемь долларов в неделю. После каждой получки она откладывает пятьдесят центов, а в конце месяца надевает свое лучшее платье, приходит сюда и «просаживает деньги с шиком», как она выражается.
— Вы ее хорошо знаете?
— О нет, мы только здороваемся и улыбаемся друг другу. Но жизнь-то этих девушек я знаю. Смотрите, сейчас она закажет портвейн и миндальное пирожное.
И действительно, через минуту перед девушкой поставили то и другое.
Бокал портвейна стоит сорок центов, а пирожное — пятнадцать. Через полчасика она закажет шампанское и ананасное мороженое. Это стоит ровно доллар. Потом немного спаржи — тридцать центов. И пятнадцать центов она дает на чай официанту. После этого кошелек ее пуст. Я знаю.
Черт побери, Билл, — воскликнул Дэвис, — ну и мастер же вы наблюдать!
— Работа, — улыбнулся Билл.
Он пригубил из стакана и, задумчиво глядя на девушку, произнес:
— Вот из-за такой рыжеволосой, из-за глупого легкого флирта меня чуть не убили в Южной Америке.
Дэвис придвинулся ближе и положил руки на колени,
— Рассказывайте. Вас я могу слушать весь вечер.
— В Мексике это было, — сказал Билл. — В столице. Не помню уж по какому случаю, в центральном отеле готовился грандиозный бал. Должны были присутствовать все видные граждане города, сам президент Порфирио Диау, весь кабинет министров и знать. Очень интересная штука, эти южноамериканские рауты, уж я-то на них насмотрелся. Однако этот чуть не вышел мне боком. И вот как. После официальной части начались танцы. Я стоял, прислонившись к колонне, и сравнивал костюмы испанцев и американцев. Я пришел к заключению, что у американцев нет национальных костюмов, как нет национальных традиций. Зато испанские дамы в тончайших шелковых чулках и в ярких широких кушаках, повязанных поверх красиво облегающих их фигуры костюмов, великолепно подходили ко всей обстановке зала и к самому духу вечера. Знаете, у них развито какое-то особое поэтическое чутье к одежде.
Среди танцующих была там одна пара. Он — высокий, элегантный, утонченный кастилец в костюме, расшитом цветной тесьмой и золотым позументом, красивый, как сам Люцифер. И она. Очень похожа на эту, только, конечно, выросшую не в таких условиях. Я сам не знаю, какой бес дернул меня поухаживать за ней. В танце она пронеслась мимо меня и в нескольких шагах дальше уронила с плеч свою мантилью. Я поднял кружево и, когда танец кончился, передал его ей. Она улыбкой поблагодарила меня. И тут вмешался кавалер.
— Сеньор, — сказал он, — я вижу, что вы иностранец. Вам неизвестны наши обычаи. Я сожалею, что не имею чести быть с вами знакомым, а не то бы я с великим удовольствием представил вас сеньорите. Но так как я не имею этой чести, то прошу вас — прекратите ухаживания за моей невестой.
Он, этот испанец, говорил благородно и вежливо, на превосходном английском языке. У него были отточенные, прекрасные манеры. Я любовался им, честное слово. Невольно напрашивалось сравнение с жадными на наживу неотесанными мужланами, которые украшают собою американские балы.
Ну вот. Начался новый танец. Ко мне подошел мой приятель, тоже американец. Он слышал мой разговор с испанцем и сказал, чтобы я был осторожнее. Я не послушал его. Какая-то бесшабашная удаль овладела мной. И снова, когда испанка пролетала мимо меня со своим кавалером, я улыбнулся ей. Кончился и этот танец. Умолкла музыка. Кто-то подошел ко мне. Я поднял глаза. Это был испанец.
— Я предупреждал вас, — сказал он и неожиданно, без размаха, режущим ударом в лицо свалил меня с ног.
Я тотчас вскочил. Бросился на него, обхватил его за талию и увидел в руке у него стилет. Еще момент и… Да, Боб, вам не с кем было бы заключать контракт. Потом я помню какую-то вспышку, взрыв, лежащего у моих ног испанца, растерянные, недоумевающие лица вокруг, бег по длинной лестнице и руку моего друга американца. Он втаскивал меня в экипаж и кричал кучеру: «Скорее, скорее!».
Оказывается, он тоже увидел стилет в руке кастильца, у него был револьвер; он рефлекторно, без всякого раздумья, выхватил его из кармана и выстрелил моему противнику в лицо.
Билл замолчал.
Рыжая девушка за соседним столиком заказывала шампанское и мороженое.
— Вот видите? — сказал Билл.
— Да, — ответил Дэвис. — А что было дальше?
Серенькая проза, Боб. Когда-нибудь я разоткровенничаюсь и расскажу. А сейчас мне хочется пригласить эту приму кордебалета за наш столик и расспросить о ее жизни.
… Ночь.
И сверканье огромного города.
И тротуары, политые дождем.
Они шли по асфальту, разбрызгивая ногами воду, пропитанную светом реклам.
Прощаясь, Дэвис улыбнулся так, что Билл подумал: до сих пор толстяк держался чуть—чуть в стороне, а сейчас он стал самим собой — хорошим, простым парнем, которому не удалось пробиться на Парнас и который до конца дней своих будет тянуть жесткую редакционную лямку.
… Как-то Дэвис сказал:
— Мне все время не хватало человека вроде вас, Билл. Я горожанин, профессиональный, закоренелый. Мне не пришлось увидеть прерии. Я никогда не выезжал из Штатов. Во мне нет той широты, которая есть в вас. Я доволен, что мы встретились. Вы, как творец, вкладываете в меня новую душу.
— Бросьте, Дэвис. Какой из меня творец!
— Я знаю, что говорю, Портер.
Билл пожал плечами. Однако было приятно. Он знал, что Дэвис не умеет льстить.
После тюрьмы Билл избегал встреч со своими бывшими товарищами по заключению. Единственный человек, которого он хотел бы увидеть, — Эль Дженнингс. Вот в ком была настоящая широта! Но от Эля давно не было писем.
Трудно выносить одиночество в городе с населением в четыре миллиона. И вышло так, что первый и последний человек, с которым Билл крепко подружился в Нью-Йорке и которому он осмелился рассказать кое-что о своем прошлом, был Боб Дэвис, младший редактор «Сэнди Уорлд». Он стал постоянным спутником Билла в путешествиях по «маленькому старому Багдаду над подземкой». Дэвис великолепно знал город. Он ходил по улицам с таким видом, будто сам их распланировал. Он мог рассказать историю каждого здания, каждого закоулка. Его интересно было слушать.
Билл платил Дэвису той же монетой. Он оглушал младшего редактора экзотическими рассказами о карликовых республиках Южной Америки. Однажды он признался, что южноамериканское прошлое мешает ему писать о настоящем.
Перед глазами у меня все время маячат корабли, берег Гондураса, Кордильеры и пальмы. Президенты, бананы, консулы, мулаты — все отплясывает какую—то бешеную сарабанду. Я пытаюсь разделаться с ними, пишу рассказ за рассказом, но ничего не выходит. Они требуют чего—то большего. Я до сих пор не знаю, что им нужно.
— Зато я знаю, — сказал Дэвис. — Хотите покончить с Южной Америкой одним хорошим ударом? Пишите роман!
Билл расхохотался.
— Нет, Боб. Такую штуку мне поднять не под силу. Я — рассказчик. Я не умею размазывать сюжет на двести-триста страниц. Бог с ним, пусть это делают те, кто любит болтать. Я считаю, что один хорошо продуманный абзац маленького рассказа стоит нескольких страниц романа. По-моему, романы пишут те, кто вообще не умеет писать.
— Не люблю спорить, однако вы неправы, Портер, — сказал Дэвис. — Ну хорошо, в таком случае изобретите новую форму романа. Роман, в котором каждая глава — отдельный рассказ, но все рассказы связаны единой мыслью. Каждый рассказ с таким концом, как вы умеете делать.
Билл раскурил сигару и долго смотрел на голубую струйку дыма, которая становилась все прозрачнее.
У меня тринадцать рассказов о всей этой южноамериканской братии. Если их чуточку переделать…
— Вот именно, переделайте их, — поддакнул Дэвис.
— Вы думаете, что-нибудь получится?
— Я уверен в этом. Я прочитал все эти рассказы, потом разложил их на столе… сейчас я вам покажу. — Дэвис выдвинул ящик стола и достал толстую папку. — Смотрите. Первым идет «Лотос и бутылка», который вы посылали Холлу в «Эйнсли», потом «Жертва купидона»… Между ними нужно что-нибудь вставить для связи. Затем «Игра и граммофон», он сюда великолепно подходит. За «Игрой» я поставил «Денежную лихорадку», а за ней…
Оба склонились над столом.
В полночь Билл распростился с младшим редактором.
— Два-три месяца мы с вами не увидимся, — сказал Портер. — Мне придется написать по крайней мере пять глав и сцепить всю вещь так, чтобы она не рассыпалась при чтении. Вы знаете, что я попробую? Кроме отдельных глав с неожиданными концами, сделать конец романа тоже неожиданным. Помните «Сквозь зеркало» Кэррола? В детстве я зачитывался этой книжкой, пока мне в руки не попали другие. Я покажу Латинскую Америку сквозь зеркало, которое умеет увеличивать. На три месяца мне придется стать Плотником, чтобы сколотить все рассказы в роман. Приходите ко мне только в самых важных случаях, Боб. Стучите в дверь двумя двойными ударами, это будет нашим паролем. Я всегда закрываю номер на ключ, когда работаю. О. Генри меняет свое имя. С этого вечера он кэрроловский Плотник. Ему нельзя мешать, иначе он может ошибиться и отрубить себе палец, а то и руку. До свидания, Боб. Спасибо за идею.
Прежде всего он отправил письмо Мак-Клюру:
«Хотите роман слов этак тысяч на сорок? Пальмы, президенты, корабли, башмаки, бананы, корсары, вооруженные фотокамерами, и флибустьеры, единственное оружие которых — нахальство, прекрасные сеньориты и падшие ангелы — и все это на ярком фоне тропиков. Рукопись могу выслать в начале следующего, 1904 года».
Мак-Клюр ответил не медля:
«Согласен. Мои условия: 2500 долларов сразу или по частям, как вы захотите».
«В таком случае, — ответил Билл, — пришлите мне сразу 300 долларов и по 100 высылайте ежемесячно, ибо в Нью-Йорке воздух не пригоден для питания, а святых акрид я не встречал даже в Центральном парке. Придется перейти на мирскую пищу, а это требует презренного металла».
Получив триста долларов, Билл засел за рассказы. Начиная с июля, он отправил в «Журнал для всех» «Маркиза и мисс Салли», Мак-Клюру, согласно соглашению, «Ладонь Тобина» и только после этого принялся за роман.
Работал он по ночам; эта привычка сохранилась со времен Колумбуса. Иногда в самый разгар работы в комнату врывался грохот. Он вздрагивал, поднимал голову, прислушивался. Наверное., по коридору опять бредет черный Джо, толкая перед собою тачку с очередным мертвецом. Он искал глазами стойку с лекарствами, но взгляд наталкивался на плохонькую копию «Святой Инессы» Рибейра над столом, и он соображал, что мимо отеля по улице просто прокатился запоздалый грузовой фургон.
И в один из дней, загруженных, как тяжелый фургон, в один из дней, в котором не оставалось свободного уголка, как в тесно заставленной квартире, пришло письмо из шестого круга ада. Знакомые остроконечные буквы слились в горестный крик:
«Мой дорогой, мой далекий товарищ, это письмо случай помог мне послать из Ливенворта. Вот как все обернулось. И не надо фрахтовать кареты И нанимать герольдов для торжественной встречи.
Этот Иисус Навин, обещавший остановить луну в небе, этот шелудивый Марк Ханна, который хвастался, что пьет из одной бутылки с президентом Мак-Кинли, оказался самым обычным вруном, наподобие тех, что треплются по вечерам на заднем крыльце бакалейных лавочек в Западных штатах.
Вот как все было. После того разговора — помнишь? — Дэрби, выйдя из своего кабинета, сказал:
— Твое дело верное, Дженнингс. Он сказал, чтобы я подготовил все бумаги. Тебе повезло, как консерватору на выборах. Такой удачи эти стены не знали, наверное, со дня своего сотворения.
И я начал собираться, Билл. Какое это было время, если бы ты знал! Все мне улыбалось, вплоть до последнего гвоздя, до последней пылины в луче солнца.
И я опять превратился в мальчишку, доверчивого и глупого, как годовалый бычок, которого собираются выпустить из загона. И я мечтал. Ты не поверишь о чем, Билл! О ветре, о камнях на дороге, о запахе цветущей травы, об улыбке первого встречного ребенка. Вот о чем я мечтал целых два месяца!
Наконец Дэрби вызвал меня и молча сунул под нос бумагу — заключение кассационного суда штата.
Я не знаю, о чем болтал Марк Ханна в Вашингтоне или в административном управлении штата, но лучше бы он вообще молчал. В бумаге было написано, и написано очень складно, о переводе меня в уголовную тюрьму Ливенворт — и ни слова о помиловании.
Будь я проклят, если поверю теперь хоть одному слову хотя бы даже самого президента. Мне все равно. Мне терять нечего. Я вне игры. Но Марк Ханна… Для чего он это сделал? Демократический жест? Игра? Но ведь я еще человек, я все чувствую и все понимаю, и такая игра, прости меня, Билл, похожа на ограбление до нитки нищего в зимнюю стужу.
И знаешь что еще они сделали? Они меня везли до самого Ливенворта в строгих наручниках, в браслетах с зубчиками…»
Билл опустился на стул и сжал виски ладонями.
— Эльджи… — пробормотал он. — Мой дорогой благородный Эльджи, я все понимаю, все чувствую… Но что я могу сделать, чем помочь?.. Я сам пария в этом мире, сам скрываюсь от своего прошлого под маской, вылепленной еще в Колумбусе. И я трус… Как часто я боюсь самого себя, если бы ты знал!.. Боюсь Вильяма Портера, который затаился где-то в глубине меня и ждет своего часа… И к тому же я еще лицемер. Я продаю людям сказки, продаю людям не настоящую Америку, а выдуманную, приглаженную, ловко подкрашенную акварелью… Эльджи, Эльджи, я не могу иначе, пойми! Ведь все мы — марионетки, которыми играет судьба…
… В августе роман был вчерне закончен. Оставалось, как он говорил, «довести его до точки». Для этого нужно было опять «потереться» среди латиноамериканцев, и он начал частенько заглядывать в латинский квартал Нью-Йорка, в немецкий ресторан на Шеффел Хилл и в отель «Америка» на 50-й улице, где собирались адмиралы, капитаны и сеньоры, выброшенные революциями из своих стран. Внешностью он производил внушительное впечатление, щедро платил за выпивки и мог целыми часами сочувственно выслушивать истории разных политических интриг. Его мимолетные знакомые не скупились на рассказы о своих партиях, и о своих деяниях, и о своем прошедшем могуществе, и о надеждах когда-нибудь снова возвратиться в свои банановые республики.
Однажды толстенький сальвадорец в военной форме с пышными золотыми эполетами, отрекомендовавшийся адмиралом доном Сабасом Феррейро, предложил ему место министра просвещения в своем будущем правительстве.
— Сейчас я в Estados Unidos[9] для того, чтобы испросить у сеньора президенте Рузвельта кое-какие суммы, необходимые для вооружения моей армии. У меня есть несколько сотен сильных, благородных людей, которые помогут мне покрыть нашу родину славой и честью. Вы умный, образованный человек, джентльмен, я это сразу увидел. Такие люди нужны моей бедной республике. Вы созданы для служения истине и науке. Я поговорю с сеньором президенте, и, надеюсь, он утвердит вашу кандидатуру в моем правительстве…
Билл наслаждался болтовней пьяного адмирала.
Внутренне он хохотал, он надрывался от смеха, но лица сохранял спокойное и вежливое. Немало пришлось повидать ему таких адмиралов. Все они мечтали о возвращении в свои страны, но по своим многочисленным встречам и десятиминутным знакомствам он знал, что ни один из них не вернулся в свой белокаменный дворец. Он встречался с бывшими военными министрами, которые в Соединенных Штатах занимали скромное место владельцев табачных лавочек, и с генералами, которые ловко орудовали метлой на улицах Бронкса и Бруклина. Он прекрасно знал, что никогда дон Сабас Феррейро не переступит порога Белого Дома и не встретится с «президенте Рузвельт». Кончатся деньги, которые ему удалось украсть у своего народа и вывезти из своей страны. Некоторое время он проживет благотворительностью своих знакомых, а когда иссякнет и этот источник и блестящий мундир станет похожим на потрепанный карнавальный наряд, адмирала уже не будет в отеле «Америка». Тогда, вероятнее всего, с ним можно будет столкнуться в длинной очереди людей с голодными лицами у биржи труда.
— Ну как, сеньор, вы принимаете мое предложение? — Дон Сабас покровительственно потрепал рукав Билла и откинулся на спинку кресла.
— Это очень серьезный вопрос, сеньор Феррейро, — с достоинством ответил Билл и, привстав, поклонился. — Я не могу ответить сразу. Мне нужно подумать.
— Да, да, вы правы, — кивнул дон Сабас. — Большие дела никогда не свершаются в один день.
… Билл шагал из угла в угол своей комнаты в отеле «Марти». Иногда он подходил к столу, не присаживаясь, набрасывал несколько стремительных строк на большом листе бумаги и снова начинал мерять комнату шагами. Лицо его становилось то надменным, то серьезным. Иногда он громко хохотал, потирал руки. Он заново переживал все написанное.
— Шут гороховый, — пробормотал он, вспоминая разговор с доном Сабасом.
Перо заскрипело по бумаге —
«… Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, — писал он, — покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит искатель счастья, с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый, смышленый и жадный делец — янки…»
Он бросил перо на стол и подошел к окну. В стороне Манхэттена сквозило через черную сеть ветвей белесое рассветное небо. Больные, холодные оттенки лежали на домах спящего города.
Окончив роман, он сразу же послал рукопись издательству Мак-Клюр, Филиппе и К0. От Мак-Клюра пришло письмо и чек на 1500 долларов.
«Я уверен, — писал издатель, — что книга будет пользоваться спросом и приобретет колоссальный успех, поэтому мы увеличили сумму Вашего гонорара до 3000. За вычетом 300 долларов, высланных по Вашему требованию, и ста долларов ежемесячно в течение года, Вам причитается 1500 долларов. Поверьте, это царская оплата первой книги еще неизвестного писателя.
Как видите, наше издательство не останавливается ни перед какими расходами, чтобы поддержать расцветающий талант, и выражает надежду, что следующая ваша книга будет издана тоже нашей компанией».
— Прекрасно! — воскликнул Билл. — Это письмо похоже на восхитительную поэму. Особенно хороши те строчки, в которых так и мелькают единицы, пятерки и нули. Господа издатели, поверьте мне, лучшего, чем такие вот письма, вы никогда ничего не писали!
Он тщательно оделся, спустился в вестибюль отеля и позвонил по телефону Дэвису.
— Мистер Боб, — торжественно сказал он в черную трубку, теплую от предыдущего разговора. — Я — калиф. Во внутреннем кармане моего пиджака лежит лепесток волшебного лотоса. С помощью его я могу делать чудеса. Дорогой мой визирь, приглашаю вас прогуляться по Багдаду инкогнито. Встреча через полчаса в салоне «Лост Бленд».
— Я немного устал, Дэвис, — сказал он младшему редактору, когда они уселись за столик. — Я хочу отдохнуть. Целый месяц… нет, недельки три я хочу ничего не делать. Я буду Гарун аль Рашидом. Я хочу разменять свой чек двадцатицентовыми монетками и бросать их горстями в толпу.
— Книга еще не вышла, Билл, подождите, — сказал Дэвис.
— К черту книгу, Боб! Важна не цель, а путь, которым к ней идешь. В самом деле, получится из полутора тысяч долларов мешок двадцатицентовиков?
И началось то, что Билл называл «налетом на старый Багдад».
Он не посещал какие-нибудь отдельные районы города. Его привлекало абсолютно все.
Утром его можно было встретить в Мэдисон-сквере, где среди зелени стояла грубо высеченная статуя Дианы, на плечах которой лежали черные эполеты городской копоти. К полудню он перекочевывал в Грамерси-парк или в Унион-сквер. Обедал он в ресторане Богля на Восьмой авеню, а под вечер направлялся в нижний Вест-Сайд, в кварталы красных кирпичных домов и притворялся, будто хочет снять комнату. Он осматривал одну комнату за другой, торговался с хозяйками, придирался к какому-нибудь пустяку и хохотал, когда накаленная до красного свечения его замечаниями хозяйка с треском захлопывала за ним дверь.
Любил он съездить в деловой центр Манхэттена и потереться там среди банковских служащих, маклеров и политиканов. Иногда уходил на целый вечер в «Луна-парк» на Кони-Айленд и смеялся, и пел, и забавлялся там, как мальчишка, среди пестрой толпы гуляющих.
У знакомого терапевта он открыл своего рода «текущий счет» и постоянно посылал к врачу на прием бродяг, пропойц, калек и безработных, которые не могли сами заплатить за свое лечение.
Однажды Боб Дэвис появился в отеле «Марти» в строгом черном костюме. Ослепительная манишка топорщилась на его груди. Новенький котелок прикрывал редкие волосы. Матово поблескивала кожа дорогих ботинок.
— Черт возьми, Боб, ради чего такая пышность? Может быть, вы стали совладельцем «Унион Пасифик» или получили наследство? — воскликнул Билл, увидев своего друга в столь необычном для него наряде.
«Унион Пасифик» прекрасно обходится без меня, — сказал Дэвис, усаживаясь в кресло. Он вынул из кармана огромный коричневый бумажник и бросил его на стол. — Угадайте, Портер, что у меня здесь?
— Конечно, наследство.
В других делах вы более проницательны, дружище. Ваше обоняние нечувствительно к деньгам. Это и хорошо и плохо.
Дэвис открыл бумажник и подал Биллу вчетверо сложенный лист бумаги.
— Нобль послал меня к вам. Сказал: «Покажите Портеру вот это. Что он ответит».
Билл развернул бумагу. Это был договор. Главный редактор и издатель «Уорлд» предлагал сто долларов за один рассказ в неделю в течение года.
— Ого! — сказал Билл. — Старик начинает меня ценить. Дэвис подал Биллу перо. Движения его были медленны и торжественны.
Сто долларов за рассказ любого объема, хоть в десять строк. Такого предложения от издательств не получал даже сам Марк Твен.
Марк Твен получает десять центов за слово, — сказал Билл. — Я не умею писать коротких рассказов. Моя норма — от трехсот до тысячи слов.
Он опустил перо на бумагу и размашисто подписался.
— Вы оделись к случаю, Боб. Сегодня мы направимсяс вами в оперу.
«Короли и капуста» вышли в декабре 1904 года. Как предсказывал Мак—Клюр, книга дала работу критикам. Первым отозвался журнал «Оутлук», посвятив роману целую страницу. За ним подали свои голоса «Букмэн», «Независимый» и «Критик». Писали не только о романе, но и о рассказах, что были опубликованы в «Мак-Клюрс мэгэзин», «Космополитэн» и в «Журнале для всех». Мнения были, в общем, хорошие, хотя и разные. Критики сходились в одном:
«… В Америке не было еще писателя, который довел бы до такого совершенства технику короткого рассказа».
Дэвис подчеркнул эти строчки красным карандашом.
— Я ждал этих слов, Портер, и дождался. Вот та дверь, через которую вы войдете в литературу. Приветствую вас и завидую вам. Нет, нет, это хорошая зависть. Она не подтачивает человека, а поднимает его. Сегодня у меня под пиджаком крылья. Можете пощупать, если не верите. Кстати, когда вы начали писать, Билл? И как это у вас началось?
Портер пожал плечами.
— Как началось? Право, не знаю. Мне всю жизнь хотелось быть писателем. Наверное, это желание и сделало меня тем, кто называется сейчас О. Генри. А писать я начал еще мальчишкой. Писал стихи, скетчи, пьесы, шутливые поздравительные адреса. Все это, конечно, неважное, слабое, обыкновенная литературная чепуха. Первое стоящее, что я написал, называлось «Месть лорда Окхэрста». Мне было тогда двадцать два года. Мне и сейчас нравится этот рассказ.
Дэвис грустно помолчал. Потом улыбнулся бледно и жалко.
— Я тоже хотел писать. Господи, сколько бумаги я извел на свои попытки! Но выходили какие-то серенькие, заурядные рассказы. Я стыдился их… — Он махнул рукой. — Хорошо, что я очень скоро понял, что писателя из меня не выйдет…
Билл похлопал Дэвиса по плечу:
— Бросьте, Боб. Шире крылья! Вы еще напишете книгу — и замечательную. Когда путь труден, человек становится настойчивым и злым. Мне тоже жизнь ничего не давала в готовом виде. Все — каждый пример, каждую мысль, каждое правило поведения — я брал у судьбы горбом своим. Поэтому я ненавижу тех баловней, которым все в жизни с самого начала открыто и легко доступно. Такие баловни, по-моему, не живут по-настоящему, а прозябают. Их ошибка в том, что они родились…
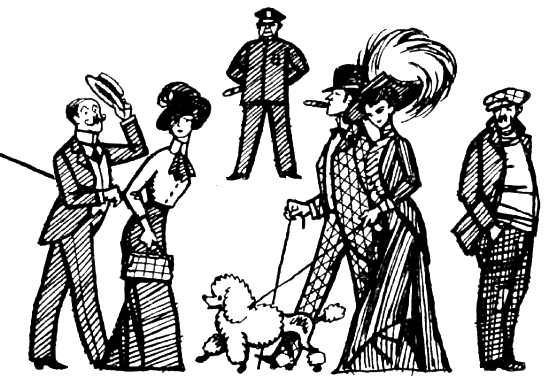 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |