"Бедняк" - читать интересную книгу автора (Бондаренко Борис Егорович)
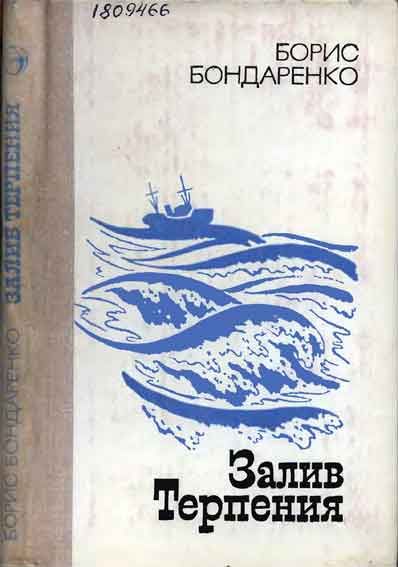 |
Борис Егорович Бондаренко Бедняк
1
Вот еду я к тебе, взрослой, тридцатилетней, давно уже успевшей и замуж выйти, и разойтись, матери восьмилетней дочери, и не знаю, совсем не знаю, какая ты. Знаю тебя другой – юной, смуглой, вижу, как смеются твои глаза, когда ты смотришь на меня, – неужели так они смеялись другому, твоему мужу? Я ничего не знаю – почему ты вдруг так поспешно вышла замуж, почему через три года ушла от него. Я только однажды видел твоего мужа – он такой высокий, толстый, важный, и я никак не мог понять, почему ты вышла за него. А понимал ли я тебя когда-нибудь? Глупый вопрос. Как можно говорить о понимании или непонимании, если мы росли вместе, – с пяти до восемнадцати лет, и ты была для меня чем-то естественным и необходимым – как отец, как мать, да что там – больше, чем отец и мать, потому что с ними я всегда жил неважно и все самое сокровенное говорил тебе, а не им, и за утешением шел к тебе, а не к ним... А сейчас я даже не могу представить, как ты выглядишь. Осталось ли что-нибудь от твоей стройности и гибкости? Я даже не знаю, почему ты тогда была смуглая – то ли от рождения, то ли потому, что мы все лето жарились на солнце, и сколько же раз я мазал твою спину одеколоном, а ты ойкала и терпеливо ждала, когда пройдет боль... Минуло уже бог знает сколько лет, но до сих пор я помню твое тело так же хорошо, как свое собственное. Я вижу длинный белый шрам на твоей пятке – это ты в воде наступила на осколок стекла и долго плакала, пока я неумело промывал рану и перевязывал ее носовым платком. И маленький шрам выше колена – я весной переносил тебя через ручей, поскользнулся на камне, и мы вместе упали в воду. И две маленькие коричневые родинки на левом плече – я вижу их так ясно, словно мы только вчера лежали на берегу, под горячим солнцем, и мне стоило чуть протянуть руку, чтобы дотронуться до них. Потом я очень любил целовать их...
Как медленно тянется время... Зря я не полетел самолетом. Но мне хотелось, чтобы эти тридцать два часа пути были только моими и твоими, захотелось вспомнить все, что было между нами, – а ведь вспоминать можно так много... Пожалуй, гораздо больше того, что было у меня потом. Странно... А впрочем, почему странно? С тех пор как я закончил университет, годы моей жизни были поразительно похожи один на другой, – я только сейчас понял это. Не считать же событиями переезд в трехкомнатную квартиру, защиту диссертации, поездку на конгресс математиков в Штутгарт. Ведь все это внешнее – а как же мало порой значит оно по сравнению с тем, что внутри нас. Вот сейчас, вспоминая наши годы, я чувствую себя просто нищим, – так много было тогда событий, открытий, ожиданий и так мало всего этого сейчас... Или это просто свойство молодости? А может быть, все дело в том, что тогда у меня была ты? А сейчас? Жена, сын, работа, – очень интересная и увлекательная, я таки стал неплохим математиком, как и предсказывала когда-то наша старенькая добренькая Валентина Георгиевна... Смешно – я с трудом могу вспомнить, как объяснялся в любви своей будущей жене, зато отлично помню, как рассердилась ты на меня за то, что я плохо отозвался о твоей подруге. Ты сказала, что это гадко, нехорошо, но ведь я просто ревновал тебя к ней и выходил из себя, когда видел вас шепчущимися в уголке. Тебе было тогда уже пятнадцать лет, и я еще не понимал, что у тебя могут быть какие-то свои, женские, секреты, о которых ты не можешь говорить со мной. Я многого тогда не понимал и сердился, если ты отказывалась купаться со мной и сидела на берегу, а я назло тебе заплывал так далеко, что ты начинала волноваться и кричала мне, чтобы я возвращался. Многого я не понимал тогда. Я не знал, что девушки взрослеют раньше, и меня просто бесили те нотки снисходительности, которые иногда прорывались в твоем тоне. Я грубил тебе, даже находил какие-то предлоги, чтобы не идти вместе с тобой домой, а потом сам мучился тем, что обидел тебя, но все-таки не подходил к тебе первым, видя твое нахмуренное, временами просто несчастное лицо... Я не знал, что именно в это время надо было особенно бережно обращаться с тобой, – господи, как много я еще не знал тогда! Но откуда я мог все это узнать? И сколько же дней было потеряно тогда из-за напрасных обид! И если бы знать мне, что дней этих осталось так немного... Но я просто не представлял, что придет время, когда нам придется расстаться, и даже не задумывался об этом. Мы оба хорошо учились и уже тогда решили, что вместе поедем поступать в МГУ – я на мехмат, ты на биологический. И то, что ты тоже не представляла своей жизни отдельно от меня, казалось мне чем-то само собой разумеющимся – разве мы не были одно и то же? Разве то общее, что было у нас, – а общим было все или почти все, – мы могли бы разделить с кем-нибудь? Даже мысль об этом казалась мне кощунственной, – да и тебе, вероятно, тоже...
А когда мы впервые поцеловались – ты помнишь это? Мне тот день запомнился до мельчайших подробностей. Это было под Новый год, весь день мела метель и было очень холодно, мы сидели по домам и готовились к школьному празднику, а потом, вечером, почти бежали, и я пытался загородить тебя от ветра. Наверно, школьный вечер был таким, как обычно, но нам обоим вдруг стало скучно. Именно обоим – я видел это по твоему лицу. Я осторожно взял тебя за руку, чуть пожал ее и тут же отпустил. Не глядя на тебя, я направился к выходу и в пустом коридоре ждал тебя. Почему мы не вышли вместе, как делали много раз до того вечера? Не знаю. Мне почему-то не хотелось, чтобы ребята видели, как мы уходим. Я не сомневался в том, что ты придешь, ведь я попросил тебя этим пожатием, – а разве тогда мы в чем-нибудь отказывали друг другу? И ты пришла, выжидающе глядя на меня. Наверно, ты уже знала, что сейчас произойдет что-то не совсем обычное, но не знала, что именно. Я молча взял тебя за руку и повел в наш класс. Там было темно, но я не стал включать свет, даже не довел тебя до нашей парты, как собирался, положил руки тебе на плечи и притянул к себе. Ты не сопротивлялась, – да я, откровенно говоря, и не думал, что ты будешь противиться, – и я в темноте нашел твои губы и прижался к ним. Мы еще не умели целоваться, мы просто прижались губами и немного постояли так. Но разве этот поцелуй не был лучшим из всех, какие выпали нам на долю? Разве потом было у меня хоть что-то похожее на то, что произошло тогда? А что это было? Что-то такое, что – я совсем не преувеличиваю – очень сильно изменило и меня самого, и весь мир, окружавший меня. Я понял и увидел это сразу, как разомкнулись наши губы, и не только не удивился этому, но принял как должное, необходимое. Наоборот, – я, наверно, удивился бы тому, если бы все вокруг осталось неизменным. Но все изменилось. А ведь был все тот же класс, так хорошо знакомый мне, только темный – я вижу, как на потолке протянулись широкие расходящиеся полосы света от фонарей внизу, – и все же он был не прежний, а другой, новый... И ветер не так гудел за окнами, как до нашего поцелуя. Не знаю как, но по-другому, совсем по-другому, я слышал, чувствовал это. А самое главное – я стал другим. Да разве могло быть иначе? Ведь рядом стояла ты, мои руки еще лежали на твоих плечах, и только что произошло событие, резко разделившее мою жизнь на две части – на до и после... До уже кончилось, а после только что началось, и от одной мысли о том, какая новая, необыкновенная жизнь будет теперь у нас, у меня закружилась голова... Может быть, и с тобой происходило что-то подобное? Хочется думать, что так, – иначе почему мы никогда не говорили о том, что произошло в тот вечер, даже когда стали настолько близкими, что могли говорить обо всем, не стесняясь друг друга, а об этом – никогда...
Наши отношения ни для кого не были тайной – ни для учителей, ни для ребят. Слава богу, учителя не вмешивались, да и ребята до некоторого времени – тоже. Но потом на них что-то нашло. Это было в девятом классе, все вдруг стали повально влюбляться друг в друга, пошли сплошные «романы» – бурные и скоротечные. В своих, «мужских», компаниях ребята принялись разбирать достоинства и недостатки девушек – и все единодушно решили, что ты далеко не красавица и я мог бы выбрать себе кого-нибудь получше. Я страшно злился, когда начинались такие разговоры, и уходил – мне просто непонятно было, как можно выбирать кого-то другого, когда есть ты, и как вообще можно выбирать – разве это не приходит само? И как они могли не замечать твоей красоты? А они говорили, что у тебя слишком широкие скулы и короткий нос, и брови тоже «не фонтан», и однажды я не выдержал и ударил кого-то, – сейчас уже и не помню точно, кого именно, кажется, Юрку Буянова. Мы основательно подрались, и с тех пор ребята при мне не разговаривали о тебе, но меня еще долго одолевало возмущенное недоумение – как они смеют не замечать твоей красоты? Твоих глаз – больших, блестящих и, главное, умных? Твоей красивой фигуры?
Когда я вспоминаю наши места, – а случается это, признаться, все реже, – становится порой так тоскливо и горько, словно я навсегда уехал оттуда и уже никогда не смогу вернуться. Да так оно, в сущности, и получается, – я не был в нашем городе лет десять, и хотя иногда невыносимо тянуло туда, – особенно в первые годы после нашего разрыва, – я удерживался. Что меня ждет там? Кроме тебя, там никого нет для меня, а как-то ты встретишь меня? Ведь ты теперь не моя... И вот – все-таки еду. Почему, зачем? Как, оказывается, непросто объяснить это даже самому себе. Проще всего сказать, что я случайно – а случайно ли? – наткнулся на пачку твоих писем, перечел их, все вспомнил, все пережил заново, – как будто это возможно – все пережить заново! – и желание видеть тебя стало таким сильным, что я уже ни о чем не рассуждал, быстро оформил отпуск и поехал к тебе. Просто и – неверно. Ведь знал же я, где лежат твои письма, их даже не пришлось искать, и года три назад тоже доставал и перечитывал их – но ведь не поехал тогда... Даже, кажется, и не подумал об этом. Было мне тогда грустно и хорошо, – как, вероятно, было бы на моем месте и любому другому, пережившему подобную юношескую любовь и спустя много лет вспомнившему о ней. И все было понятно и просто – хорошо потому, что было что-то настоящее, большое, и грустно потому, что такого уже не будет... Да ведь повспоминал тогда, погрустил – и снова запрятал эти письма подальше, забыл о них и о тебе забыл! Почему же сейчас не забыл? Почему сразу понял, что и не нужно забывать, надо поехать к тебе, увидеть тебя, почему сейчас считаю часы, оставшиеся до встречи с тобой? Не знаю... Да, откровенно говоря, и не хочу сейчас знать... Одно только хочу – видеть тебя. И странно мне сейчас думать, что за последние годы я так редко вспоминал о тебе. А ведь так оно и было. Я решил, что раз уж все кончено – зачем ворошить прошлое? А прошлое, оказывается, не надо и ворошить – оно живет во мне и всегда жило, спрятанное под слоем повседневности...
Все эти годы я глушил себя работой. Впрочем, почему глушил? Работа давно стала для меня состоянием наиболее естественным и удобным. Я часто задерживаюсь в институте по вечерам и даже в субботу и воскресенье большую часть дня провожу за работой. Когда не работаю – становится мне неспокойно, все остальное очень мало интересует меня, и я снова с облегчением усаживаюсь за письменный стол. И все смотрят на это как на должное – даже моя жена. Она не жалуется ни на скуку, ни на то, что я почти не помогаю ей, мало внимания уделяю ей и сыну. Она вообще ни на что не жалуется – и жизнь у нас идет спокойная, ровная, я мог бы по пальцам пересчитать все негромкие ссоры, случившиеся за эти восемь лет, что мы живем вместе. А сейчас я подумал – стал бы я вести себя так, если бы ты была моей женой? Нет, не стал бы, – уверен в этом. Возникает естественный вопрос – почему же я тогда женился, люблю ли свою жену? Нелегкий вопрос. Если уж быть честным до конца, не прибегать к помощи всяких спасительных «но», – не люблю и, вероятно, никогда не любил. «Вероятно» потому, что думал, конечно, что люблю ее, когда делал ей предложение. Она очень хорошая жена, – добрая, умная и – красивая, что тоже когда-то немало значило для меня, – и друзья завидуют мне. И все-таки даже когда я женился на ней, совесть моя была не совсем чиста. Тогда я уже понял, что потерял тебя окончательно, и потерял по своей вине, и был уверен, что такого чувства, которое было у меня к тебе – уже никогда ни к кому не будет. А Лена нравилась мне, очень нравилась. И я женился на ней. Подло с моей стороны? Не думаю. Кто же не знает, что первая юношеская любовь никогда не повторяется и потом все происходит иначе – проще, прозаичнее. В одном только моя «вина» – что я не смог забыть тебя. Но ведь я действительно был уверен, что все проходит, – и моя любовь к тебе тоже должна пройти. И вот оказалось достаточно, чтобы я наткнулся на пачку твоих писем, перечел их, – если бы ты знала, с каким волнением я читал! – и сразу сорвался и поехал к тебе. И что теперь будет? Не знаю...
А каким стал я? И этого я не знаю – или почти не знаю... Меня считают хорошим математиком, хорошим семьянином, – вероятно, потому, что я не пропиваю зарплату и не ищу удовольствий на стороне, – а что еще? Какой я на самом деле? Повседневная жизнь дает мне очень мало возможностей проявить себя. Не считать же, в самом деле, что я – это те тридцать с чем-то работ, опубликованных в разных журналах. Тогда что же я? А кто ты? Что я знаю о тебе, кроме того, что ты врач? Ничего – если не считать тринадцати лет нашей совместной жизни. Как смешно я говорю – «нашей совместной жизни»... А ведь это так и есть. Мы именно жили, и жили вместе. Как же могло случиться, что мы расстались? Я знаю – во всем виноват только я, но когда это началось? Может быть, в то наше последнее лото? Я помню все его дни и не вижу, где мы могли поступить иначе.
Мы закончили школу и готовились к экзаменам в МГУ. С утра мы честно садились за учебники, но боже, как неудержимо нас тогда влекло друг к другу... Редкий день мы выдерживали до двенадцати. Или я шел к тебе, или ты приходила ко мне – и тогда все учебники летели к черту, мы ничего не хотели знать и уходили в лес или на реку. Контролировать нас было некому, а мы сами, кажется, слишком надеялись на свои золотые медали, утешая себя немудреной философией – ведь не зря же в конце концов дают их, знаем же мы хоть чуть-чуть больше, чем остальные! В то лето часто бывали грозы, и мы нередко попадали под ливень и потом, полуголые, развешивали нашу одежду на какой-нибудь полянке. И какими глазами я тогда смотрел на тебя! Иногда ты, смеясь, говорила мне, чтобы я не глядел на тебя, но я видел, что тебе самой приятны мои взгляды, и я бросался к тебе, ты убегала, но я всегда настигал тебя и принимался жадно целовать твои губы, шею, плечи... Я думаю, мы просто не могли ограничиться только поцелуями – ведь мы любили друг друга. И это случилось – душным июльским днем, на твоей кровати.
Весь июль прошел так – в ласках, поцелуях, и помню, когда мы расставались, постоянным желанием было – именно постоянным, никогда не прекращающимся – быть с тобой... Видеть тебя, дотронуться до тебя, услышать твой голос, убедиться, что ты – есть, ты – моя... Сколько это продолжалось – месяц, год, вечность? Оказывается, неполных три недели. Потом мы уехали в Москву, нас поселили в разных корпусах, и нам только по вечерам удавалось найти укромный уголок и вдоволь нацеловаться... Но и это продолжалось недолго – ты провалилась на первом же экзамене, тебе надо было уезжать, и уже через два дня я провожал тебя на поезд. Ты держалась очень мужественно и даже не заплакала, когда мы прощались, и взяла с меня слово, что я обязательно сдам все экзамены, а ты приедешь на следующий год, и тогда мы будем вместе. И ты уехала, а я остался. Я действительно сдал все экзамены, – да еще и одним из первых, – но, боже мой, чего мне это стоило... Я занимался как проклятый, с утра до ночи, потому что, как только я отрывался от учебников, у меня появлялось непреодолимое желание уехать к тебе. Единственное, что поддерживало меня, – это твои письма. Ты писала часто, почти каждый день, и письма твои были так же просты и естественны, как ты сама, ты просто разговаривала со мной, – а я никак не мог ответить тебе тем же, слова, звучавшие ласково и нежно, когда я говорил их тебе, почему-то становились фальшивыми и напыщенными, как только я переносил их на бумагу. И ты понимала это и не сердилась, что я пишу так редко – всего раз в три-четыре дня. А я несколько раз принимался укладывать чемодан, собираясь ехать к тебе и сказать все то, чего не мог выразить в письмах. То, что я терял год, не слишком смущало меня, – ведь впереди этих лет было так много, а год этот я провел бы с тобой. И знаешь, сейчас я не то что жалею, что не сделал этого, а просто не понимаю, почему все-таки не уехал к тебе. Ведь наверняка тогда все было бы иначе. Может быть, наша любовь так или иначе кончилась бы, – хотя почему? – но ведь тот год мы были бы вместе... Но я уехал только после того, как сдал все экзамены. И – поверишь или нет – когда я увидел свою фамилию в списке принятых, я не испытывал большой радости. Ведь это означало, что мне придется год пробыть без тебя. Год... Если бы знать тогда, что не на год, а навсегда расстаемся мы... Но ведь мы оба были так уверены, что расстаемся всего на год. Да еще будут и зимние каникулы, и летние. И я приехал к тебе на те несколько дней, что оставались у меня до начала занятий, и удивился, как похудела и побледнела ты, и мне показалось, что ты не так хорошо встретила меня, как бы мне хотелось. Если бы знал я тогда, что ты беременна... Но ты ничего не сказала, и мы опять расстались – теперь уже надолго. И опять были письма – частые и нежные твои, редкие и неуклюжие – мои. Я описывал тебе наши веселые студенческие сборища, турпоходы, всякие хохмы, которые мы проделывали, писал, какая у нас замечательная группа, какие отличные и веселые ребята, – и не догадывался, как больно тебе читать это. Ведь ты была одна, совсем одна, у тебя была скучная, нелюбимая работа, и ты долго не могла оправиться от аборта, мать изводила тебя за твое «легкомыслие», – а я расписывал тебе, как мне весело живется... Вот тут уж точно начинается моя большая вина. И удивительно ли, что когда я приехал к тебе зимой, все уже было иначе. Я был просто нафарширован новыми впечатлениями, новыми друзьями, я взахлеб рассказывал тебе о них и лишь иногда спрашивал, как ты, что на работе, – а ты пожимала плечами и нехотя говорила: «Нормально». А разве можно было назвать нормальным то, что происходило между нами? Почему я не мог найти каких-то слов, чтобы подбодрить тебя, высказать тебе всю мою нежность, придать тебе уверенности в своих силах? А я – стыдно сейчас вспоминать об этом – даже обиделся на тебя за то, что ты отказалась прийти, когда я намекнул, что моих родителей не будет дома и мы останемся одни. С этой обидой я и уехал, – и, наверно, уже тогда наполовину потерял тебя.
А потом случилось так, что я не мог приехать к тебе на лето. Причина была как будто уважительная – весь курс отправлялся на целину, и у меня не было оснований не ехать. Но ведь знал же я, как ты ждала меня, как я нужен тебе, как плохо тебе одной. Знать-то знал, конечно, но – чувствовал ли по-настоящему? Иначе почему даже не попытался выкроить хотя бы неделю, чтобы повидать тебя, утешив себя тем, что скоро все равно будем вместе, всего через два месяца, – я почему-то не сомневался в том, что ты поступишь. (А почему не сомневался? Неужели только потому, что думать так было удобнее всего, это избавляло меня от необходимости принимать какие-то решения, – а я был не готов для них?) И опять я писал тебе глупые, восторженные письма, – о нашей «романтике», о жизни в палатках, о ночных кострах, о бескрайних просторах степей. А ты, по-прежнему одинокая, – я ведь и об этом знал, и даже не хотел, чтобы у тебя появлялись друзья, и заранее ревновал тебя к ним, – читала мои письма, сидя в душной комнате за столом, заваленном учебниками...
Когда я вернулся в Москву, тебя уже не было, – ты опять провалилась. Я еще не знал, что ты решила больше не поступать в МГУ, и писал бодренькие письма – ничего, все будет хорошо, на следующий год обязательно поступишь. А тут еще, как назло, беда случилась со мной, – я проболел целый месяц и так задержался с экзаменами, что ехать к тебе было уже поздно. А ведь если бы очень захотел – смог бы поехать, хотя бы на несколько дней. Но я еще ничего не понимал. И уже без особого огорчения написал тебе о том, что мне и в это лето не удастся поехать к тебе, – снова целина, – и опять считал, что до нашей окончательной встречи осталось всего два месяца. Я все еще был уверен, что узы, связывающие нас, слишком крепки, чтобы их могло что-то разорвать.
А потом от тебя вдруг целый месяц не было писем. Я был уверен, что ты поехала в Москву, и вдруг – твое короткое сухое письмо, в котором ты сообщала, что поступила в мединститут в нашем городе. Я трижды перечел его, прежде чем его смысл окончательно дошел до меня... И первое, что пришло мне в голову: «А как же я? Сколько же нам еще быть врозь?» И представь себе, что я, глупец, искренне считал тебя виноватой в нашей разлуке! Я убеждал себя, что ты просто струсила, побоялась привалиться, – как будто мало было двух провалов! – и, значит, только ты виновата в том, что мы не вместе. Поистине странная и удивительная логика! Я написал тебе раздраженное письмо с грудой упреков, и ты, совершенно справедливо обидевшись на меня, не отвечала мне два месяца, пока я сам не запросил пощады. Ты снова стала писать мне – но теперь твои письма были лишь бледной тенью прежних. И я начал понимать, что теряю тебя. А зимнее свидание только ухудшило наши отношения – ты не принимала никаких моих упреков и часто отвечала мне довольно грубо и насмешливо. Я растерялся – и с этой растерянностью уехал, не зная, что делать. Потом опять долгий перерыв в нашей переписке, и наконец это страшное письмо, – даже не письмо, а записка, без обращения и подписи, – ты просто извещала, что на днях выходишь замуж и наши отношения и переписка теряют всякий смысл... Что со мной было, Лиля! Только тогда я понял, как любил тебя и что потерял... Вот уж поистине – «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Я насобирал денег и первым же рейсом улетел к тебе. Но ты уже не жила у себя – твоя мать сухо сказала мне, что ты переехала к мужу, и наотрез отказалась дать его адрес. Но я все-таки узнал, где ты живешь, и на следующий день, простояв два часа напротив твоего нового дома, увидел тебя. Сначала только тебя, а потом уж его, твоего мужа. Ты выглядела обычно, – как я ни всматривался, не мог заметить никаких перемен. А я не понимал, почему ты выглядишь так же, как всегда, как и в те дни, когда мы были вместе. Ведь что-то, хоть немного, но должно же было измениться в тебе! Ведь прежняя ты не могла идти с ним, не могла любить его, не могла целовать его, не могла отвечать на его ласки... Смешно? Наверно. Но мне тогда было не до смеха. Тогда я стал разглядывать его, твоего мужа, – и странно и дико мне было, что я стою, украдкой разглядывая тебя, а рядом с тобой идет о н, твой муж. Он шел, заботливо поддерживая тебя под локоть, и был такой большой, самоуверенный и важный, что я подумал – вот почему ты вышла за него. Он, вероятно, сделал то, чего не мог сделать для тебя я, – спас от одиночества, тоски, неуверенности... Не знаю, прав ли был я. Почему-то мне трудно было вообразить, что ты любишь его, – я слишком хорошо помнил, как ты любила меня. Но я знал, что уже ничего не могу изменить, – и остановился, провожая вас глазами. А когда вы скрылись в толпе, я поехал в аэропорт и в тот же день был в Москве.
Я солгал бы, сказав, что долго мучился от твоей «измены». Я уже начинал понимать всю глубину своей вины перед тобой и ни в чем не упрекал тебя. Просто я весь был какой-то опустошенный, словно из меня вытряхнули душу и пустое место заполнили уравнениями и формулами. Да и жизнь у меня была достаточно напряженная и нелегкая – приходилось много заниматься, подрабатывать на стройках, и очень скоро я научился не вспоминать ни тебя, ни твой ласки. И когда женился на Лене – даже не сомневался, что все прошло и никогда уже не вернется. Но напрасно я так понадеялся на «великого врачевателя» – время. Когда я узнал, что ты ушла от мужа и снова живешь с матерью – мне показалось, что мир покачнулся и все стало как будто не в фокусе. Это не преувеличение – наш общий знакомый, который сообщил мне эту новость, просто перепугался, глядя на меня. Это было в кафе, мы уже выпили грамм по двести коньяку, и я невнятно отговорился тем, что мне стало плохо, быстро распрощался и пошел по городу. Куда? Сам не знаю. Первая мысль была – сразу же лететь к тебе. Но тут же я вспомнил, что я женат и сыну моему три месяца...
Что было потом? Да ничего особенного. Я засел за работу – да так, что иногда меня чуть ли не силой приходилось отрывать от стола и заставлять есть. В такой работе и прошли все эти годы. И опять я забыл тебя. И вот – еду. Зачем? Не знаю... Наверно, за своим прошлым, богатства которого неизмеримо превышают все остальное, что было у меня и что будет. Это я знаю твердо.
А ты? Какая ты сейчас? Помнишь ли меня? Что скажешь мне?
А может быть – за своим будущим?
(support [a t] reallib.org)