"На диком бреге (С иллюстрациями)" - читать интересную книгу автора (Полевой Борис Николаевич)
3
Три неприятности, одна за другой, пришлось пережить Сакко Надточиеву.
После разговора с Петиным прошло семь дней. Утром Вячеслав Ананьевич по телефону поинтересовался, что сделано для осуществления предложения Бершадского. Узнав, что ничего не сделано, обронил не то ироническое, не то удивленное «да?» и, не слушая объяснений, положил трубку.
И вскоре в газете «Огни тайги», в статье, посвященной техническому творчеству молодых специалистов, Надточиева в самой резкой форме разнесли за игнорирование предложения молодого инженера. Под статьей стояла многозначительная подпись: «Группа товарищей».
В ответ на телефонный звонок редактор «Огней», который всегда относился к Надточиеву хорошо, привлекал его к выступлениям по разным поводам, только вздохнул: не поместить эту заметку он просто не мог. Советовал поскорее принять меры и обещал немедленно же сообщить об этом читателям.
— Но ведь вздор, мыльный пузырь это предложение.
— Твое мнение нам известно, — отвечал редактор печально. — Мы консультировались в управлении у очень авторитетных людей, и они...
— Но мы не можем позволять себе роскошь — тратить большие средства на пускание эффектных мыльных пузырей лишь для того, чтобы слыть новаторами.
— Как знаешь, Сакко... — В трубке опять послышался вздох. — Я тебе только добра хочу, не упрямься...
На следующий день уже втроем — Капанадзе, Надточиев и редактор — сидели в продолговатой бревенчатой комнате партийного комитета. Надточиев глядел в окно, где меж жемчужными гирляндами заиндевевших проводов, отмечавших будущую улицу, один за другим, фырча и окутываясь сизым дымом, тянулись грузовики с тесом. Редактор изучал на стене золотистые натеки смолы. Капанадзе, сидя за столом, машинально обводил пальцем уже упомянутую статью в «Огнях», лежавшую у него под стеклом. Все трое относились друг к другу с симпатией, вместе в свободное время хаживали на рыбалку и потому сейчас чувствовали себя особенно неловко.
— Ну чего ты, генацвале, упрямишься? Сам же говоришь, что лучше, когда волосы на голове, а не на гребешке. Так почему же, дорогой, не бережешь прическу? Петин — за, пресса — за, партийная общественность — за, а товарищ Надточиев — против. Уселся, как пан в старом польском сейме: не позволям... Хорошо это?
— Пойми, Ладо, и ты, печать, пойми, это пшик, ничто. Вы все убедитесь в этом, когда попусту будет вломлена в это дело куча денег... Я ему представил самый простой расчет: ведь это копейку рублевым гвоздем прибивать. Чушь, сплошная чушь... Он — за... Я ведь знаю, чьи слова цитирует эта «группа товарищей». Петин любит, чтобы его цитировали, как библию. А я неверующий. Мне ничьих цитат не надо, у меня своя голова. Петин! Вы еще его узнаете. Вещь в себе этот Петин, вот кто.
— Сакко, дорогой, мы с тобой друзья. Друзья или не друзья? — спрашивал Капанадзе, и потому, что в речи его усиленнее обозначался акцент, Надточиев знал, что он по-настоящему волнуется. — Друзья? Ну так слушай, друг, брось упрямиться. Никто этого упрямства не поймет, коммунисты осудят. Это же не по-большевистски.
— А по-большевистски, если я, опасаясь начальственного окрика, ради случайного мнения большинства стал бы кривить совестью? Большевизм — это прежде всего принципиальность, честность, искренность и уж никак не гибкость позвоночного столба.
Надточиев вскочил. Большой, массивный, он заметался по комнате, и рассохшиеся половицы застонали под его ногами. Редактор комкал в пальцах душистый комочек смолы и с опаской поглядывал на секретаря парткома. В таких случаях Капанадзе бывал порою горяч. Но тут он только хмурился и продолжал задумчиво обводить пальцем статью.
— ...Обсуждать будете? Обсуждайте. Буду драться. — Половицы сердито скрипели. — Прорабатывать? К вашим услугам. Зубы у меня не вставные. Выговор подвесите? Ну что же, обогатите парторганизацию еще одним выговороносцем. Со строительства Петин выживет? Ну и что. Мне корни рубить не придется, рюкзак в машину, «Бурун, за мной» — и будьте здоровы...
— Сын мой, Григол, Гришка по-вашему, он еще лучше однажды женке моей, Ламаре, сказал: «Вот, говорит, возьму и нарочно отморожу себе нос, назло папе». Тоже очень принципиальный товарищ. — Капанадзе невесело улыбнулся. — А ты подумай, дзмао, подумай... Из пустой царапины гангрена может получиться...
Но Надточиев не отступил. Через несколько дней уже впятером, вместе с Петиным и председателем профсоюзного комитета, они сидели в кабинете временно исполняющего обязанности начальника. Беседа была напряженная. По неудобным позам сидящих, по тому, что в разговоре все время возникали тягостные паузы, чувствовалось: всем неловко. Только хозяин кабинета был, как всегда, спокоен, деловит.
— ...Товарищи, я хотел решить все в обычном рабочем порядке, не привлекая внимания общественности, — говорил Петин. — Но Сакко Иванович, которого мы все знаем как хорошего, делового инженера, проявляет в этом деле не только недопустимый консерватизм, но и непонятное упрямство. Я не могу, и это я официально заявляю руководству треугольника, перед представителем прессы, я не позволю сейчас, в годы всенародного трудового подъема, в годы, когда каждый человек стремится принести свой посильный взяток в великий сот семилетки...
«Волга впадает в Каспийское море... Курить вредно... Пить молоко полезно... — твердил про себя Надточиев, стараясь отвлечься от гладких, округлых фраз, поднимавших в нем горькую злость. — Может быть, он хочет, чтобы я сорвался, наговорил грубостей... Что ему нужно? Зачем он все это затеял?..»
— Вы же, Сакко Иванович, помните, как я вас просил, чтобы вы как коммунист, а не как какой-нибудь щедринский самодур относились к молодым специалистам, к их пусть еще робкому, благородному творчеству на общее благо, — продолжал Петин, искоса следя за тем, какое впечатление производят его слова на присутствующих. — Теперь я от вас этого требую перед партийным и профсоюзным руководством и прессой... Я делал все, что мог, чтобы предупредить необходимость этой неприятной беседы. Товарищи могут подтвердить. Но что поделаешь! Теперь придется издать соответствующий приказ, который я вам, — он поклонился в сторону редактора, — пошлю как ответ на вашу очень правильную и своевременную статью... Жалею, очень жалею, но вы сами, Сакко Иванович, понудили меня к этой крайней мере. Я надеюсь, что она поможет вам понять свои ошибки и научит внимательнее относиться к творчеству своих молодых собратьев, вносящих ценные предложения...
— Предложения?.. Пока что, мне кажется, мы говорим здесь лишь об одном проекте инженера Бершадского? — спросил Капанадзе, насторожившись.
— Увы, Ладо Ильич. — Взяв со стола какую-то бумажку, Петин все так же, не повышая тона, перечислил еще несколько совсем уж ничтожных предложений, которые в разное время были отвергнуты.
— Мы с вами работаем рядом, чего же вы раньше молчали? — почти простонал Надточиев, огромным усилием отрубая от этой фразы так и просившееся на язык «черт вас побери».
— Каждый из этих фактов в отдельности не требовал вмешательства сверху. Я бы не упомянул их и сейчас, если бы не совершенно справедливый вопрос нашего партийного руководителя. Дело не в фактах, дело в явлении. Я, как человек, которому временно доверено строительство, считаю своим долгом...
Надточиев упрямо смотрел на тупые концы своих огромных ботинок. Едкие, хлесткие слова вертелись на языке. С каким бы удовольствием бросил он их, не задумываясь о последствиях, в это смугловато-бледное, спокойное лицо с тонкими, бескровными губами! Мучаясь своей немотой, он презирал себя. «Только бы выдержать, только бы не понести...» И вдруг мелькнула спасительная, как ему показалось, идея. Неожиданно он встал и, не поднимая глаз, глухо произнес:
— Простите, меня мутит...
— Что? — Растерянно взглянув на него, Петин не договорил очередной округлой фразы.
— Мутит, подташнивает, — пояснил Надточиев в ответ на встревоженный взгляд Капанадзе. — Понимаешь, наверное, таракана я за обедом проглотил... Вы уж тут без меня...
Тяжело ступая, он вышел из кабинета, оставив треугольник и прессу решать его судьбу. В этот день на станцию, еще не получившую своего официального названия и потому называвшуюся просто Остановка, с Урала должны были прибыть части двух новых экскаваторов. У себя в кабинете Надточиев нашел на столе записку, предупреждавшую его, что эшелоны могут прийти раньше срока. Он оделся и, пройдя мимо своей машины, стоявшей у подъезда управления, зашагал на станцию пешком.
Ему, человеку, как он говорил, «без постоянного адреса», было радостно наблюдать, как, возникая на просеках одновременно в разных местах тайги, будто проявляясь на зеленом негативе, рождается новый город. И вот сейчас, без шапки, с папиросой во рту, он размашисто шел по проспекту Энтузиастов к площади Гидростроителей, которой надлежало со временем стать городским центром. Навстречу двигались машины с бревнами, с тесом, шли приземистые самосвалы, в кузовах которых, точно серая сметана, колыхался жидкий бетон. Могучие «МАЗы», рыча и дымя сизой гарью, тащили костлявые прицепы. На них, точно картон в папке художника, в стальных переплетах, одна к другой стояли стены будущих домов, с окнами и дверями. Надточиев умел конструктивно мыслить. Там, где непривычный глаз заметил бы лишь горы песку, пропасти котлованов, неприглядные серые стены, он видел стройность созидательной гармонии, видел будущее, и оно радовало его, как хорошая песня, как музыка.
По замыслу Старика, город, рождавшийся на глазах в девственной тайге, не должен был вовсе вытеснить лес. Деревья уступали ему лишь пролеты проспектов, улиц, площадей. Рядом со строящимся зданием простирал свои ветви могучий кедр. Фоном домов была стена тайги, подступавшая вплотную к будущим улицам. Это придавало всему своеобразную прелесть. Одна из сосен стояла у самого тротуара, рядом с коробкой поднявшегося дома. Ствол ее кто-то заботливо обернул толем, чтобы не повредить во время строительных работ, и, когда инженер проходил мимо, он заметил, что снег тонкой струйкой течет с ее ветвей на тротуар. Подняв голову, он увидел серенький комочек, копошившийся в ветвях, потом черные чешуйки растерзанное шишки, крутясь, упали на него, и человек, на миг забыв о своих горестях и волнениях, улыбался веселому зверьку: ничего, товарищ Белочка, как-нибудь выдюжим.
На воздухе тоскливая тяжесть понемногу рассеялась. Но осталось смутное предчувствие чего-то худшего. «Опытный инженер, он не может не видеть, что бедный Макароныч снес пустое яичко. Так зачем же он заставляет меня жарить из него яичницу?.. Да нет же, ничего он не хочет... Просто ты, друг мой Сакко, подставил ему в бою борт, и он влепил в него снаряд. Но почему бой? Зачем ему это надо? Неужели ревность? Если бы для ревности были какие-нибудь поводы...»
Задумавшись, Надточиев не слыхал, как его догнала и остановилась где-то рядом машина. Это был черный лимузин Литвинова. За стеклом расплывалась, как восходящая луна, физиономия Петровича, а женский голос, заставивший Надточиева вздрогнуть, покраснеть, позвал из машины:
— Сакко Иванович, вы куда? Не по пути ли? — кричала из машины Дина. — Я домой. Вы посмотрите, какую я рыбину достала — пальчики оближете. Кажется, небольшая, а ведь около шести кило... Знаете, мне дико повезло... Так по пути?
— Я на станцию. Но с вами мне всегда по пути, — ответил Надточиев, внутренне браня себя за банальность этих слов и за то, что не умеет скрыть радости перед этой бестией Петровичем, весьма многозначительно ухмылявшимся за рулем.
— Знаете что? Денек такой звонкий! Пусть Петрович отвезет мои трофеи, а мы пройдемся. Идет? Вам через Набережную, как мне кажется, даже будет ближе? — На миг Дина задумалась. — Только как же быть? Клавдия-то у меня убежала, дома никого... Впрочем, еще идея. Петрович, милый, дорогой, золотой, вот вам ключ от дома, отвезите продукты сами, суньте их куда-нибудь, в холодильник, что ли, а рыбину — она в холодильник не влезет — ну хоть между окон. А? Голубчик, я не очень вас затрудняю? Ведь нет? — Дина просительно прикоснулась перчаткой к его руке.
— Бу сде, Дина Васильевна! — весело отозвался Петрович и из-за ее спины многозначительно подмигнул Надточиеву: дескать, не зевай.
— ...Вчера мне страшно, ну страшно не везло. Утром Клавдия подала в отставку: определилась на курсы учетчиц. Ну, я ее понимаю, девочка почти со средним образованием, недурненькая, вся жизнь впереди, — что ей в домработницах! А я? Как мне быть? Катюшка — на курсы бетонщиц, Тамара, видите ли, — в электротехники, а эта — в учетчицы. Сакко Иванович, я вчера ревела вечером, как, ну... сидорова коза.
— Вымирающий вид, — мрачно пробурчал Надточиев. Он старался не опередить спутницу и потому смешно семенил своими большими ногами.
— Что, что? Что вы сказали?
— Я говорю, вымирающие на земле виды — беловежские зубры, дунайские пеликаны, хвощи и домашние работницы.
— Вам хорошо смеяться, а мне каково? И не помощь мне ее нужна. Но что я буду делать дома одна — рассветает поздно, темнеет рано. Даже по телефону, как у нас на Трехгорке говорили, «потрепаться не с кем»... Но сегодня ужас как повезло. Вы себе представить не можете. Слышите? Что вы на меня так уставились?
— Вы мне очень нравитесь.
— Опять. Вы же приняли мои условия... Так вот, хожу в Дивноярском по базару, купила мясо, луку, меду, шерстяные носки купила себе — дома ходить, вдруг встречаю одного человека. Он из Кряжова: огромный, бородища как у Карла Маркса, даже длиннее. Громадный мужчина, эдакий Ермак Тимофеевич.
— Ну и что же этот Ермак Тимофеевич? — Надточиев старался не смотреть на разгоряченное морозом и ветром лицо спутницы, на длинные ресницы, на которых белели крупицы инея.
— О, это целая история! Представьте себе, шагает он, тащит какие-то удочки или снасти и пузатую рыбину, похожую на аэростат. Там разные тетки за ним: «Почем рыба? Сколько за килу?» А он будто не слышит. И вдруг увидел меня, узнал, поклонился, и из этих его зарослей, вижу, выползает улыбка. Я тоже: «Не продадите ли? Какая цена?» Он: «Пятачок». — «Что? Пять рублей? Или пятьдесят?» Он: «Пятачок»... Тут я вдруг вспомнила, что он...
— Ермак Тимофеевич?
— Сакко Иванович, не надо смеяться: по-видимому, это действительно хороший и несчастный человек... Так вот он говорит «пятачок», а я вспомнила, что он за эти деньги жене Поперечного целую корзину грибов отдал.
Суюсь в сумочку — пятачка нет. Он протягивает мне рыбину и, представьте себе, говорит: «Будете в Кряжом, расплатитесь». И пошел, даже не оглянулся.
— Хорошо, что вы при нем спичкой не чиркнули, — усмехнулся Надточиев.
— Почему?
— Вспыхнул бы голубым пламенем и сгорел: так он весь проспиртован... Я его на охоте встречал. Это какой-то колхозный механик, запойный, бедняга, и как войдет в пике́ — чудит.
— Ну зачем вы мне настроение портите! — воскликнула Дина хмурясь. — Так все было интересно, и вдруг: «запойный», «чудит»... Ну ладно. Слушайте дальше. Мои удачи еще не кончились. Едем домой, знаете, по этой обходной дороге. И вдруг впереди девушка — высокая, стройная, в черном полушубке, серым мехом отороченном, в красном платке: Василек!
— Василек?
— Ну да, Василиса, дочь Седых. Вы ведь их знаете. Ну а я у них жила. Оказывается, она в «Заготпушнину» шкурки сдала, порох получала, дробь или пули, что ли. Грустная. «Что такое?» А видите ли, заходила по пути к нам на учебный комбинат и узнала — курсы английского языка есть, а немецкого — нету. А у них на Кряжом, надо вам сказать, немка умерла. Весь выпуск «безъязыкий» вышел, и она из-за этого в медицинский институт провалилась.
— Так чему же вы обрадовались? — спросил Надточиев, осторожно беря ее под руку, но она тут же мягко отстранилась:
— Не надо. Это ведь не Москва. Здесь столько глаз, и этот ужасный узун кулак... Завтра все заговорят, что инженер Надточиев в рабочее время прогуливается под руку с женой временно исполняющего обязанности начальника строительства.
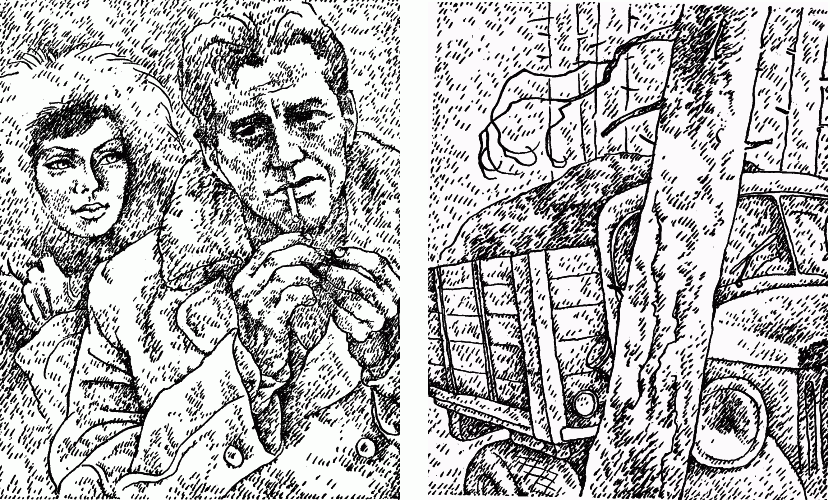 |
— А вы боитесь?
— Нет, не боюсь. Вячеслав Ананьевич выше ревности. Но положение обязывает... — И вдруг, как бы превращаясь в девочку, она зачастила: — Нет, слушайте, слушайте, так только в кино бывает, и то только в самых плохих фильмах. Ей нужен немецкий язык, а у меня есть диплом курсов иностранных языков. И договорились — Василек приедет ко мне жить, будет мне помогать по хозяйству, а я буду готовить ее к экзамену. Здорово, правда?.. Она чудная девушка, умница, очень интеллигентная и притом охотница. Я как-то усомнилась, как это можно одной дробинкой попасть белке в глаз. Она сняла со стены мелкокалиберную винтовку, как она выражается — мелкашку, показала мне вдали маленькую шишку где-то в ветвях сосны — бах, и шишка вдребезги. А сама такая... Я понимаю теперь, почему в старину говорили — кровь с молоком.
Сами того не замечая, они стояли у заваленного снегом палисадника перед домом, в одном из окон которого, спущенная из форточки на шнурке, белела толстая, будто алюминиевая рыбина. Было морозно. У Надточиева ломило от холода лоб, мерзли уши. Он даже не притрагивался к ним, не стряхивал с волос иней. Лишь бы она не ушла...
— Это та девица, которая всем дает звериные прозвища? Интересно, как бы меня определила ваша Василиса Прекрасная?
— А она уже определила, — весело сказала Дина. — Еще тогда, когда вы всё на Кряжом, как она говорит, «стояли». Вы — по-здешнему сохатый, то есть лось. Большой, сильный, пугливый и... глупый лось. И, засмеявшись, вбежала в калитку.
— А вы? — крикнул ей вдогонку Надточиев.
— Не скажу, — услышал он уже с порога дома, где маленькая женщина в меховой парке уже открывала дверь, приветствуемая из-за двери радостным, захлебывающимся лаем...
Было в этот день и много приятного: славные ребята — монтажники с Урала, рабочие, похожие на инженеров, и хлопцы Поперечного, ради приезда свердловчан из своих «спиджачков» и «штанов-махал» перелезшие в комбинезоны, и надписи на контейнерах, выведенные мелом и углем: «Привет строителям Дивноярска от рабочих Урала»... «Посылаем от души»... «Работайте на здоровье», и эти блещущие изморозью искусной шабровки сочленения машин, и дружба в отношениях между шеф-монтерами и экскаваторщиками, установившаяся, еще когда машины эти изготовлялись... Все это радовало. И все эти радости совмещались в образе худенькой женщины в мехах, растворялись в ее смехе, в блеске ее глаз. И ничего не нужно было инженеру Надточиеву, кроме смутного ощущения, что она где-то здесь, недалеко в этой массе разноплеменных людей, съехавшихся сюда со всех концов страны будить издревле дремотные края.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |