"Натюрморт на ночном столике" - читать интересную книгу автора (Нолль Ингрид)
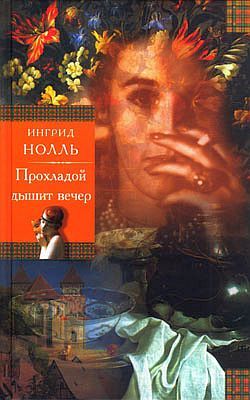 |
Ингрид Нолль Натюрморт на ночном столике
РОЗОЧКА
Яркий букет в прозрачном кубке: розы, розовые и белые, василек, огненные красно-желтые тюльпаны, нарцисс, крошечная фиалка, анютины глазки и жасмин, всего несколько цветочков. Сквозь стекло мерцают зеленоватые стебли и листья, вода мутноватая, зеленоватая с черным, как и весь затемненный фон картины. Освещен лишь сам букет. Каждый цветок живет своей жизнью — один склонился вправо, другой — влево, этот распускается, тот поднимает гордо голову, а кто-то там и вовсе прячется среди своих роскошных собратьев. Только один бутон не похож на остальные цветы: розочка клонится вниз, будто ей стыдно и она хочет скорей укрыться в темном углу натюрморта.
В моей жизни красные розы сыграли роковую роль, но этот темно-красный бутон — мой любимый. Нежные лепестки, те, что ближе к стеблю, отдают в желтизну, а вокруг — весенняя зелень чашечки. Один из лепестков дерзко загнулся кверху, но поникшая головка означает, что цветок обречен и скоро завянет. Три с половиной века назад написал Даниель Сегерс этот букет, а цветы такие свежие, будто только что из сада. Здесь нет ни пионов, ни лилий, ни ирисов — это все цветы Пречистой Девы, — так что, я думаю, никакого сакрального смысла картина в себе не таит. Букет предназначался для самой обыкновенной, земной нормальной женщины. Такой, скажем, как я.
Но тут же меня, в который раз, одолевают сомнения. Это я-то нормальная женщина? Я, которая любит пауков и мышей? Которая с детства помешана на животных? Нет, не на мишках там каких-нибудь плюшевых: меня всегда тянуло к крошечным живым тварям. Когда я следила за их возней, во мне разгорался охотничий азарт: мне хотелось поймать, схватить… По каким только пыльным углам я не рыскала без всякого страха в поисках бог знает каких насекомых, голыми руками поймала как-то шмеля, и он гудел у меня в кулаке. Еще интересней, конечно, было мять всяких теплокровных — маленьких грызунов и птичек. И при этом мне ни разу не удалось поймать здорового зверька — то какой-нибудь увечный попадется, умирающий, то какая-нибудь беременная. Кладбище мое напоминало грядку в огороде, и каждого усопшего моего пленника ждала красивая могилка, с любовью убранная камешками и маргаритками. Как истинная собирательница, я бы, разумеется, охотнее похоронила одного большого млекопитающего зверя, чем, скажем, уже пятого черного дрозда. Но этому обычно предшествовал сложный обмен. Однажды, например, за мертвую морскую свинку у меня потребовали мамину губную помаду, и я смогла это устроить.
Вообще в детстве я любила чего-нибудь «отмочить»: специально оставляла открытыми банки с медом — для пчел, пила папино пиво, успешно торговала сделанным домашним заданием, могла и стянуть у мамы из кошелька деньжат, врала напропалую. Чаще всего никто ничего не замечал. А если родители и «застукивали» меня, то мне все сходило с рук. Отец в таких случаях выговаривал мне, что я и так живу неплохо, что должна быть довольна тем, что имею, и потому не должна нарушать закон. Мать же никогда не ругала, лишь вздыхала время от времени: «Ах, глупая мышка!» Иногда я просто скучала по наказанию, мне хотелось, чтобы родители разбушевались, разгневались, но только оба они на сильные чувства были совершенно не способны.
Мой отец женился на моей матери, медсестре, намного моложе его, в 55 лет. Это был его второй брак. Едва я появилась на свет, он занемог, слег в постель, и пятнадцать лет, вплоть до самой смерти, уже не вставал, и мать ухаживала за ним. С тех пор в спальне моей матери стоят две кровати — «больная» и «здоровая». И только мы, члены семьи, понимаем, что это за кровати. Опустевшее ложе моего родителя так и осталось в спальне. На нем пришлось спать мне, пока я не покинула родительский дом. Правда, когда отца хватил третий уже удар и он скончался в больнице, я сама добровольно забралась в его кровать, поближе к мамочке. Но потом все мои попытки вернуться назад в мою комнату окончились ничем. Мать донимали то головокружения, то мигрень, то ночные кошмары, то приступы панического страха. Может, мне следовало бы дать ей отпор, воспротивиться поэнергичней, но на меня уже была возложена ответственность за материнское здоровье и благополучие, так что пришлось уступить. Она подспудно внушала мне, что просто умрет, если меня не будет рядом.
Отцовская кровать до сих пор всегда застелена свежим бельем. Некоторое время она называлась «папиной кроватью», потом мать переименовала ее в «больную». При жизни отца его ложе было оборудовано разными приспособлениями. Деревянной решеткой, например, которую можно было двигать и переставлять на разные уровни. Сверху лежал гибкий матрас, и вся кровать была как бы на шарнирах, крутилась и вертелась во все стороны, а сбоку крепился столик-поднос, который отодвигался и придвигался. Когда матери, после того как я покинула дом, пришлось, хотела она этого или нет, привыкать к одиночеству, то обнаружились все удобства и достоинства «больной» койки. Стоило маменьке схватить грипп, как она тут же перебиралась в кровать покойного супруга. Со временем мать постелила туда матрас из латекса и поменяла решетку, которую приводил в действие специальный моторчик: он поднимал или опускал на любой уровень и ноги, и изголовье. Кто не в курсе мамочкиной терминологии, тот непременно примет за «больную» кровать именно «здоровую», с древним продавленным матрасом. На таком даже самую мускулистую молодую спину скрутит радикулит.
Думается мне, мамуля специально по нескольку ночей спит на «здоровой» кровати, чтобы у нее вступило в спину и появилась причина перебраться на одр болезни. Там она с чистой совестью сутками валяется без дела, смотрит телевизор, читает, завтракает. Иногда нажимает на кнопку, нижний конец кровати взмывает вверх так, что ее бедра оказываются в вертикальном положении, а ноги ниже колен располагаются горизонтально. Порой она поднимает спинку и садится. Или наоборот — еще выше приподнимает подножие кровати. В этот момент она похожа на не до конца раскрытый складной нож. Несколько суток в «больной» кровати, и мама снова здорова и готова выдерживать неудобства в «здоровой».
Телефон, разумеется, стоит на ночном столике возле «больной» кровати, чтобы в смертный час был под рукой. Мамуля согласна даже каждый раз, когда телефон звонит, бежать в спальню. Там она плюхается на постель и только после этого хватает трубку. Знаете, некоторые курильщики не могут разговаривать по телефону без зажженной сигареты: первые секунды в трубке слышно щелканье зажигалки, потом человек глубоко затягивается и, наконец, внимание собеседника на том конце провода обращается на вас. Когда я звоню матери поболтать, в трубке слышится легкое жужжание: она поднимает повыше спинку кровати.
Эта «больная» кровать, скорее всего, и выгнала меня раньше времени из родительского гнездышка. До пятнадцати лет я спала в своей комнате и подружек иногда ночевать приводила. И родители позволяли мне остаться на ночь у какой-нибудь девочки после дня рождения или во время каникул. Но вот умер отец, и все закончилось. Хочешь не хочешь, окажешься в изоляции.
Только соберешься «оторваться» с одноклассниками на вечеринке, как мать ровно в десять присылает за тобой такси. Вероятно, она не столько беспокоилась за меня, сколько изнемогала от страха, что соседняя кровать будет пустовать до утра. И когда меня привозили домой родители моих подруг, она всегда бодрствовала и глаза ее были неизменно полны горького упрека.
Я закончила школу и решила уехать в Гейдельберг штудировать биологию. Правда, эта наука не особенно меня привлекала, но дома я сделала вид, что жить без нее не могу.
Мамуля меня все-таки, наверное, любит. Она смирилась или, по крайней мере, осознала, что ее единственное дитя не будет весь век свой спать у нее под боком. Я, понятное дело, поначалу на выходные приезжала домой и опять спала в одной комнате с матерью. Но через год она привыкла к одиночеству, перестала донимать меня каждый день звонками, больше не следила, во сколько я возвращаюсь вечером в общежитие, уже не присылала мне кулечки с сервелатом и миндальным печеньем и не закатывала истерику, если я уезжала на каникулы с подружкой куда-нибудь в Шотландию (вы понимаете, мне много надо было наверстать).
Спустя еще год я бросила учебу: меня доконала аллергия на асбест, достал один невменяемый профессор, а еще я возненавидела математику, физику и химию, и учить их было выше моих сил. Матери я ничего не сказала. Потом, решила я, когда хоть как-то в жизни устроюсь, вот тогда ей все и объясню.
С тех пор я проводила полдня в постели — совсем как маменька, а вечером отправлялась работать официанткой в одно кафе. Знакомилась с разными людьми, иностранцами и местными, школьниками и студентами. Частенько сама водила туристов целыми группами по городу, а они потом приглашали меня поужинать. Таких приятелей я меняла как перчатки. Свободы было хоть отбавляй. Вот было время, жаль, прошло… Но совесть меня все время колола: нехорошо врать маме, которая по-прежнему высылает тебе деньги на образование. А я все продолжала врать, когда приезжала к ней на день ее рождения, на Рождество. По телефону сочинять легко, но вот если надо смотреть человеку в глаза… Гадко было все это. Мне только оставалось утешать себя тем, что моя маменька дама совсем не бедная.
Мой первый друг носил многообещающее имя Гёрд Трибхабер.[1] Он звал меня Розочкой — Аннароза он и за имя не считал. Долгое время я полагала, что обязана своим прозвищем строчкам из Гёте: «Мальчик розу увидал, розу в чистом поле, роза, роза, алый цвет, роза в чистом поле».[2] Но одна подружка растолковала мне однажды, что в этом стихотворении речь идет об изнасиловании. Я тогда воспротивилась такому прозвищу, но Герд утверждал, что к нашей первой ночи оно никакого отношения не имеет, это просто сокращение от другого слова: «Неврозочка». Он считал меня немного… э-э… «тово».
Еще бы. Кто вырос на «больной» кровати, тот имеет право на некоторые странности. Меня, например, тошнит от молока, ресницы я никогда не крашу — туши не выношу, еще у меня аллергия на разные вещества. Зато я могу пить, как шут Перкео,[3] и ни в одном глазу. Я прошу кого-нибудь заливать бензин в бак: мне невыносим вид бегущих цифр на счетчике, который словно пожирает мои кровные. Ненавижу вычитать, люблю только складывать. Есть у меня еще парочка «тараканов», но о них я умолчу. Вообще-то нервы у меня в порядке, не стоит так уж преувеличивать. Скорее такое можно сказать о моей маменьке. Когда я предложила ей вообще убрать кровать «здоровую» и спать только на «больной», она встала на дыбы. И все из-за новой своей причуды. Как-то накануне Рождества она записалась в кружок, где шили медведей из плюша, — ей хотелось сделать подарок внукам. Но расстаться с творением своих рук она не смогла и с удвоенной энергией принялась ваять новых зверушек. Скоро вторая кровать вся была завалена лохматыми бурыми и белыми медведями, черными гризли, пандами, коалами, гималайскими медведями с белыми воротничками, барсуками и енотами и прочими «лохматками». Переселение всего этого народца с одной кровати на другую можно уже смело сравнивать с великим переселением народов. А маменька тем временем собирается освоить еще и шитье кукол. Если так пойдет дальше, думаю, скоро ей понадобится трехспальная кровать.
Я росла в семье единственным ребенком. Но это вовсе не означает, что у меня не было братьев и сестер. У моего отца была дочь от первого брака, моя сводная сестра. Она старше моей матери. Эту особу — Эллен ее зовут — я видела за все свои детские годы и в юности четыре раза, а на отцовских похоронах мы сидели рядом целый час. На Рождество мы посылали друг другу лишенные всякого содержания открытки. Кто знает, может быть, Эллен держала на меня зло за то, что наш общий родитель бросил ее мать ради моей, хотя это и произошло за два года до моего рождения. Эллен негодовала на мою маму: якобы та, разлучница, хищница, интриганка, увела у ее матери мужа, разрушила благополучную семью. Более абсурдную мысль трудно себе представить. Да моя мама просто овечка, которая заманила моего отца своим блеянием. Бог его знает, как уж так вышло: она забеременела, а когда на свет появился мой брат, наш отец развелся со своей первой женой. Он всю свою жизнь мечтал о сыне.
Увы, младенец погиб, кажется, год спустя — несчастный случай. Минуло совсем немного времени, и моя мать уже носила меня. Когда папуля узнал, что вместо сына ему родили дочь, он захворал. Таким только я его и помню: пятнадцать лет в постели, страдающего и несчастного. О причине его горя я узнала лишь тогда, когда пошла в гимназию и в одночасье стала «взрослой девочкой»: на ночном столике у кровати в позолоченной рамке стояла фотография его единственного сына, его погибшего Мальте.
Так вот, в моей жизни присутствуют живая сестра и мертвый брат, и к обоим — никаких нежных чувств. Всем, к сожалению, было ясно, что сына я отцу не заменю. Меня особенно раздражало, что о смерти мальчика никто ни слова не проронил, особенно о ее причине. Теперь-то понимаю: это молчание изуродовало мое детство.
Со временем я вышла замуж и сама забеременела. И своего будущего отпрыска я представляла таким же, как тот, чья фотокарточка стояла на отцовском столике: ангелочек со светлыми кудряшками и мечтательными голубыми глазками. А ведь судьба этого херувимчика-мечтателя была предопределена: Мальте мог бы и дальше мечтать сколько угодно, но отец готовил наследника для своего предприятия — магазина по продаже кухонных гарнитуров. Когда же вместо преемника на свет появилась дочь, он продал свой магазин еще до моего крещения и остаток своих дней прожил инвалидом. И даже мысли не допустил, что дочка тоже могла бы продолжить фамильное дело. А мой покойный братец, кажется, избежал отцовского гнева и семейного скандала: судя по его ангельскому личику, он мог обладать каким угодно талантом, кроме коммерческого.
К этим печальным воспоминаниям прибавились другие: отцы моих подруг были страшно заняты, и времени на семью у них оставалось крайне мало, мой же родитель, напротив, поражал моих одноклассниц тем, что постоянно сидел дома, но при этом все окружающее ему было абсолютно безразлично. Большинство моих подружек даже не видели его никогда, но всегда помнили: в нашем доме запрещено громко включать музыку, топать по лестнице, никаких танцев, не дай бог расхохотаться — одним словом, никакого шума, тишина и покой.
Мне иногда приходилось читать отцу вслух, потому что помимо всех его болячек он еще жаловался на «усталые глаза». А что папочка желает послушать? Ответ неизменно был один и тот же: ему все равно. И я читала ему девчоночьи книжки, что-то о животных, какие-то приключения саламандры или даже учебники. Не знаю, слушал ли он меня когда-нибудь или ему просто хотелось всеми силами привязать меня к своей постели. Думаю, впрочем, что, в сущности, ему не было дела ни до книг, ни до меня.
А я все приставала к матери с вопросом: что же это за человек такой был, за которого она вышла замуж? Что-о-о-о?! Ее изумлению не было предела. Я пятнадцать лет живу с отцом под одной крышей и до сих пор не поняла, какой у меня замечательный, все понимающий, душевный папочка?! При этом мамуля не упоминала, что ее муж сидит на транквилизаторах и оттого так отстранен от банальной реальности. А реальной банальностью была я.
Изредка все же мне нравилось проводить с ним время: по пятницам после обеда мы иногда играли. Отец сидел в кровати, я — у него в ногах, а мать была в парикмахерской. Приделанный к кровати поднос служил столом. Игры наши были незатейливы и назывались что-то вроде «цапцарап», «живой-неживой», а когда я подросла, появилась еще игра — «город, речка, лес». Я при этом грызла соленые палочки и шоколад с орехами, отец пил пиво. Мать возвращалась и ругала нас за испачканное белье. Но отец все равно ел в кровати, проливал кофе, сыпал пепел с сигарет, ронял на простыню жирную ветчину и кусочки колбасы, сорил ореховой скорлупой и корочками сыра. Белье тут же меняли, стлали свежее, но запах еды и болезни притягивал мух, и они летели в нашем доме не на кухню или в туалет, а собирались вокруг отцовской постели, источавшей нездоровый дух. Моего родителя так же нельзя представить без мухобойки, как Нептуна — без трезубца. Каждый день я приходила к нему с одним и тем же вопросом: как он себя чувствует? Ответ был всегда один: устал он от жизни, устал. Так, в пять лет я уже выучила употребление родительного падежа, больше ничего толкового отец мне не преподал.
Сейчас я набралась бы смелости и съездила к отцовской первой жене, поговорили бы, выслушали друг друга. Но она вскоре отправилась вслед за своим неверным мужем. Встречи же с моей сводной сестрой Эллен, которой посчастливилось застать нашего папочку в добром здравии, я очень боялась. Я бы не выдержала, если б она начала мне петь о своем счастливом безоблачном детстве, о добреньком папочке, который мастерил ей кукольные домики и танцевал с ней на выпускном балу… Эллен была уже взрослой, когда наш папа ушел от ее матери к моей, вернее, к моему новорожденному брату. Вряд ли для сестры развод родителей был такой уж драмой. У нее все-таки долгое время был отец, который носил синие костюмы. А мне пришлось любоваться его полосатой пижамой или халатами — бордовым или оливковым. Он ходил с Эллен в кино, на церковные праздники, возил на море и приглашал ее на танец. Я же сидела как прикованная у него на кровати, а после его смерти еще и спала там же.
Утверждают, что первая любовь каждой барышни — ее отец. Ну тогда считайте, что моя жизнь — полная безнадега. Отец меня в жизни не любил, а я его — и того меньше. Я вздохнула с облегчением, когда он помер, не подозревая, что он и после смерти может испортить мне существование.
Мать ведет себя так, что я перестала отправлять к ней на каникулы кого-нибудь из своих детей. В доме полно места, моя комната стоит пустая, можно спать там. Но я же знаю мамулю: обязательно заставит моих отпрысков спать в своей комнате на «больной» койке. Нет, все, хватит. Без особых отговорок: никаких бабуле внуков. Хватит ей и медведей плюшевых…
Я вообще считаю, что эта треклятая «больная» кровать виновата в моих ночных кошмарах. Любой человек в сновидениях живет параллельной жизнью, но обычно и там мрак сменяется светом. Подружка моя Сильвия сообщает постоянно: она, мол, видит такие радости, что потом три дня не ходит, а летает. Дети мои получают во сне золотые медали, грезят о том, что всю жизнь дружат с бесстрашным индейцем Виннету,[4] или уплетают двухметрового медвежонка из мармелада. Никогда ничего подобного мне не снилось. Какие-то гадости, отчаяние, то несчастная любовь, то кто-то меня ловит, а то вдруг накатит во сне страх смерти. Говорят, от нечисти, вроде вампиров, помогают распятие и чеснок. Не знаю, мне не помогают. В последнее время я придумала себе новую терапию: вглядываюсь в какую-нибудь картину, погружаюсь в нее, чтобы успокоиться и провести, если повезет, ночь вообще без снов. У меня даже есть два толстых альбома с репродукциями полотен эпохи барокко.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |