"Моя Индия" - читать интересную книгу автора (Корбетт Джим)
ЖИЗНЬ В МОКАМЕХ-ГХАТЕ
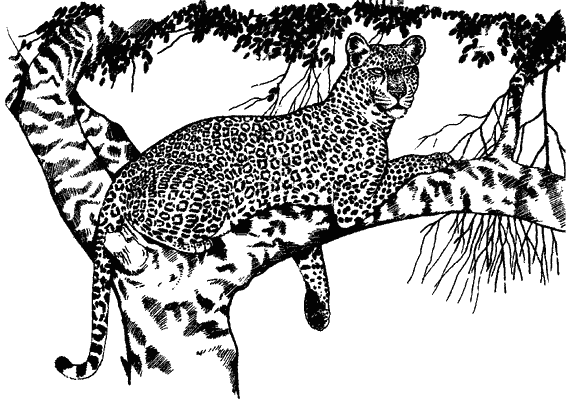 |
Мы в Мокамех-Гхате не только трудились и спали. С самого начала работа требовала напряжения всех наших сил. Так было и в дальнейшем, но со временем наши руки огрубели, мышцы спины окрепли и мы привыкли к такому образу жизни.
Поскольку мы старались облегчить условия работы людей, зависевших от нас, мы трудились дружно, грузы шли бесперебойно, и у нас еще оставалось немного времени для развлечений. Ликвидировав большой завал грузов в Мокамех-Гхате и наладив нормальное движение, мы завоевали всеобщее уважение, что порождало в нас законную гордость и стремление сохранить его. Поэтому, если кто-либо из-за своих личных дел не выходил на работу, товарищи охотно выполняли его норму.
Когда у меня высвободилось немного времени и завелось несколько рупий в кармане, я организовал школу для сыновей моих рабочих и низкооплачиваемого персонала железной дороги. Эта идея зародилась в голове у Рам Сарана, который был страстным поборником просвещения, вероятно, потому, что в прошлом сам был лишен возможности учиться. Мы сняли хижину, пригласили учителя, и школа, известная впоследствии под названием школы Рам Сарана, открылась, приняв 20 мальчиков. Первое препятствие, на которое мы натолкнулись, состояло в кастовых предрассудках, но наш учитель в скором времени сумел обойти их, убрав стены хижины. Дело в том, что мальчики из высшей и низшей каст не могут сидеть в одном помещении, но им не возбраняется находиться под общим навесом. Благодаря стараниям Рам Сарана и его неослабевающему интересу школа с самого начала пользовалась огромным успехом. После того как были выстроены подходящие здания, приглашено семь новых учителей и численность учеников возросла до 200 человек, правительство взяло на себя финансирование школы. Она была возведена в ранг средней школы, а Рам Сарану, к радости всех его друзей, был присвоен титул рай саиба.
Том Келли, коллега Рам Сарана, — начальник станции на ширококолейной железной дороге — был страстным спортсменом, и мы с ним организовали спортивный клуб. Мы расчистили участок земли, разметили поле для игры в футбол и травяной хоккей, поставили столбы для ворот, купили футбольный мяч, хоккейные клюшки, и каждый начал тренировать свою футбольную и хоккейную команды. Тренировки по футболу проходили сравнительно легко, чего нельзя сказать о хоккее. У нас не было достаточно средств, чтобы купить настоящие хоккейные клюшки, и мы приобрели так называемые клюшки «Хальса».[59] Их изготовляли в Пенджабе из терновника или особой породы низкорослого дуба, сгибая корень дерева под соответствующим углом. Вначале очень многие получали травмы, поскольку девяносто восемь процентов членов команды играли босиком, клюшки были тяжелы и не отполированы, а шайба была деревянной. Когда наши команды освоили основные правила обеих игр, т. е. узнали, в каком направлении следует гнать мяч, мы начали устраивать матчи между командами двух дорог. Эти игры доставляли одинаковое удовольствие и зрителям и игрокам. Келли был толстяком, хотя и не признавал этого, и всегда стоял в воротах своей или нашей объединенной команды, когда мы играли с командами других станций. Я же был худым и легким и играл центрального нападающего. Я очень смущался, когда, случайно наткнувшись на чью-либо ногу или хоккейную клюшку, оказывался на земле, потому что все игроки, за исключением Келли, бросив игру, подбегали ко мне, поднимали меня и помогали отряхивать одежду. Однажды, когда я был объектом такого внимания, игрок из другой команды провел мяч через все поле и забил бы гол, если бы зрители не отобрали мяч и не задержали его самого.
Вскоре после того как мы основали спортивный клуб, Бенгальская Северо-Западная железная дорога построила для клуба дом и соорудила теннисный корт для четырех европейцев из числа администрации железной дороги. Келли избрали почетным членом клуба, и он оказался весьма полезен, поскольку хорошо играл на бильярде и в теннис. В теннис мы могли играть не более двух-трех раз в месяц. Но по окончании дневной работы мы часто встречались за бильярдом и провели много приятных вечеров.
Товарные склады и подъездные пути в Мокамех-Гхате протянулись более чем на полторы мили, и администрация железной дороги, желая избавить Келли от излишней ходьбы, предоставила ему дрезину и четырех человек для ее обслуживания. Дрезина доставляла нам много радости. В зимние месяцы, когда прилетали горные гуси, в период полнолуния мы ездили на ней по главной магистрали за девять миль. Там были небольшие водоемы, некоторые из них имели всего лишь несколько ярдов в поперечнике, а другие занимали площадь в акр или более. Вокруг были посевы чечевицы, что обеспечивало прекрасное укрытие. Мы выезжали с таким расчетом, чтобы прибыть к водоему к заходу солнца. Мы занимали позиции — Келли у одного водоема, а я у другого. Вскоре появлялись гуси. Десятки тысяч гусей днем находились на островах Ганга, а вечером прилетали поклевать водорослей или же созревающую пшеницу на полях за водоемами. Перелетев железнодорожную линию, расположенную на полпути между Гангом и нашей позицией, гуси начинали снижаться и пролетали на расстоянии ружейного выстрела. Стрельба при лунном свете требует известной практики, поскольку расстояние до птиц, пролетающих над головой, кажется большим, чем оно есть на самом деле. Поэтому стреляют со слишком большим упреждением. После выстрела птицы взмывают вверх и, еще до того как возобновят полет по прямой, оказываются вне досягаемости для выстрела из второго ствола.
Эти зимние вечера, когда полная луна поднимается над пальмами, окаймляющими реку, и в холодном ясном воздухе слышны крики диких гусей и свист воздуха, рассекаемого крыльями сотен птиц, относятся к числу самых счастливых воспоминаний, связанных с моим многолетним пребыванием в Мокамех-Гхате.
Работа никогда не казалась мне скучной, время шло быстро, поскольку, кроме перевозки через Ганг и перегрузки в Мокамех-Гхате миллиона тонн грузов, я должен был обеспечивать бесперебойное движение паромов, ежегодно переправляющих с одного берега реки на другой несколько сотен тысяч пассажиров. Переправа через реку, разливающуюся после сильных дождей в Гималаях на четыре-пять миль, всегда доставляла мне удовольствие. Я получал возможность дать отдых ногам, спокойно покурить и, что самое важное, предаться своему любимому занятию — изучению людей. Переправа связывала две большие железнодорожные системы, уходящие на север и на юг. Среди семисот пассажиров, находившихся на борту парома при каждой переправе, были люди из всех частей Индии и из других стран.
Однажды утром я стоял на верхней палубе и, облокотившись на перила, смотрел, как пассажиры третьего класса занимают свои места на нижней палубе. Со мной был молодой человек, прибывший недавно из Англии для работы на железной дороге и направленный ко мне для изучения опыта организации работ в Мокамех-Гхате. Он провел у меня две недели и теперь возвращался в Самариа-Гхат, откуда должен был уехать в далекий Горакхпур. Рядом со мной на скамейке, скрестив ноги по-портновски, сидел индиец и тоже смотрел на нижнюю палубу. Мой юный спутник Кроствейт с большим энтузиазмом относился ко всему, связанному со страной, куда он прибыл работать. В то время как мы наблюдали за говорливой толпой, размещавшейся на открытой палубе, он заметил, что ему бы очень хотелось узнать, кто эти люди и почему они едут из одной части Индии в другую. Люди набились, как сельди в бочке, но я сказал, что попробую удовлетворить его любопытство. Я предложил начать обозрение палубы справа и знакомиться только с теми, кто расположился у бортов. Ближайшие к нам три человека являлись, по моим предположениям, браминами. В бережно охраняемом большом медном сосуде, запечатанном мокрой глиной, была вода из Ганга. Вода у правого берега Ганга считается более священной, чем у левого, и эти три брамина, слуги известного махараджи, наполнив сосуд у правого берега, везли его за восемьдесят миль по реке и железной дороге для махараджи, который всюду, даже в дороге, употреблял воду только из Ганга. «Рядом с браминами, — сказал я, — сидит мусульманин, трепальщик хлопка по профессии. Он переезжает со станции на станцию, занимаясь расчесыванием сбившейся ваты в старых матрасах с помощью похожего на арфу инструмента, который лежит рядом с ним на палубе. Он расчесывает вату до тех пор, пока она не становится похожей на волокна шелка-сырца. Рядом с ним находятся двое тибетских лам, возвращающихся из паломничества к буддистской святыне в Гайя. Им жарко даже в это зимнее утро, о чем вы можете судить по капелькам пота, выступившего у них на лбу. Рядом с ламами расположилась группа из четырех мужчин. Они совершили паломничество в Бенарес и теперь возвращаются к себе домой в предгорья Непала. Каждый из них везет по два стеклянных кувшина, привязанных к короткой бамбуковой палке. В них вода, набранная в Ганге у Бенареса. Они будут буквально по каплям продавать ее для религиозных церемоний в своей и соседних деревнях».
Так мы перебрали всех пассажиров и остановились на последнем, сидевшем у левого борта. Я сказал Кроствейту, что этот человек мой старый друг, отец одного из моих рабочих, который переправляется на левый берег реки, чтобы вспахать свое поле.
Кроствейт с величайшим вниманием выслушал мой рассказ о пассажирах на нижней палубе. Затем он спросил, что за человек сидит на скамье рядом с нами. «Это мусульманин, — сказал я, — он торгует кожами и едет из Гайя в Музаффарпур». Когда я кончил говорить, человек на скамейке выпрямил ноги, опустил их вниз и засмеялся. Затем, повернувшись ко мне, он сказал на прекрасном английском языке: «Я получил большое удовольствие, слушая, как вы описываете вашему другу людей на нижней палубе, а также меня». Под загаром не видно было, как я покраснел; ведь я думал, что он не знает английского языка. «Я полагаю, что в отношении меня ваша характеристика была почти целиком правильна. Я действительно мусульманин и еду из Гайя в Музаффарпур, хотя не могу понять, каким образом вам это стало известно, поскольку я приобрел свой билет в Гайя и никому не показывал его. Но в одном вы ошиблись: я торгую не кожами, а табаком».
Иногда для важных лиц формировались специальные поезда, которые переправлялись через реку специальным паромом. Моя обязанность состояла в том, чтобы вовремя подать такой паром. Как-то днем я встречал специальный поезд, которым следовали премьер-министр Непала, двадцать придворных дам, секретарь и большая свита. Они направлялись из столицы Непала Катманду в Калькутту. Когда поезд остановился, с подножки спрыгнул гигантского роста блондин в национальной непальской одежде, подошел к вагону, в котором ехал премьер-министр, раскрыл большой зонтик и стал спиной к выходу. Дверь за его спиной открылась, и появился премьер-министр с палкой, увенчанной золотым набалдашником. С легкостью, выработанной практикой, он удобно расположился на вытянутой руке этого человека, после чего они двинулись в сторону пристани. На протяжении трехсот ярдов блондин нес свой груз по сыпучему песку столь же легко, как другой нес бы целлулоидовую куклу. Когда я сказал секретарю, с которым был знаком, что никогда еще не видел такого силача, он сообщил мне, что премьер-министр всегда использует этого белокурого гиганта, если отсутствуют другие транспортные средства. Мне было сказано, что этот человек — непалец, однако я предполагал, что он выходец из Северной Европы, который в силу причин, известных ему одному или его хозяевам, поступил на службу в независимом государстве, граничащем с Индией.
В то время как премьер-министр направлялся на пароход, четыре служителя вынесли прямоугольный кусок черного шелка длиной примерно в двенадцать футов и шириной в восемь и расстелили его на песке около вагона, все окна которого были закрыты. По углам шелкового прямоугольника имелись петли. В них вставили крючки, прикрепленные к четырем серебряным прутьям длиной в восемь футов. Прутья поставили вертикально, и прямоугольный кусок материи превратился в нечто вроде ящика без дна. Затем одну сторону сооружения подняли до уровня дверей закрытого вагона и из него в шелковый ящик вышли двадцать придворных дам премьер-министра. Слуги несли прутья с внешней стороны шелкового ящика. Снизу виднелись лишь лакированные туфельки дам.
Процессия направилась к пароходу. У трапа край шелкового ящика приподняли и дамы, которым было по шестнадцать — восемнадцать лет, легко взбежали на верхнюю палубу, где я беседовал с премьер-министром. Когда я спросил, не нужно ли мне уйти, так как пришли дамы, мне ответили, что в этом нет необходимости, поскольку шелковый ящик предназначался лишь для того, чтобы скрыть придворных дам от взоров простых людей. Я не в состоянии подробно описать костюмы этих дам. Могу лишь сказать, что они были одеты в плотно облегающие лифы веселой расцветки и широчайшие шаровары, на изготовление которых уходит до сорока ярдов лучшего шелка. Как редкие великолепные бабочки, они порхали от одного борта парохода к другому, стремясь увидеть как можно больше.
В Мокамех-Гхате премьер-министра и его дам точно таким же образом доставили с парохода на ожидавший их специальный поезд. Когда все они вместе с горой багажа были погружены, поезд тронулся в направлении Калькутты. Через десять дней на обратном пути в Катманду я провожал их в Самариа-Гхат.
Несколько дней спустя, когда я писал отчет, который необходимо было отправить этой же ночью, в контору вошел мой знакомый, секретарь премьер-министра Непала. В грязной, измятой одежде, в которой он, вероятно, проспал не одну ночь, этот человек совершенно не походил на элегантного, хорошо одетого чиновника из свиты премьер-министра, каким я его видел в последний раз. Усевшись на предложенный мной стул, он без всякого предисловия сказал, что попал в большую беду. Ниже я привожу любопытную историю, рассказанную им.
«В последний день нашего пребывания в Калькутте премьер-министр привез своих дам в магазин самой крупной ювелирной фирмы города „Гамильтон и K°“. Здесь они выбрали драгоценности, за которые уплатили серебряными рупиями, ибо, как вы знаете, мы всегда берем с собой из Непала достаточное количество наличных денег для оплаты всех расходов и покупок. Выбор драгоценностей, пересчет денег, упаковка драгоценностей в саквояж, принесенный мною в магазин для этой цели, и опечатывание саквояжа ювелиром — все это заняло больше времени, чем мы предполагали. В результате нам все пришлось делать в спешке. Мы отправились в гостиницу, собрали свои вещи, а затем поехали на вокзал, где нас ожидал специальный поезд.
В Катманду мы возвратились поздно вечером. На следующее утро премьер-министр послал за мной и велел принести саквояж с драгоценностями. Все комнаты во дворце были обшарены, опросили всех, кто ездил в Калькутту, но никаких следов саквояжа обнаружить не удалось. Никто даже не видел его. Я помнил, что вынес его из автомобиля, доставившего меня из магазина в отель, но после этого не мог вспомнить, чтобы видел саквояж на протяжении всей поездки. Я несу личную ответственность за саквояж и его содержимое, и если он не будет найден, я потеряю не только работу, поскольку по законам нашей страны я совершил тяжкое преступление.
В Непале есть отшельник, которого все считают ясновидящим. Живет он в пещере у подножия большой горы. По совету друзей я отправился к нему. Отшельник, старик, одетый в лохмотья, молча выслушал меня и сказал, чтобы я пришел на следующее утро. На следующее утро я снова пришел к нему. Он поведал мне о том, что ночью ему было видение: саквояж с нетронутыми печатями лежал в углу комнаты, заваленной различными ящиками и мешками. Комната находится неподалеку от большой реки, имеет только одну дверь, открывающуюся на восток. Это все, что мог сказать мне отшельник, — заключил секретарь прерывающимся от волнения голосом. — Я получил разрешение уехать из Непала на неделю и прибыл сюда в надежде на вашу помощь, поскольку, может быть, Ганг и является той рекой, которая привиделась отшельнику».
В Гималаях никто не сомневается в способности ясновидящих оказывать помощь при розысках потерянных вещей. Секретарь, разумеется, тоже уверовал в предсказание отшельника и всеми силами старался найти саквояж до того, как другие обнаружат его и стащат драгоценности на сумму в 150 тысяч рупий.
В Мокамех-Гхате было много помещений, где хранились разнообразные грузы, но ни одно из них не отвечало описанию, данному отшельником. Мне, однако, была известна такая комната — контора по отправке посылок на железнодорожном узле в двух милях от Мокамех-Гхата. Взяв у Келли дрезину, я отправил туда секретаря в сопровождении Рам Сарана. Заведующий конторой клерк отрицал, что ему что-нибудь известно о саквояже, однако не возражал против осмотра всех вещей, находившихся там. Когда это было сделано, обнаружился саквояж с нетронутыми печатями.
Как же все-таки саквояж попал в контору и клерк не знал об этом? На сцену выступил начальник станции, и в результате произведенного им расследования выяснилось, что саквояж в контору положил уборщик вагонов, самый низкооплачиваемый служащий железной дороги. Ему приказали прибрать в вагонах поезда, в котором премьер-министр приехал из Калькутты в Мокамех-Гхат. В одном из вагонов под сиденьем он и обнаружил саквояж. Закончив свое дело, он принес саквояж на платформу, расположенную на расстоянии четверти мили. Поскольку там никого не оказалось, он положил саквояж в углу конторы. Этот человек очень сожалел о содеянном и просил извинить его, если он сделал что-либо неправильно.
Холостяки и их слуги, как правило, со временем обретают более или менее устойчивые привычки, и в этом отношении я и мои слуги не составляли исключения. Я обычно возвращался домой в восемь часов вечера. Поджидавший меня на веранде слуга при моем приближении кричал водоносу, чтобы тот приготовил ванну, поскольку я и летом и зимой принимал горячую ванну. Три комнаты в моем доме выходили на веранду: столовая, гостиная и спальня, возле которой находилась небольшая ванная комната. В ней имелись две двери и маленькое окошко. Одна дверь вела на веранду, а другая в спальню. Окно было прорублено почти под потолком. В ванной комнате стояла деревянная ванна овальной формы, на дне которой лежала деревянная решетка. Кроме того, имелись два глиняных кувшина для холодной воды.
После того как водонос наполнял ванну, мой слуга закрывал дверь из ванной комнаты на веранду и, проходя через спальню, брал оставленные мною ботинки, чтобы почистить их на кухне. Там он оставался до тех пор, пока я не велел подавать обед.
Однажды вечером, когда слуга удалился на кухню, я пошел в ванную, захватив с собой маленькую ручную лампу, которую я потом поставил на низкий выступ, проходящий вдоль стены. Затем я запер дверь на задвижку, поскольку она плохо прикрывалась и, подобно большинству дверей в Индии, болталась на слабо укрепленных петлях. В этот день я почти все время провел на угольной платформе и потому не жалел мыла. Когда пена, делавшая честь производителю мыла, покрыла мою голову и лицо, я открыл глаза, чтобы положить мыло в мыльницу, и с ужасом увидел, что над краем ванны в нескольких дюймах от моих ног возвышается голова змеи. Мои движения, по-видимому, раздразнили змею — большую кобру. Ее капюшон надулся, и длинный раздвоенный язык то высовывался, то исчезал в страшной пасти. Я должен был продолжать двигать руками, осторожно убрать ноги, медленно приподняться и отступить к двери, находившейся за моей спиной, не сводя при этом глаз с змеи. Я же по глупости ухватился за края ванны, быстро выскочил из нее и отодвинулся назад к низкому выступу. Поскользнувшись на цементном полу, я, пытаясь восстановить равновесие, погасил лампу. Комната погрузилась в непроглядную тьму.
Итак, я оказался запертым в маленькой темной комнате с одной из самых ядовитых змей Индии. Сделав шаг влево или назад, я очутился бы у одной из дверей, но, не зная, где лежит змея, я боялся двигаться, опасаясь наступить на нее голой ногой. Обе двери к тому же были заперты внизу на задвижки. Если бы я даже не наступил на змею и начал бы ощупью искать задвижку, я наткнулся бы на нее, так как, пытаясь выбраться из комнаты, она скорее всего находилась в этом месте.
Помещение для слуг находилось в пятидесяти ярдах от дома со стороны столовой, поэтому кричать было бесполезно. Моя единственная надежда на спасение заключалась в том, что слуге надоест ждать меня с обедом или что меня навестит кто-нибудь из друзей. Всем сердцем я желал, чтобы это произошло раньше, чем змея укусит меня. Каждая капля воды, стекавшая по моим ногам, превращалась в моем воображении в длинный раздвоенный язык кобры, которым она облизывала мое обнаженное тело прежде, чем вонзить свои зубы. Меня отнюдь не успокаивало то, что она, так же как и я, оказалась в западне, поскольку за несколько дней до этого аналогичный случай произошел с одним из моих рабочих. Он вошел в дом днем, чтобы спрятать свою получку. Открывая шкатулку, он услышал свист и, повернувшись, увидел, что к нему приближается кобра. Попятившись к стене, находившейся у него за спиной, этот несчастный пытался отбиться от кобры руками и получил двенадцать укусов в руки и ноги. Соседи, услышав крики, прибежали на помощь, но он умер через несколько минут.
Я не могу сказать, сколько времени я находился в комнате с коброй. Впоследствии слуга сказал, что прошло всего полчаса. Я не слышал звука более приятного, чем позвякивание посуды, которую слуга ставил на стол. Я подозвал его к двери ванной, рассказал о случившемся и приказал принести фонарь и лестницу. После вторичного ожидания, показавшегося мне бесконечным, я услышал шум голосов, а затем царапанье лестницы о внешнюю стену дома. Фонарь был поднят к окну, находившемуся в десяти футах от земли, но он не осветил комнаты. Поэтому я велел человеку, державшему фонарь, разбить оконное стекло и просунуть фонарь вовнутрь. Отверстие было слишком маленьким, и фонарь приходилось просовывать боком. Он трижды гас, и его зажигали вновь. Наконец он оказался в комнате. Чувствуя, что кобра находится у меня за спиной, я повернул голову и увидел, что она лежит в двух футах от меня у порога двери, ведущей в спальню. Двигаясь очень медленно, я нагнулся, взял тяжелую деревянную решетку, высоко поднял ее и бросил на кобру, которая уже ползла ко мне. К счастью, я прицелился очень точно: удар пришелся по шее в шести дюймах от головы. Пока змея кусала деревянную решетку и била хвостом, я быстро шагнул к двери, ведущей на веранду, и в мгновение ока оказался среди людей с палками и фонарями в руках. Слух о том, что я веду смертельный бой с большой змеей в запертой комнате, успел, оказывается, дойти до служащих железной дороги.
Пригвожденная моим ударом змея была вскоре извлечена, и, только когда ушел последний человек, я осознал, что стою голый и мои глаза полны мыла.
Мне не удалось установить, каким образом змея попала в ванную комнату. Она могла проникнуть через одну из дверей или упасть с тростниковой крыши, изрешеченной ласточкиными гнездами и крысиными норами. Так или иначе, мы оба — слуга, готовивший ванну, и я — должны быть весьма признательны судьбе, ибо в тот вечер мы чуть было не переселились в «Леса счастливой охоты».
В Мокамех-Гхате мы не соблюдали ни индусских, ни мусульманских праздников, поскольку работа должна была продолжаться безостановочно. Имелся, однако, один день в году, которого все мы ожидали с нетерпением, предвкушая величайшее удовольствие: это было Рождество. В соответствии с установившейся традицией в этот день я оставался дома до десяти часов утра, когда появлялся Рам Саран, одетый во все самое лучшее. На голове у него красовался огромный тюрбан из розового шелка, который он берег специально для этого случая. Затем мы оба отправлялись в контору. У нас не было материи для изготовления флагов. Однако у нас имелось множество красных и зеленых сигнальных флажков. Рам Саран с целой толпой добровольных помощников с раннего утра украшал контору и соседние постройки этими флажками и гирляндами из ноготков и жасмина, отчего все принимало веселый и праздничный вид. Около конторских дверей устанавливались стол и стул. На столе стоял металлический горшок с букетом моих лучших роз, крепко-накрепко связанных бечевкой. Перед столом выстраивался персонал железной дороги, мои десятники и рабочие. Все были в чистой одежде. Какими бы грязными мы ни ходили в течение всего года, на Рождество мы должны были быть чистыми.
После того как я усаживался на стул и Рам Саран вешал мне на шею гирлянду из цветов жасмина, торжество начиналось. Рам Саран произносил длинную речь, а затем я обращался к присутствующим с краткой речью. Детям раздавали сладости, и когда, ко всеобщему удовольствию, эта шумная и беспорядочная часть торжества заканчивалась, начиналось самое важное — выдача денежных премий Рам Сарану, служащим железной дороги и рабочим. Расценки, по которым оплачивались работы, производимые по взятому мною подряду, были крайне низкими. Несмотря на это, при дружной всеобщей поддержке мне удавалось получать прибыль, восемьдесят процентов которой распределялось на Рождество. Как ни мала была выдаваемая сумма (в хорошие годы она достигала размера месячной заработной платы служащего или рабочего), ее очень ценили. Выдача этих премий создавала обстановку благожелательности и добровольного сотрудничества. Именно такая обстановка позволяла мне перегружать миллионы тонн грузов ежегодно на протяжении двадцати одного года, без единого неприятного инцидента и не прерывая работы ни на один день.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |