"Обет" - читать интересную книгу автора (Гофман Эрнст Теодор Амадей)
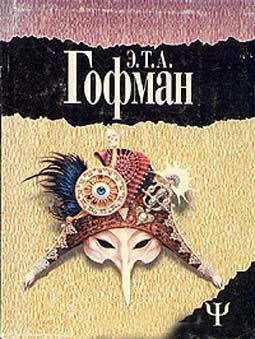 |
Эрнст Теодор Амадей Гофман. ОБЕТ
В день Святого Михаила, как раз тогда, когда кармелиты колокольным звоном оповещали о начале вечерней службы, по улочкам маленького польского пограничного городка Л. с грохотом промчался приметный дорожный экипаж, запряженный четырьмя почтовыми лошадьми, и остановился у дома старого немецкого бургомистра. Дети с любопытством повысовывали головы в окно, хозяйка же дома швырнула на стол свое шитье и раздраженно крикнула старику, появившемуся из другой комнаты: "Снова приезжие, посчитавшие наш тихий дом гостиницей, а все из-за этой эмблемы. Зачем ты решил снова позолотить каменного голубя над дверью?"
В ответ старик лишь многозначительно улыбнулся; в мгновение ока он сбросил домашний халат, надел благородное платье, которое, тщательно вычищенное, все еще висело на спинке стула после прихода из церкви, и, не успела безгранично удивленная жена его открыть рот, чтобы задать очередной вопрос, как он уже стоял, зажав свою бархатную шапочку под мышкой, так что серебристо-белая голова его как бы светилась в сумерках, перед дверцей кареты, которую как раз отворял слуга. Из экипажа вышла пожилая дама в серой дорожной накидке, за ней следовала высокая молодая особа, лицо которой было скрыто густой вуалью; опираясь на руку бургомистра, она неверным шагом, пошатываясь, проследовала в дом и, войдя в комнату, обессиленно упала в кресло, которое по знаку бургомистра тут же пододвинула хозяйка. Пожилая женщина тихим и очень печальным голосом промолвила, обращаясь к бургомистру: "Бедное дитя! Я должна провести подле нее еще несколько минут". С этими словами она стала снимать свою накидку, в чем ей помогла старшая дочь бургомистра, и взглядам присутствующих открылось монашеское одеяние, а также сверкающий на груди крест, выдававший в ней аббатису цистерцианского женского монастыря. Ее спутница тем временем проявляла признаки жизни лишь тихими, едва слышными вздохами и наконец попросила подать ей стакан воды. Бургомистрша же принесла восстанавливающие силы капли и эссенции и, расхваливая их чудодейственную силу, предложила молодой даме снять плотную, тяжелую вуаль, видимо, затрудняющую ей дыхание. Но та отвергла это предложение, откинув назад голову и подняв руку как бы защищающимся жестом; принесенную ей воду, в которую озабоченная хозяйка влила несколько капель живительного эликсира, Она выпила, даже не приподняв вуали.
— Вы же все подготовили, сударь? — обратилась аббатиса
— Именно так,— отвечал старик,— именно так! Я выполнил все, что только было в моих силах, и надеюсь, что наисветлейший князь будет мною доволен, как и наша любезная гостья.
— Так оставьте нас еще на несколько минут наедине,— попросила аббатиса.
Все покинули комнату. Было слышно, как аббатиса торопливо и проникновенно заговорила, обращаясь к молодой даме, и как та наконец тоже начала говорить трогательным, взволнованным голосом. Не прислушиваясь специально, хозяйка все же осталась стоять у двери, за которой разговаривали по-итальянски, и уже одно это делало внезапное появление незнакомок еще более таинственным и увеличивало ее беспокойство. Старик отправил жену и дочерей позаботиться о вине и прочем подкреплении, а сам вернулся в комнату. Молодая женщина, стоявшая перед аббатисой со склоненной головой и сложенными на груди руками, казалась более спокойной и сдержанной. Аббатиса не отказалась от угощения, предложенного хозяйкой, после чего промолвила: "Пора!" Ее подопечная опустилась на колени, аббатиса положила ей на голову руки и тихо прочитала молитвы. Закончив их, она заключила девушку в объятия, при этом слезы потекли по ее щекам, и крепко, порывисто прижала к своей груди. После этого она с достоинством благословила семью и поспешила, сопровождаемая стариком, к экипажу, где уже громко ржали запряженные свежие лошади. Покрикивая и дуя в рожок, ямщик погнал лошадей к городским воротам.
Когда бургомистрша поняла, что дама под вуалью остается здесь (с экипажа сняли и занесли в дом несколько тяжелых чемоданов), и, возможно, на продолжительное время, она не могла скрыть своей тревоги и озабоченности. Выйдя в переднюю, она преградила путь старому бургомистру, который как раз собирался войти в комнату, и тихо, испуганно прошептала:
— Ради Христа, что за гостью приводишь ты в дом, ничего мне не рассказав и даже не предупредив меня?
— Все, что знаю я, узнаешь и ты,— невозмутимо отвечал старик.
— Ах, ах! — продолжала женщина еще более испуганно,— но, вероятно, тебе известно далеко не все. Как только госпожа аббатиса отъехала, дама, верно, почувствовала себя очень стесненной под плотной вуалью. Она подняла длинный черный креп, и я увидела...
— Ну, и что же ты увидела, женщина? — спросил старик жену, которая, дрожа, оглядывалась по сторонам, словно боялась увидеть привидение.
— Черты лица разглядеть было невозможно, но вот только его цвет, эта серая, мертвенная бледность... Но вот что я заметила очень даже хорошо, так это то, что дама находится в положении. Это ясно как божий день. Через несколько недель она будет рожать.
— Я знаю об этом,— довольно мрачно отвечал старик,— и, чтоб ты не умерла от любопытства и беспокойства, я попытаюсь в двух словах объяснить тебе все. Знай, что князь 3., наш высокий покровитель, несколько недель назад написал мне, что аббатиса цистерцианского монастыря в О. привезет ко мне некую даму, которую я должен скрытно, тщательно оберегая от посторонних глаз, принять у себя в доме. Келестина — так ее следует называть — дождется у нас близких родов, а затем вместе с ребенком ее снова заберут. Добавлю к этому еще, что князь потребовал у меня самого внимательного и заботливого ухода за ней и приложил для начала весьма привлекательный кошель с изрядным количеством дукатов, который ты можешь найти в моем комоде, после чего тебя наверняка перестанут мучить всякие ненужные мысли.
— Стало быть, мы должны,— заключила бургомистрша,— поспособствовать сокрытию чьего-то благородного греха.
Старик не успел ничего ответить — в комнату зашла их дочь и сообщила, что незнакомка просит проводить ее в отведенные для нее покои. По распоряжению бургомистра обе комнатушки верхнего этажа были убраны и украшены с величайшей тщательностью, и старика немало задело, когда Келестина спросила, нет ли у него какой-либо другой комнаты, окно которой выходило бы на внутренний двор. Нет, ответил он и добавил, лишь для очистки совести, что вообще-то имеется одно помещение, окно которого выходит в сад, но его едва ли можно назвать комнатой, а скорее жалким чуланом, просторным лишь настолько, чтобы в нем поместилась кровать, стол и стул — как в монастырской келье. Келестина немедленно потребовала, чтобы ей показали этот чулан и, едва войдя в него, заявила, что именно эта комнатушка соответствует ее желаниям и потребностям, что она будет жить только в ней и сменит ее на более просторную лишь тогда, когда ее состояние потребует большего помещения и сиделку. Сравнение старого бургомистра оказалось пророческим: если ранее этот покой лишь напоминал монастырскую келью, то скоро он и в самом деле стал ею. Келестина прикрепила на стене образ Девы Марии, а на старом деревянном столе под ним поставила распятие. Постель состояла из мешка, набитого соломой, и шерстяного одеяла; кроме деревянной табуретки и еще одного маленького стола Келестина из обстановки не попросила больше ничего.
Хозяйка, примирившаяся с незнакомкой из-за глубокого страдания, которым веяло от всего ее существа, надеялась незатейливо развеселить и разговорить ее, однако незнакомка кротко попросила не нарушать ее одиночества, в котором она, обратив мысли лишь к Святой Деве и святым, находит утешение. Ежедневно, лишь только забрезжит утро, она отправлялась к кармелиткам, чтобы послушать утреннюю мессу; остаток же дня посвящала неустанным молитвам, ибо если возникала необходимость зайти к ней в комнату, ее заставали там либо молившейся, либо читающей божественные книги. Она отказывалась от всякой иной пищи, кроме овощей, от всяких напитков, кроме воды, и лишь настойчивые уговоры старого бургомистра, беспрерывно толковавшего, что ее состояние и существо, которое живет в ней, требуют лучшего питания, убедили ее наконец отведать мясного бульона и выпить немного вина. Эта суровое монастырское затворничество (в доме все считали его покаянием за совершенный грех) вызывало сочувствие и одновременно некое глубокое благоговение, причем все это совершенно независимо от благородства ее стана и неповторимой грации каждого ее движения. К этим чувствам примешивалось, однако, нечто зловещее, проистекающее от того обстоятельства, что она так и не сняла своей вуали, не открыла своего лица. Никто не приближался к ней, кроме старика и женской половины его семьи; последние лее никогда не выезжавшие из городка, никоим образом не могли узнать лицо, которого прежде никогда не видели, и таким образом приоткрыть завесу над тайной. К чему же тогда это закутывание? Буйная фантазия женщин сотворила вскоре душераздирающую легенду. Лицо незнакомки (такова была фабула) изуродовано страшной меткой — следами когтей дьявола; отсюда и непроницаемая вуаль. Старику стоило больших усилий прекратить эту болтовню и воспрепятствовать распространению дурацких слухов за пределы дома, ибо о пребывании у бургомистра загадочной незнакомки, конечно же, в городке было уже известно. Посещения ею монастыря кармелиток тоже не остались незамеченными, и вскоре ее уже называли черной женщиной бургомистра, тем самым придавая ей некую призрачность. Случилось так, что в один прекрасный день, когда дочь хозяев принесла в комнату незнакомки еду, дуновение ветра приподняло вуаль; незнакомка с быстротою молнии отвернулась, спасаясь от взгляда девушки. Та же спустилась вниз совершенно бледная, дрожа всем телом. Как и ее мать, она увидела мертвенно-бледный лик, на котором не было, впрочем, никаких следов уродства. В глубоких глазных впадинах сверкали необычные глаза. Старик отнес это к области фантазии, но, говоря честно, ему, как и всем, было не по себе и он, несмотря на всю свою набожность, желал бы, чтобы это вносящее смуту существо поскорее покинуло его дом.
Вскоре после этого старик ночью разбудил жену: уже несколько минут он слышал тихие стоны, вздохи и постукивание, доносившиеся, похоже, из комнаты Келестины. Понимая, что это может означать, бургомистрша поспешила наверх. Она обнаружила Келестину лежащей на кровати в полуобморочном состоянии, при этом одетой и по обыкновению закутанной в вуаль, и вскоре убедилась, что ее предположения верны. Все необходимые вещи были давно уже приготовлены, и через некоторое время родился здоровый, прелестный мальчуган. Это давно ожидаемое событие, тем не менее, ошеломило всех своей внезапностью и имело следствием то, что совершенно изменило те неприятные, тягостные отношения с незнакомкой, которые угнетали всю семью. Младенец стал как бы искупающим вину посредником, посланцем Келестины, который сблизил ее с окружающими. Ее состояние было таково, что суровые, аскетические испытания могли бы привести к печальному исходу, она была беспомощна и нуждалась в этих людях, которые ухаживали за ней с ласковой заботливостью и к которым она все больше привыкала. Хозяйка сама варила и подавала ей питательный суп, забыв в этих хлопотах все дурные мысли, что приходили ей в голову в отношении этой загадочной незнакомки. Она не думала больше о том, что ее почтенный дом, возможно, служит убежищем для позора. Старый бургомистр даже помолодел, он ликовал и пестил малыша, словно это был его родной внук; как и все остальные, старик привык, что Келестина так ни разу и не сняла вуаль, даже во время родов. Повивальная бабка должна была поклясться, что вуаль будет поднята, только если Келестина вдруг лишится чувств, в случае смертельной опасности, и никем другим, как только ею, повивальной бабкой. Было очевидно, что старуха видела-таки Келестину без вуали, но ничего по этому поводу не сказала, кроме как: "Бедная молодая дама, верно, вынуждена закрывать свое лицо!" Через несколько дней появился монах-кармелит, который окрестил ребенка. Его разговор с Келестиной, при котором никто больше не присутствовал, длился более двух часов. Было слышно, как он торопливо говорил и молился. Когда он ушел, Келестину обнаружили сидящей в кресле с накинутым на плечи пледом, на коленях у нее лежал младенец, на груди у которого был Agnus dei [1].
Проходили недели и месяцы, а Келестина с ребенком вопреки заверениям князя 3. все еще находилась в доме бургомистра. Если бы не эта злополучная вуаль, которая препятствовала решающему шагу к дружескому сближению, она давно бы уже стала почти членом этой семьи. Старик попытался было устранить досадную помеху, самым доброжелательным образом сказав об этом Келестине, но после того, как она глухим и торжественным голосом изрекла: "Лишь в случае смерти падет сия вуаль",— он больше об этом не заговаривал и снова ощутил желание, чтобы поскорее появился экипаж с аббатисой.
Наступила весна. Однажды семья бургомистра возвращалась домой с прогулки, неся в руках букеты цветов, самый красивый из которых предназначался Келестине. В тот момент, когда они собирались войти в дом, в конце улицы показался всадник; подъехав, он нетерпеливо спросил бургомистра.
Старик ответствовал, что он и есть бургомистр. Всадник соскочил с коня, привязал его к столбу и с возгласом "Она здесь, она здесь!" ворвался в дом и побежал по лестнице наверх. Был слышен звук выламываемой двери и испуганный крик Келестины. Старик, охваченный ужасом, поспешил вослед. Вновь прибывший, украшенный множеством орденов, и являвшийся, как это явствовало из его вида, офицером французской егерской гвардии, выхватил мальчика из колыбели и держал его левой рукой, а правой удерживал Келестину, пытавшуюся оттолкнуть похитителя. В этой схватке офицер сорвал охранительную вуаль — и взору старого бургомистра предстал застывший неестественно белый лик, обрамленный черными локонами; из глубоких глазных впадин извергались огненные лучи, а с неподвижных, полуоткрытых губ слетали леденящие душу, полные горя звуки. Старик уразумел, что на лице Келестины была белая, плотно прилегающая маска.
— Ужасная женщина! Ты хочешь, чтобы и меня настигло безумие? — вскричал офицер, с трудом вырвавшись и отталкивая Келестину, так что она упала на пол. Обхватив руками его колени, несчастная молила его голосом, в котором звучала невыносимая боль:
— Оставь мне ребенка! О, оставь мне ребенка!
— Даже во имя вечного блаженства я не сделаю этого! — гневно воскликнул офицер.
— Ради Христа, ради Святой Богородицы оставь мне ребенка!
И при этих горестных словах не дрогнул ни один мускул, не пошевелились губы на застывшем лице, и у старого бургомистра, у его жены, у всех, кто за ними последовал, кровь застыла в жилах от ужаса!
— Нет! — вскричал офицер с отчаяньем.— Нет, бесчеловечная, безжалостная женщина, ты можешь вырвать сердце из своей груди, но и тогда не погибнешь в гнусном безумстве твари, присосавшейся в утешение к кровоточащей ране!
Офицер еще крепче прижал ребенка к себе, так что тот громко заплакал; тут Келестина сорвалась в глухой вой:
— Кара! Кара небесная на тебя, убийца...
— Изыди, исчадие ада! — возопил офицер и, судорожным движением ноги отшвырнув Келестину, подскочил к двери. Бургомистр попытался задержать его, преградив дорогу, но он выхватил пистолет и крикнул, направив дуло на старика: "Пуля в голову тому, кто хочет отнять ребенка у его отца",— а затем ринулся вниз по лестнице, вскочил на лошадь, не выпуская ребенка из рук, и, пустив ее полным галопом, ускакал. Хозяйка, полная сердечного страха о том, что же будет с Келестиной и что вообще с ней делать, поборола свой ужас перед страшной маской и поспешила наверх, чтобы ей помочь. Каково же было ее удивление, когда она увидела Келестину неподвижно, словно статуя, с безвольно свисающими руками стоявшую посреди комнаты.
Она заговорила с ней — и не получила ответа. Не в состоянии выносить вида этой маски, добрая женщина подняла лежавшую на полу вуаль и надела ее на Келестину. Та даже не пошевельнулась. Несчастная погрузилась в состояние глубочайшего оцепенения, что наполнило хозяйку страхом и отчаянием, и она стала ревностно молить Бога, чтобы он избавил их наконец от этой странной женщины. Ее мольбы, похоже, были услышаны, ибо к дому тотчас же подкатил тот же самый экипаж, что привез Келестину. Вошла аббатиса, а за нею князь 3., высокий покровитель старого бургомистра. Когда он узнал, что произошло здесь, то сказал с непостижимым спокойствием: "Стало быть, мы прибыли слишком поздно и должны подчиниться воле Господней". Келестину свели вниз; застывшая и безмолвная, она дала посадить себя в карету, которая немедленно отъехала. Старый бургомистр и вся его семья чувствовали себя так, словно они только что очнулись от страшного, призрачного сна, который очень их напугал.
Вскоре после всех этих событий в цистерцианском женском монастыре в О. с необычайной торжественностью была похоронена некая сестра-монахиня, а вслед за этим пронесся смутный слух, что монахиня эта была графиней Херменгильдой С., о которой думали, что она вместе с сестрой своего отца княгиней 3. находится в Италии. В это же время в Варшаве появился граф Непомук С., отец Херменгильды, и передал, согласно судебному акту, все свои обширные поместья.за исключением маленького имения в Украине, во владение двум своим племянникам, сыновьям князя 3. Когда же его спросили о приданом его дочери, он поднял мрачный взгляд к небу и угрюмо изрек: "Она получила свое приданое!" Он не только подтвердил слух о смерти Херменгильды в монастыре, но и не утаивал того, что над нею довлел злой рок, который преждевременно свел ее в могилу, подобно многострадальной мученице. Некоторые из патриотов, не сломленных поражением отечества, рассчитывали снова вовлечь графа в тайное сообщество, имевшее целью восстановление польского государства, но вместо пламенного поборника свободы, неизменно и отвалено готового на любое, самое рискованное предприятие, они обнаружили немощного, сокрушенного глубокой болью старика, который, отрешившись от всего, собирался похоронить себя в глуши и одиночестве.
В то время когда после первого раздела Польши готовилось восстание, родовое поместье графа Непомука было местом сбора патриотов. Там во время торжественных застолий пылкие души возгорались жаждой борьбы за повергнутое отечество. Там, в кругу молодых героев, словно ангел, спустившийся с небес к святому причастию, появилась Херменгильда. Херменгильде не было еще и семнадцати лет, но она, как это свойственно женщинам ее нации, принимала участие во всех делах, даже в политических переговорах, и нередко высказывала, часто вопреки позиции всех остальных, мнение, которое свидетельствовало о ясном уме и необыкновенной проницательности и которое зачастую играло решающую роль. Это умение мгновенно ориентироваться, остро схватывать и очерчивать положение вещей, помимо нее отличало еще лишь графа Станислава Р., возвышенного и одаренного молодого человека двадцати лет. Херменгильда и Станислав нередко спорили о предметах, по поводу которых велись дискуссии и ломались копья, они проверяли, принимали и отметали те или иные предложения, выдвигали другие, и результаты этих их жарких споров наедине между девушкой и юношей часто были таковы, что с ними считались даже умудренные государственные мужи, заседавшие в совете. Что было более естественным, чем думать о соединении этих двух молодых людей, незаурядные таланты которых могли послужить во благо отечества. Таким образом, переплетение обоих родов, отличавшихся возвышенными стремлениями, имело важное политическое значение. Херменгильда приняла определенного ей супруга как предначертанность свыше во имя отечества, а посему наряду с торжественной помолвкой было решено провести в имении ее отца и собрания патриотов.
Известно, что надежды поляков не сбылись, что с падением Костюшко потерпело крах дело, которое слишком уж опиралось на завышенную самоуверенность и неправильное представление о рыцарской верности. Граф Станислав, которому его ранняя военная карьера, молодость и способности уготовили довольно высокую должность в армии, сражался с мужеством льва. С трудом избежав позорного плена, весь израненный, он возвратился домой. Лишь мысли о Хермеигильде удерживали его в жизни, в ее объятиях он надеялся найти утешение и воскресить надежду. Едва успел он оправиться от ран, как поспешил в имение графа Непомука, чтобы получить там еще одно ранение, самое болезненное. Херменгильда встретила его с почти издевательским презрением. "И это герой, который желал умереть за отечество?" — такими словами приветствовала она молодого графа; видно, в безумном ослеплении считала она своего жениха одним из тех паладинов сказочных рыцарских времен, меч которого способен был в одиночку уничтожить целую армию. Напрасны были объяснения, что никакая сила не могла противостоять бурному, всепоглощающему потоку, захлестнувшему отечество, напрасны были уверения в бесконечной любви — Херменгяльда, сердце которой могло пылать, по-видимому, лишь в диком водовороте событий мирового масштаба, осталась при своем решении отдать свою руку графу Станиславу только тогда, когда захватчики будут изгнаны из страны. Граф слишком поздно понял, что Херменгильда никогда его не любила, ибо условие, выдвинутое ею, не могло быть выполнено, по крайней мере в обозримом будущем. Поклявшись в вечной верности, он оставил свою возлюбленную и поступил на службу во французскую армию, которая привела его на войну в Италию.
Говорят, что польским женщинам присущ капризный нрав. Глубокие чувства, самовлюбленный эгоизм и стоическое самоотречение, леденящая холодность и горячие страсти — все то, что пестрой смесью собрано в ее характере, создает на поверхности причудливое, изменчивое движение, похожее на игру постоянно сменяющих друг друга вод текущего глубоко под землей ручья. Херменгильда равнодушно взирала на уезжающего жениха, но не прошло и нескольких дней, как ее охватила неописуемая тоска, которая может быть рождена лишь самой горячей любовью. Буря войны миновала, была объявлена амнистия, польских офицеров выпустили из плена. В имении графа Непомука один за другим появлялись братья Станислава по оружию. С глубокой болью вспоминали они те горькие дни и с огромным воодушевлением — мужество, которое проявляли многие из них, и более всех — Станислав. Он снова и снова вел в атаку отступившие батальоны; когда казалось, что исход сражения уже предрешен, ему удавалось пробивать вражеские ряды своей конницей. Но настал день, когда судьба отвернулась от него, — сраженный пулей и истекающий кровью, он со словами: "Отечество! Херменгильда!" — рухнул с коня. Каждое слово этих рассказов было подобно удару кинжала, пронзающего сердце Херменгильды. "Нет, я не знала, что полюбила его с того самого мгновения, когда увидела в первый раз! В каком дьявольском ослеплении решила я, что смогу жить без него, без того, кто и есть моя единственная жизнь! Я отправила его на смерть, он больше не вернется!" — так изливались бурные жалобы Херменгильды, теснившиеся у нее в груди. Мучимая бессонницей, изнуренная постоянной тревогой, она ночами металась по парку, и, словно ночной ветер был в состоянии донести ее слова далекому возлюбленному, она шептала: "Станислав! Станислав! Возвратись!.."
Уничтоженная стыдом и разочарованием, не хотела покидать свою комнату, пока Ксавер находится в доме, но все их старания оказались тщетными. Молодой граф был вне себя от того, что не мог более видеть Херменгилъду. Он написал ей, что несправедливо и жестоко казнить его за столь несчастливое для него сходство. Причем это затрагивает не только его самого, но и возлюбленного ее Станислава, ибо лишает Ксавера возможности лично вручить, как просил об этом Станислав, любовное послание, а также передать на словах то, что Станислав не успел написать н письме. Камеристка Хермеигильды, которую Ксавер расположил к себе и привлек на свою сторону, выбрала подходящий момент и вручила записку, и эта записка сделала то, что не удалось отцу и врачу. Херменгильда приняла решение встретиться с Ксавером. В глубоком молчании, с опущенными глазами, приняла она его в своих покоях. Ксавер неслышно приблизился и опустился на стул возле софы, на которой сидела Херменгильда; когда же он наклонился, то оказался как бы стоящим перед ней на коленях, и в этой позе проникновенно и трогательно умолял ее не винить его за эту ошибку, которая может огорчить его любимого кузена и друга. Ведь не его, Ксавера, нет — Станислава обнимала она в блаженстве встречи. Он передал ей обещанное письмо и начал рассказывать о Станиславе, о том, что он с истинно рыцарской верностью даже во время кровавой битвы думает о своей даме, как сердце его пылает любовью к отечеству, во имя свободы которого он готов отдать свою жизнь. Он говорил горячо и пылко, он увлек Херменгильду, которая, преодолев свою робость и настороженность, открыто смотрела на него своими прекрасными глазами, так что Ксавер, как новоявленный кавалер, сраженный взглядом Турандот и погибающий от сладкого блаженства, с трудом мог продолжить свою речь. Борясь со страстью, готовой вспыхнуть ярким пламенем, он углубился в подробные описания отдельных сражений. Он рассказывал о кавалерийских атаках, несущихся всадниках, захваченных батареях. Херменгильда нетерпеливо перебивала его, восклицая:
— О, не надо этих кровавых сцен из театра ада,— скажи, скажи мне только, что он меня любит, что Станислав меня любит!
И тогда Ксавер схватил ее руку и страстно прижал к своей груди.
— Послушай сама своего Станислава! — так воскликнул он, и из его уст полились заверения в самой пылкой и страстной любви. Он опустился к ногам Херменгильды, она обвила его обеими руками, но когда он, порывисто поднявшись, хотел прижать ее к своей груди, то почувствовал, что его ожесточенно отталкивают. Херменгильда смотрела на него странным застывшим взглядом.
— Тщеславная кукла, хоть я и отогрела тебя на своей груди, но все же ты не Станислав и никогда не сможешь стать им! — глухо произнесла она и медленно вышла из комнаты. Ксавер слишком поздно осознал свое безрассудство. Он понял, что до безумия влюбился в Херменгильду, в невесту своего родственника и друга, и что каждый шаг, который сделает он во имя этой злосчастной страсти, неизбежно приведет к разрыву дружбы, которой он так дорожил. Ксавер принял героическое решение — немедленно уехать, не видя более Херменгильду, и тут же приказал паковать вещи и запрягать экипаж.
Граф Непомук был в высшей степени удивлен, когда Ксавер пришел попрощаться с ним, и пытался уговорить его остаться, но молодой граф твердо стоял на том, что веские причины вынуждают его уехать. Надев саблю, с полевой шапкой в руке, он стоял посредине комнате, а слуга с плащом ждал его в прихожей. Внизу нетерпеливо ржали лошади. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошла Херменгильда; с присущей ей пленительной грацией подошла она к графу и молвила с милой улыбкой:
— Вы намерены уехать, дорогой Ксавер? А я надеялась еще так много услышать о моем возлюбленном Станиславе! Ваши рассказы меня чудесным образом успокаивают.
Зардевшись, Ксавер опустил глаза. Все сели, граф Непомук все время повторял, что
Ксавер убедил себя в том, что не только возможно, но и разумно, а также приятно остаться здесь, нужно лишь пересилить себя, не обнаружить своей страсти, которая может не только дурно повлиять на душевное здоровье Хермеигильды, но и, в любом случае, оказаться гибельной для него самого. Как бы там ни было, но Ксавер решил предпочесть радужное настоящее неизвестному будущему.
Когда на следующий день Ксавер снова увидел Херменгильду, ему действительно удалось обуздать свою страсть, избегая даже малости того, от чего его горячая кровь могла бы вскипеть. Держа себя в строжайших рамках, в высшей степени церемонно и даже холодно, он придал их разговору оттенок той галантности, которая преподносит дамам под видом сладкого меда смертельный яд. Двадцатилетний юноша, совершенно неопытный в любовных делах, Ксавер, ведомый недобрым инстинктом, повел себя как искусный соблазнитель. Говорил он только о Станиславе, о его любви к своей ненаглядной невесте, но при этом сумел ненавязчиво нарисовать и свой собственный портрет, так что Херменгильда уже и сама не знала, как отделить, друг от друга эти два образа — отсутствующего Станислава и присутствующего Ксавера. Общество Ксавера вскоре стало для нее потребностью, их почти всегда видели вместе, причем часто это выглядело так, будто они ведут доверительный любовный разговор. Привычка все более одерживала верх над отчужденностью Херменгильды, и в той же степени Ксавер переступал границы холодной чопорности, которой до сих пор мудро придерживался. Рука об руку гуляли они по парку, и она беззаботно оставляла свою руку в его руке, когда он, сидя рядом с ней, рассказывал о счастливчике Станиславе.
Граф Непомук, если дело не касалось политики либо интересов отечества, не был способен заглянуть в глубь происходящего,— он довольствовался тем, что лежит на поверхности, для всего остального душа его была закрыта; проносящиеся мимо картины жизни он воспринимал так, как отражает действительность зеркало: только в данный конкретный момент, после чего они бесследно исчезали, не смущая его разум. Не зная, что творится в душе Херменгильды, он радовался тому, что она наконец сменила куколку, которая в безумных видениях должна была представлять ее возлюбленного, на живого молодого человека, и в глубине души надеялся, что Ксавер, который в роли зятя был ему столь же мил, как и Станислав, вскоре окончательно займет место последнего. Ксавер думал точно так
Разгневанный и огорченный поведением Херменгильды, отец не стал более о ней заботиться, и так получилось, что прошло несколько дней, а она все еще не выходила из своей комнаты и никто ее не тревожил, кроме камеристки.
Погруженный в мысли о героических деяниях того человека, на которого поляки в то время молились и который был их кумиром, сидел Непомук однажды в своих покоях, когда вдруг дверь отворилась и вошла Херменгильда в траурном одеянии, с длинной вуалью, какую носят вдовы. Медленной торжественной поступью приблизилась она к графу, опустилась на колени и заговорила дрожащим голосом:
— О, отец мой! Граф Станислав, мой любимый супруг уже на том свете. Он погиб как герой в кровавой битве. Перед тобой его несчастная вдова!
И это тоже явилось для бедного графа доказательством чрезвычайного подавленного и нездорового душевного состояния Херменгильды, ибо как раз накануне было получено известие о том, что Станислав находится в добром здравии. Непомук мягко поднял Херменгильду.
— Успокойся, дорогая моя дочь,— говорил он ей.— Станислав жив-здоров, и скоро ты сможешь заключить его в свои объятия.
Тут у Херменгильды вырвался смертельно тяжелый вздох, и она словно подкошенная упала на мягкую софу рядом с графом. Придя через несколько секунд в себя, она заговорила на удивление спокойно и сдержанно:
— Позволь рассказать тебе, мой дорогой отец, как все произошло, и тогда ты поверишь, что видишь перед собой вдову графа Станислава Р. Знай же, что шесть дней назад вечером я находилась в павильоне в южной части нашего парка. Все мои мысли были обращены к любимому, стоило мне только закрыть глаза, как я погружалась в необычное состояние, которое не могу назвать иначе, чем сон наяву. Внезапно вокруг меня засвистело и загрохотало, совсем рядом раздались выстрелы. Я вскочила — и была немало удивлена, обнаружив, что нахожусь в полевом бараке. Передо мной на коленях стоял он, мой Станислав. Я обняла его, я прижимала его к своей груди. "Хвала Богу! — воскликнул он.— Ты жива, ты моя!" Он сказал мне, что сразу же после венчания со мной случился глубокий обморок, и я вспомнила, что патер Киприанус, которого я увидела в этот момент выходящим из полевого барака, действительно только что обвенчал нас в расположенной неподалеку часовне под грохот орудий и неистовый шум близкой битвы. Золотое обручальное кольцо сверкало на моем пальце. Блаженство, с которым
Херменгильда снова упала без чувств. Непомук поспешил за укрепляющими средствами, но они не понадобились: Херменгильда быстро пришла в себя.
— Воля небес исполнена,— глухо и торжественно промолвила она.— Не причитать мне полагается, но до самой смерти хранить верность своему супругу; ни один земной союз не разлучит нас. Скорбеть о нем, молиться за него — вот отныне мой удел, и ничто не может помешать мне в этом.
Граф Непомук решил, что кипящее внутри Херменгильды безумие обратилось зримым видением, а так как тихая, отрешенная скорбь не предполагает необузданных поступков, то такое состояние дочери, которому положит конец приезд Станислава, вполне его устраивало. Если он иногда высказывался о снах и видениях, Херменгильда лишь слабо улыбалась, прижимая к своим устам золотое кольцо, которое носила на руке, и окропляла его обильными слезами. Граф Непомук с удивлением отметил, что кольцо это действительно ему незнакомо, никогда раньше он не видел его у дочери. Но поскольку существовала тысяча возможностей, каким образом оно могло к ней попасть, он так ни разу и не сделал попытки это выяснить. Более важным было для него известие, что граф Станислав попал во вражеский плен.
Херменгильда начала тем временем как-то хворать, часто жаловалась на странные ощущения, которые, хоть и не могла назвать болезнью, все же странным образом потрясали все ее тело. В это время приехал князь 3. со своей супругой, которой Херменгильда очень обрадовалась. Княгиня заменила ей мать после безвременной кончины последней, и девушка была ей по-детски предана. Херменгильда открыла этой благородной даме свое сердце и с горечью пожаловалась, что все считают ее безумной фантазеркой, и это при том, что у нее есть убедительнейшие доказательства правдивости всех обстоятельств касательно ее венчания со Станиславом. Княгиня, которая была осведомлена о тяжелом душевном расстройстве Херменгильды, не стала возражать ей; она попыталась успокоить ее, заметив, что на все воля Божья и что время все расставит на свои места. Она внимательно выслушала Херменгильду, когда та заговорила о своих физических ощущениях и описала странные приступы, которые с нею случаются. Княгиня заботливо ухаживала за ней, и вскоре ее состояние, казалось, значительно улучшилось. Мертвенно-бледные щеки и губы порозовели, из глаз исчез мрачный, жутковатый огонь, взгляд стал мягким и спокойным, исхудавшие формы все более округлялись, короче, Херменгильда снова расцвела в полную силу своей красоты и юности. Между тем озабоченность княгини все усиливалась. "Как у тебя дела, как чувствуешь ты себя, дитя мое? Что ты чувствуешь?" — вопрошала она с мучительным беспокойством на лице, как только у Херменгильды вырывался вздох или если она хоть слегка бледнела. Граф Непомук, князь и княгиня нередко совещались, что же будет дальше, что делать с ее навязчивой идеей о том, что она вдова Станислава.
— Сожалею, но мне кажется,— говорил князь,— что безумие Херменгильды так и останется неизлечимым, ибо телом она совершенно здорова, и это физическое здоровье парадоксальным образом подпитывает расшатанное состояние ее души. Да,— продолжал он, ибо княгиня с болезненной миной потупила взгляд,— да, она совершенно здорова, и неуместно, и ущербно для нее ухаживать за ней как за больной, лелеять ее и бояться за нее.
Княгиня, которую задели эти слова, с жалостью посмотрела на графа Непомука и промолвила быстро и решительно:
— Да! Херменгильда не больна, и если бы это не находилось за гранью возможного, то я была бы совершенно уверена, что она беременна.
С этими словами она встала и вышла из комнаты. Словно пораженные молнией, мужчины смотрели друг на друга. Князь, первым обретя дар речи, предположил, что его жену, по-видимому, тоже иногда посещают более чем странные фантазии. Непомук, однако, был очень серьезен:
— Княгиня права в том, что Херменгильда решительно не могла совершить такой грех,— сказал он,— но признаюсь тебе: когда давеча я взглянул иа стан своей дочери, у меня самого промелькнула в голове нелепая мысль: "А ведь молодая вдова в положении!". И поэтому слова княгини наполнили мое сердце отчаянной тревогой.
— Тогда,— отвечал князь,— лишь врач или опытная женщина может либо опровергнуть, вероятно слишком поспешный, диагноз моей супруги, либо подтвердить наш позор.
Несколько дней они мучительно раздумывали, что же предпринять. Обоим формы Херменгильды казались подозрительными, и они призывали княгиню принять какое-то решение. Она отвергла мысль о вмешательстве врача, который может оказаться слишком болтливым, и высказала мнение, что другая помощь понадобится, возможно, месяцев через пять.
— Какая помощь? — в ужасе вскричал граф Непомук.
— Да,— продолжала княгиня, возвысив голос,— у меня уже не осталось никаких сомнений. И либо Херменгильда — самая искусная притворщица из всех когда-либо рождавшихся, либо здесь имеет место необъяснимая тайна; короче, она безусловно беременна!
Оцепенев от ужаса, граф Непомук потерял дар речи; с трудом придя в себя, он стал умолять княгиню во что бы то ни стало выяснить у Херменгильды, кто этот несчастный, навлекший страшный позор на их дом.
— Херменгильда даже не подозревает, что я знаю о ее положении,— сказала княгиня.— Когда я сообщу ей об этом, то, потрясенная, она либо сбросит с себя лицемерную маску, либо чудесным образом докажет мне свою невинность, хотя, признаюсь, я совершенно не могу себе представить, как все это могло произойти.
В тот же вечер княгиня осталась в комнате наедине с Херменгильдой, которая полнела день ото дня. Собравшись с духом, она взяла несчастное дитя за обе руки, посмотрела ей в глаза и сказала решительно:
— Дорогая, ты беременна!
И тут, к ее изумлению, Херменгильда воскликнула голосом, в котором звучал восторг:
— О, мама, мама, я знаю это! Я давно чувствовала, что хоть мой супруг и пал от руки подлого врага, я все же должна быть счастливой. Да! Тот миг наивысшего земного счастья продолжает жить во мне, любимый супруг вновь будет со мной, и вот он — драгоценный залог сладострастного союза.
Княгине показалось, что все вокруг нее начало вращаться. Поведение Херменгильды, выражение ее лица, ее неподдельный восторг не оставляли места мысли о неискренности, о лицемерном обмане, и все лее лишь полный безумец мог принять такое объяснение. Не справившись с собой, княгиня в сердцах оттолкнула девушку от себя и крикнула:
— Несчастная! Ты думаешь, что этими сказками сможешь водить меня за нос? Ты навлекла на всех нас несмываемый позор! Признайся во всем и покайся — только это сможет нас примирить.
Обливаясь слезами, Херменгильда упала перед княгиней на колени и взмолилась:
— Мама, и ты считаешь меня фантазеркой, и ты не веришь, что церковь соединила меня со Станиславом, что я его жена! Но посмотри же сюда, посмотри на это кольцо! Да о чем я говорю, ты же видишь мое состояние! Разве этого недостаточно, чтобы убедить тебя в том, что я не фантазирую?
Пораженная княгиня поняла, что у Херменгильды и мысли не было о грехе, что она даже не поняла ее намека. Потрясенная, совершенно сбитая с толку, княгиня уже и впрямь не знала, что сказать несчастной и как приподнять завесу над этой тайной. Лишь через несколько дней она поведала своему супругу и графу Непомуку, что Херменгильда твердо убеждена в том, что беременна от своего супруга, и что ничего больше добиться от нее не удалось. Оба мужчины, кипя от гнева, посчитали Херменгильду лицемеркой, а разъяренный граф Непомук поклялся применить к дочери самые суровые меры, если она не откажется от безумной мысли подсунуть ему эту безвкусную и лживую выдумку. Княгиня возразила на это, что любая строгость обернется здесь бесполезной жестокостью. Сама же она уверена, что Херменгильда вполне искренна, что она всей душой верит в то, что говорит.
— В мире,— продолжала княгиня,— есть немало таинственного, осмыслить которое мы не в состоянии. Что если взаимодействие мыслей может иметь и физическое воздействие, что если духовная встреча Станислава и Херменгильды невероятным и чудесным образом привела к таким последствиям?
Несмотря на свои расстроенные чувства, князь и граф Нспомук не смогли удержаться от смеха, когда княгиня изложила эту мысль, которую они объявили самой утонченной и возвышенной из всего, что только можно придумать. Княгиня, покраснев всем лицом, сказала, что неотесанным мужчинам разум тоже отказывает, что то положение, в которое попало ее несчастное дитя, в невинности которого она безоговорочно уверена, отвратительно и ужасно и что поездка, которую она хочет вместе с ней совершить, будет единственным средством избавить Херменгильду от осуждения и насмешек окружения. Граф Непомук нашел, что это самый лучший выход, ибо дочь не собиралась делать из своего положения никакого секрета, а это неизбежно повлекло бы за собой изгнание из их круга.
На том все и успокоились. Непомук уже думал не о самой пугающей тайне, а лишь о том, как скрыть ее от света, насмешки которого были единственным, чего он страшился и чего хотел избежать. Он справедливо рассудил, что не остается ничего иного, как предоставить времени разгадать эту необыкновенную загадку. Они уже собирались разойтись после своего совещания, как вдруг неожиданный приезд графа Ксавера Р. принес с собой и новое смущение, и новую озабоченность. Разгоряченный быстрой скачкой, весь покрытый пылью, с поспешностью влекомого неистовой страстью, он ворвался в комнату и, не здороваясь, пренебрегая всеми правилами приличия, громким крикнул:
— Он мертв, граф Станислав! Не в плен попал, он зарублен врагами, и вот доказательства!
С этими словами он сунул в руки графа Непомука несколько писем, которые вытащил из кармана. Тот в полной растерянности принялся их читать. Княгиня заглянула в листки и, едва разобрав несколько строк, возвела к небу глаза, прижала к груди сложенные руки и с болью воскликнула: "Херменгильда! Бедное дитя! Какая непостижимая тайна!" Она подсчитала, что день гибели Станислава совпадал с тем, когда об этом возвестила Херменгильда, и что все произошло именно так, как увидела она в тот таинственный миг.
— Он мертв,— повторил Ксавер горячо и торопливо,— Херменгильда свободна, теперь мне, который любит ее больше жизни, ничего более не препятствует, и я прошу ее руки!
Граф Непомук потерял дар речи и не смог ничего ответить; слово взял князь и попытался объяснить, что некоторые обстоятельства делают принятие этого предложения совершенно невозможным, что сейчас он не может даже видеть Херменгильду, и посему лучше всего ему незамедлительно удалиться туда, откуда он прибыл. Ксавер возразил, что расстроенное состояние духа Херменгильды, о котором, вероятно, идет речь, ему хорошо известно и что это обстоятельство не может быть препятствием, ибо именно его соединение с Херменгильдой как раз и положит этому состоянию конец. Княгиня убеждала его, что Херменгильда поклялась в вечной верности Станиславу и потому отвергнет любой другой союз, а кроме того, ее вообще нет в замке. Тогда Ксавер громко рассмеялся и сказал, что ему нужно получить лишь согласие ее отца, что же касается сердца Херменгильды, то пусть это предоставят ему. Выведенный из себя бестактной настойчивостью молодого человека, граф Непомук заявил, что он совершенно напрасно надеется на его согласие, по крайней мере сейчас, и что он должен немедленно покинуть замок. Ксавер с упрямым выражением посмотрел на него, открыл дверь в прихожую и крикнул, чтобы Войцех принес его саквояж, распряг лошадей и отвел их на конюшню. Затем он вернулся в комнату, уселся в кресло, стоявшее у окна, и заявил спокойно и серьезно, что, пока он не увидит Херменгильду и не поговорит с нею, его смогут выставить из замка только с помощью грубой силы. Непомук сказал, что в таком случае он может оставаться здесь как угодно долго, ибо в этом случае замок покинет он сам. После этого он вместе с князем и его супругой вышли из комнаты, чтобы как можно скорее увезти Херменгильду. Но волею случая именно в это время она вопреки своим привычкам вышла в парк, и Ксавер, глядя в окно, у которого сидел, заметил ее. Он помчался в парк и настиг Херменгильду как раз в тот момент, когда она заходила в злополучный южный павильон. Ее положение было уже очевидно почти для любого глаза. "О, силы небесные!" — воскликнул Ксавер и припал к ногам Херменгильды, призывая всех святых в свидетели своей горячей любви и умоляя сделать его самым счастливым из всех супругов. Херменгильда, беспредельно испуганная и растерянная, отвечала, что, верно, злой рок прислал его, чтобы нарушить ее покой. Никогда, никогда не станет она, связанная до самой смерти союзом с возлюбленным своим Станиславом, супругой другого. Когда же Ксавер не прекратил своих просьб и увещеваний, когда он наконец в порыве безумной страсти раскрыл ей, что она заблуждается, что именно ему
— Жалкий, самовлюбленный дурак, как не можешь ты уничтожить сладкого залога моего союза со Станиславом, так не сможешь ты склонить меня к преступной измене, прочь с глаз моих!
И тогда протянул Ксавер к ней сжатый кулак, громко, издевательски засмеялся и закричал:
— Безумная, не ты ли сама нарушила эту дурацкую клятву? Ребенок, которого ты носишь под сердцем,— это
Херменгильда посмотрела на него с адским огнем в глазах, затем с трудом молвила: "Чудовище!" — и упала наземь.
Словно преследуемый злыми фуриями, помчался Ксавер в замок; наткнувшись на княгиню, он порывисто схватил ее за руку и затащил в комнату.
— Она отвергла меня! Меня, отца ее ребенка!
— Во имя всех святых! Ты? Ксавер! Боже мой! Скажи же, как это могло случиться? — так кричала охваченная ужасом княгиня.
— Будь я проклят,— уже более сдержанно продолжал Ксавер,— пусть проклянет меня, кто угодно, но в жилах его течет такая же кровь, как и у меня, и в тот миг он совершил бы такой же грех. Я увидел Херменгильду в павильоне. Она лежала на скамейке и, казалось, была погружена в глубокий сон. Но как только я вошел, она поднялась, подошла ко мне, взяла за руку и торжественной поступью пошла по павильону. Затем она встала на колени, я сделал то же самое, она молилась, и я понял, что мысленно она видит стоящего перед нами священника. Херменгильда сняла с пальца кольцо и протянула его священнику, я взял его и надел ей свое кольцо, после чего она в порыве любви упала в мои объятия... Когда, потрясенный случившимся и растерянный, я убежал, она находилась в глубоком беспамятстве.
— Вы ужасный человек! Какое святотатство! — воскликнула княгиня вне себя. Вошли граф Непомук и князь. Узнав о признании Ксавера, мужчины отнеслись к его поступку с пониманием и далее нашли его извинительным, чем глубоко ранили нежную душу княгини.
— Нет! — сказала она.— Никогда Херменгильда не отдаст свою руку и сердце тому, кто подобно нечестивому исчадию ада ужасным кощунством отравил наивысший миг ее жизни.
— Она будет вынуждена сделать это, чтобы спасти свою честь,— надменно и холодно промолвил Ксавер,— я останусь здесь, и все уладится.
В этот момент раздался глухой шум: в замок принесли Херменгильду, которую садовник нашел бесчувственной в павильоне. Ее положили на софу; нe успела княгиня этому помешать, как подошел Ксавер и взял ее за руку. Она вскочила с ужасным, нечеловеческим криком, с криком, напоминающим ной дикого зверя, тело ее билось в конвульсиях, а глаза горели жутким безумным огнем. Ксавер отшатнулся, словно пораженный смертоносной молнией, и едва слышно пролепетал: "Лошадей!" По знаку княгини его проводили вниз. "Вина! Вина!" — вскричал он, опрокинул в себя несколько стаканов, вскочил в седло и умчался прочь. Состояние Херменгильды, которое, казалось, вот-вот перейдет из тупого помешательства в дикое неистовство, заставило Непомука и князя изменить свое мнение: лишь теперь осознали они весь ужас рокового поступка Ксавера. Они хотели послать за врачом, но княгиня решительно воспротивилась, ибо здесь могло помочь, очевидно, лишь духовное утешение. Поэтому вместо врача в замке появился монах-кармелит Киприанус, духовник семьи. Ему удалось вывести Херменгильду из обморока, вызванного глубоким умопомрачением. Более того, вскоре она сумела совладать с собой и почти успокоилась. Она совершенно осмысленно разговаривала с княгиней, поведав ей, что после родов желает, искупая свой грех, провести жизнь в цистерцианском монастыре в О. Свои траурные платья она дополнила вуалью, которая надежно скрывала ее лицо и которую она никогда более не поднимала. Тем временем князь 3. написал письмо бургомистру Л., у которого Херменгильда должна была дождаться родов; отвезти ее туда он поручил аббатисе цистерцианского монастыря, родственнице семьи. Официальная версия была такова, что княгиня 3. и Херменгильда отправляются в Италию. В полночь карета, которая должна была доставить Херменгильду в монастырь, остановилась у ворот замка. Сломленные горем, Непомук, князь и княгиня ждали несчастное дитя, чтобы попрощаться. Наконец она вышла вместе с монахом в ярко освещенную свечами комнату. Киприанус торжественно произнес:
— Сестра Келестина совершила в миру тяжкий грех: дьявольское искушение совратило ее чистую душу, но взятый ею обет принесет ей утешение, покой и вечное блаженство. Никогда более мир не увидит ее лица, красота которого привлекла дьявола. Смотрите сюда! Так начинает и закончит Келестина свое покаяние!
С этими словами монах поднял вуаль, и острая боль пронзила всех присутствующих, когда они увидели мертвенную маску, за которой навсегда скрылось ангельски прекрасное лицо Херменгильды. Не в силах вымолвить ни слова, она попрощалась с отцом, который, вконец измученный невыносимой душевной болью, сам готов был распрощаться с жизнью. Обычно сдержанный князь тоже обливался слезами, и лишь княгине удалось огромным усилием воли скрыть ужас, который вызвал в ней этот страшный обет, и попрощаться с Херменгильдой без рыданий, с мягкой, щемящей грустью.
Как узнал граф Ксавер местопребывание Херменгильды, а также то обстоятельство, что родившийся ребенок должен был быть посвящен церкви, осталось загадкой. Похищение младенца окончилось трагически: когда Ксавер добрался до Р., где он собирался передать ребенка в руки доверенной женщины, тот был не в обмороке от холода, как он полагал, а мертв. После этого граф Ксавер бесследно исчез, и все полагали, что он покончил счеты с жизнью.
Спустя несколько лет молодой князь 3. во время своей поездки в Неаполь попал в окрестности Позилмппо и остановился у монастыря камальдуленцев, чтобы полюбоваться открывшимся ему замечательным видом. Он как раз собирался взойти на вершину скалы, которая показалась ему самой красивой точкой, когда заметил монаха, который сидел прямо перед ним на камне и, держа на коленях раскрытый молитвенник, смотрел вдаль. Его совсем еще молодое лицо было омрачено глубокой тоской. Князь все более внимательно присматривался к монаху, и у него возникло смутное воспоминание. Он подошел поближе — и ему сразу же бросилось в глаза, что молитвенник был на польском языке. После этого он обратился к монаху по-польски, тот вздрогнул, словно от удара, а увидев князя, поспешно отвернулся, скрывая свое лицо, и стремительно скрылся в густых зарослях. Рассказывая графу Непомуку об этом происшествии, князь Болеслан утверждал, что этот монах был не кем иным, как графом Ксавером.
(support [a t] reallib.org)