"Бородинское пробуждение" - читать интересную книгу автора (Сергиенко Константин Константинович)
5
К домам для душевнобольных Ростопчин питал особое расположение. Это я знал из прочитанного. Он нередко наезжал туда, разговаривал с больными, а при желании мог упечь туда и здорового.
К тюрьмам и ссылке Ростопчин относился пренебрежительно и даже называл это наказание безнравственным. При этом он мог устроить расправу без суда и следствия, как в случае с сыном купца Верещагина, или издать приказ, по которому распускавших неугодные слухи заключали в «долгаузы» – дома и палаты для безумных, как жарким летом двенадцатого года.
Если дело Верещагина современники обсуждали бурно, и никто не мог простить Ростопчину, что он на глазах у толпы приказал драгунам рубить ни в чем не повинного человека, то о распоряжении насчет «долгаузов» я встречал два-три невнятных упоминания.
Теперь мне самому предстояло увидеть один из таких «долгаузов», Девяткин приют, или Девятку, как его коротко называли.
Дрожки Федора стояли в конце Остоженки на постоялом дворе. Дело подвигалось к полуночи. Я пока не знал, как действовать, но после разговора с Ростопчиным чувствовал в себе силу. Кроме того, ночной визит офицера мог оказаться неожиданным.
Мы подъехали. Я сказал Федору, чтоб он дожидался, а сам поднял грохот в тяжелую, железом окованную дверь. Несколько окошек в приземистом здании еще светились.
– По приказу главнокомандующего! – кричал я. – Открывайте!
Высунулся испуганный солдат. Я протиснулся в дверь.
– Где старший? – спросил я. – Все заснули?
– Никак нет, – бормотал солдат. – Господа фельдфебель только изволили уложиться.
– Подними.
– Слушаюсь.
В тусклой каморке охраны горела всего одна свечка. Запыхавшись, застегивая пуговицы, вбежал сонный фельдфебель.
– Его сиятельство генерал-губернатор приказал провести инспекцию, – сказал я хмуро. – Москву очищаем. Что тут у вас, сколько больных?
– Больных так что нет! – отчеканил фельдфебель. – Третьего дня последних на барке в Нижний отправили!
– А чего здесь околачиваетесь?
– Так что приказ! Охраняем, проводим лечение-с!
– Какое лечение? Ты же сказал, что нет больных?
– Больных нет! Однако приболевшие!
– Черт возьми, говори мне толком! Завтра графу докладываю.
– Приказ, вашбродие! Не могу знать!
– Черт знает что. Веди меня, показывай. Сколько их… приболевших?
– Двое женского и пять мужского пола.
– И что ты с ними делаешь?
– Приказано поливать холодной водой. Однако вопят, не всегда удается.
– Ладно, показывай. Разгоню вашу богадельню, а вас в полк. Пора службы справлять, нечего на боку валяться.
– Так точно! Только невозможно!
– Что невозможно?
– Показать. Не имею права.
– Как? Разве не ты старший?
– Никак нет.
– А кто же?
– Господин Блохин.
– Что еще за Блохин? Звать сюда.
– Слушаюсь! Никифоров, кликни господина Блохина, они еще не почивают.
Никифоров убежал.
– Что же, однако, за Блохин? – спросил я лениво.
– Не могу знать! – гаркнул фельдфебель и вдруг прошептал доверительно: – Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок. Железной руки человек, не смотри, что хилый. Трещалу знали?..
– Ах, да откуда мне знать Блоху, Трещалу… – пробормотал я, как бы задумавшись.
Блохин, Блоха, Трещала… Ужасно знакомо… Откуда бы это? Блоха, Трещала… Вспомнил! Ростопчин и кулачные бои! Среди тогдашних бойцов были две знаменитости, фабричный Трещала, огромного роста детина, который кулаком выбивал изразцы из печи, и мещанин Блохин, по прозвищу Блоха, совсем не богатырского сложения, но обладавший каким-то страшным ударом.
Блохин и Трещала никогда не дрались между собой. Считалось все-таки, что Блохин Трещале не пара. Но однажды, играя на бильярде, они поссорились. Трещала легонько стукнул Блоху кием по голове, а тот мгновенным ударом в висок убил Трещалу наповал.
Блохина собирались судить, но спас его Ростопчин. Блохин был любимцем графа, даже учил его кулачным приемам. Что было с Блохиным дальше, неизвестно.
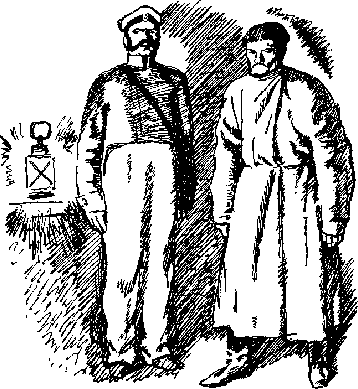 |
Он стоял передо мной в темно-синей поддевке и сапогах. Невысокого роста, но плотный, с быстрыми глазами. Стоял широко расставив ноги.
– Блохин?
– Он самый.
Он не сказал «так точно», не добавил «ваше благородие» и смотрел на меня скорей небрежно, чем уважительно.
– Меня генерал-губернатор послал провести инспекцию. Говорят, ключи у вас. Покажите мне пациентов.
– Какую инспекцию? – Глаза смотрели твердо. – Я не имею распоряжения допускать к больным.
– Распоряжение?..
Я лихорадочно соображал. Нет, этот орешек твердый, криком его не возьмешь. «Вернейший человек их сиятельства грахва. Можно сказать, дружок». Вдруг передо мной возникло лицо Ростопчина и память воспроизвела слова: «У меня есть на примете люди, но это так, первая линия, кулаки, а мне нужно умов… Когорта стремительных и неотразимых… Ваш девиз будет per aspera ad astra – через тернии к звездам!»
– Значит, нет распоряжения? – протянул я, все еще обдумывая. – А ну-ка, Блохин, per aspera ad astra, неси мне ключи!
Я сказал это в слабой надежде, что пылкий Ростопчин мог развернуть перед любимцем часть своих планов. Первая линия, «кулаки», ведь это о таких, как Блохин.
Результат оказался неожиданным. Блохин сразу подобрался, даже вытянулся. Он вынул из кармана ключи и сказал:
– Пожалуйте.
Он взял фонарь, и мы пошли по мрачному коридору.
– Семеро здесь у вас?
– Семеро.
– Лекаря остались?
– Нет, лекаря с больными в Нижний отправлены.
– А почему всем занимаются солдаты?
– Приют причислен к военному госпиталю.
– Что вы делаете с этими… – я не мог подобрать слова, – больными, заключенными?
– Купаем в холодной воде.
– Только и всего?
– Вода со льдом из подвалов. Так что ощутительно.
– Граф приказал гнать всех взашей, кроме опасных. Есть здесь опасные?
Блохин пожал плечами.
– Начнем с женщин, – сказал я.
Загремели ключи. Фонарь озарил довольно большую комнату с несколькими топчанами. На одном из них, закутавшись во что-то серое, испуганно привстала худенькая девушка. На другом кто-то лежал, не поднимаясь.
– Здесь кто? – спросил я.
– Настасья Горелова, служанка, доставлена из Воронцова. Разглашает государственную тайну. А та, старуха, даже имени не сказала. Кричала на площади, что Бонапарт сын Екатерины.
Я подошел к девушке:
– Жалобы есть?
Она, не отвечая, смотрела на меня.
– Не будет говорить, – сказал Блохин. – Как привезли, так молчит. Даже купаем, не кричит, как остальные.
Старуха на дальнем топчане не вставала.
– Что с ней? – спросил я.
– Спит, – сказал Блохин. – Она всегда спит.
– Неужели и ее в ледяной воде купаете?
– Иногда, – замявшись, сказал Блохин.
– А остальных?
– В день трижды.
– Отпирайте мужскую камеру, – сказал я. – А я здесь закончу.
– Извольте, – сказал Блохин. – Следующая дверь.
Он вышел.
– Настя, – сказал я. – Слушай внимательно. Сейчас тебя выпустят. У дверей тебя ждет Федор, твой брат.
Она вздрогнула.
– Отъезжайте в конец улицы, там меня ждите. Ты поняла?
Она кивнула головой. Живая слюда ее глаз вспыхнула дрожью. Я вышел.
В мужской камере по углам прятались темные фигуры.
– Жалобы есть? – громко спросил я.
Молчание.
– Два дня не кормят, – сказал кто-то неуверенно.
– Не кормите? – Я обернулся к Блохину.
– Крупа кончилась, да и хлеб плохо подвозят, – ответил тот.
– Еще жалобы есть?
Никто из них и не думал сказать, что вот он здоровый, а посажен в «долгауз». Впрочем, быть может, они говорили. Быть может, сам Ростопчин приезжал сюда и с улыбкой выслушивал жалобы. Глухая стена между правдой и неправдой.
– Христос не жаловался, когда распинали, и нам грех, – сказал голос из самого угла.
– Вот, – оживился Блохин. – Этот, пожалуй, опасный. А остальные так, на кого донос, кто сболтнул чего.
– Тогда гнать всех отсюда, – сказал я. – А с этим поговорю.
– Гулько, Никифоров! – крикнул Блохин. Прибежал фельдфебель.
– Всех гнать взашей.
Камера опустела. Как тени скользнули мимо меня люди с измученными, серыми лицами.
– Прощай, дедушка Архип, – тихо бросил кто-то.
– Свидимся еще, – сказал голос из угла.
Я подошел. Прямо на полу у стены сидел седобородый старик и прямо смотрел на меня.
– Опасные слова говорит, – сказал Блохин. – Будто Москву французы захватят и сгорит она дотла.
Я обратился к старику:
– Говорил?
– Сгорит Москва-матушка, сгорит, – торжественным голосом сказал тот.
– А ты сам-то московский?
– Бородинский я, – ответил старик. – Из сельца Бородина, что господ Давыдовых.
Я присвистнул:
– Из Бородина? А сюда чего пришел?
– Москву-матушку спасать. И семя принес цветка несгораемого. Где семя то посадить, там на версту кругом пожар не коснется. Так нет же, отняли все, душегубы!
Я повернулся к Блохину:
– Что за семена?
Он махнул рукой:
– Сумасшедший.
– Что за цветок такой, дедушка? – спросил я.
– Неопалимый, – ответил тот. – Горит он, да не сгорает. На святой земле бородинской растет.
– Отпустите его, – сказал я Блохину. – Безобидный старик. Сколько их бродит по русской земле.
– Слушаю, – сказал Блохин.
Мы прошли мимо женской камеры. Свет фонаря выхватил все так же лежащую на топчане фигуру. Блохин подошел.
– Бабка, вставай! Воля тебе выходит.
Она не ответила. Блохин толкнул ее, наклонился.
– Мертва. – Он перекрестился.
– Уморили старуху, – сказал я, – молодцы-воины.
Блохин только мрачно посмотрел на меня.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |