"Бородинское пробуждение" - читать интересную книгу автора (Сергиенко Константин Константинович)
2
До самой Москвы Фальковский молчал. Я тоже не разговаривал, а только смотрел по сторонам. Впервые я обратил внимание на солдата, который сидел на козлах. Он как-то особенно сутулился. Надвинутая на самые брови каска и большие черные усы придавали ему торжественно-мрачный вид.
– Поедешь на Пречистенку к дому Долгорукова, – сказал Фальковский.
Солдат не ответил.
– Ты слышал меня, Федор? – спросил Фальковский.
– Так точно, – глухо ответил тот, не повернув головы.
Мы снова проехали Каменный мост. Теперь я увидел Кремль на фоне густо-желтого закатного неба. Его стены и башни казались легкими, чуть ли не прозрачными с неожиданным то голубым, то розовым оттенком, а зелень холмов и подступившей к стене насыпи темно-изумрудной, как на раскрашенном лубке.
Иван Великий, вытянув лебединую шею, врезался в темнеющий небосвод одиноким перстом. Яркими золотыми точками горели орлы на башнях.
Справа проплыл дом Пашкова. За черной витой оградой неровным пульсом вздрагивал фонтан, и одинокий павлин с длинным волочащимся хвостом неподвижно стоял на взгорье пашковского сада, не то задумавшись, не то разглядывая панораму Кремля и Замоскворечья.
Волхонка была пуста. Мелькнул собор, косым рядом пошли деревянные дома. Мы проехали грязный ручей и круто взяли вверх по Пречистенке.
Внезапно я сказал:
– Остановите.
– Что? – спросил Фальковский.
Солдат натянул вожжи.
– Мне нужно повидать знакомого. Ведь я под условным арестом, не так ли? И могу еще пользоваться кое-какой свободой?
Мы стояли перед домом Листова. Крыша его виднелась за углом переулка.
– Хорошо, – сказал Фальковский.
Мы въехали во двор. Ворота распахнуты, никто не вышел навстречу. Я выпрыгнул из дрожек и пошел к дому.
Уж если Ростопчин знает про Листова, то скрывать нечего. Терять Листова из виду я не хотел. А кто знает, как развернутся события дальше, куда завезут меня дрожки Фальковского.
Я вошел на крыльцо. Вдруг кто-то вскрикнул за моей спиной. Всхрапнули кони, взвизгнули колеса. Я обернулся и успел увидеть выезжающие, точнее, выпрыгивающие из ворот дрожки и лежащего на их спинке навзничь, лицом ко мне, с раскинутыми руками Фальковского.
Черная треуголка осталась лежать на земле.
Я постоял, ожидая продолжения внезапного происшествия. Потом вышел за ворота, оглядел переулок. Никого. Странно. Что произошло? Я поднял треуголку и обошел дом. И здесь никого.
– Никодимыч! – крикнул я во дворе. – Никодимыч!
Где-то залаяла собака, другая ответила, и собачья перекличка огласила пречистенские дворы.
Что случилось с Фальковским? Почему так стремительно умчался экипаж? Уж не хватил ли его какой-нибудь удар? А этот солдат, Федор? Я даже не заметил, был ли он на козлах.
Я достал записку Лепихина и в сумеречном свете догорающего заката разобрал:
«Завтра не позже восьми утра у Красных ворот Зачатьевского монастыря, что на Остоженке».
Я задумался. Куда теперь? Ждать Листова? Куда запропастился Никодимыч? Листов, должно быть, ищет свою невесту. Я также не исключал, что его задерживает Ростопчин. Пожалуй, нужно побродить по Москве, а потом вернуться. Но в какую отправиться сторону?
Я пошел вверх по Пречистенке… Кропоткинская! Я тебя не узнавал, но внутренним чутьем понимал, что это ты, моя улица. Я знал, что ты сгорела, сгоришь этим яростным летом двенадцатого года, а потом отстроишься заново, и я полюблю твои разновысокие особняки, твои переулки и спокойные закаты над тобой.
Ни одного дома! Ни одного дома из тех, что будут стоять потом, но все-таки это ты, без сомнения. Быть может, у каждой улицы с рождения есть душа, а дома – только одежда, которую можно сменить?
В некоторых окнах уже выставлены свечки, но их слабый огонь еще не тревожит коричневатого сумрака. Вдали над подъездом какого-то особняка горят масляные фонари, там видно движение.
Я подошел. Длинный двухэтажный дом с арками и колоннами. Неярко горят высокие полукруглые окна.
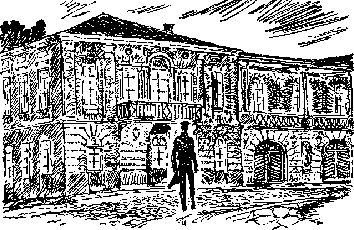 |
Внезапно я остановился. Не может быть! Дом возле Академии! Неужели? У Академии художеств, что на Кропоткинской! Вот галереи с обеих сторон, ажурные балконы. Вот ниши и арки, только сквозные. Потом их, видно, заделали, остались одни профили. Да, это он! Его стройная осанка, его многоколонный фасад. Так он сохранится?..
У этого дома, у Академии художеств, на той далекой во времени Кропоткинской мы часто встречались с Наташей. Она жила в двух шагах отсюда. В двух шагах, в полутора веках жила от меня Наташа…
Вот я перебегаю улицу. Она стоит, прислонившись к стене, с раскрытой книгой. Я бегу, перебегаю улицу, машина проскальзывает мимо. Из-под упавшей на глаза пряди она быстрым взглядом ловит меня, откинувшегося от машины…
Я подхожу. Она закрывает книгу. Видно, и не читала ее, а так, просто держала, чтобы не выглядеть праздной на этой бегущей полуденной улице.
– Опаздываешь? – говорит она. – Никогда не приходишь вовремя.
Она торопливо сует книгу в сумку, встряхивает головой, откидывая со лба веер выгоревших волос, и все ее загорелое лицо оживленно волнуется.
Мы беремся за руки и переходим улицу. Опять набегает машина. Наташа держит меня, не отпуская, хотя проскочить еще можно. Я стою недовольный. А она говорит с укором:
– Всегда ты бежишь под машины.
– Но я не бегу под машины!
– Ты так перебегал улицу, что у меня сердце упало.
– Вот чепуха! – Я сержусь.
Она все-таки держит меня, пока не проедет последняя, самая дальняя машина.
Мы наконец переходим, и вдруг на мгновение я ощущаю себя хрупким, быть может, дорогим сосудом, который вот так осторожно и тихо несет чья-то бережная рука. Странное, щемящее чувство…
Стою зачарованный воспоминанием. В ладони возрождается ощущение ее руки, маленькой, теплой, обладающей магнетической силой. Неужели все это было? Июльский полдень, горячий мягкий асфальт, машины, скользящие мимо с липким шорохом, ее рука в моей и мерный гул огромного города…
Теперь тишина. Я смотрел на скромные огни масляных фонарей и думал о некой связи, быть может, единстве двух моих судеб, в каждой из которых лицо девушки, и лицо этого дома, и множество других смутно знакомых лиц, и, наконец, этот город, эта земля и небо – все близкое и знакомое, хотя и не узнанное еще до конца…
У подъезда стояло несколько экипажей, двери распахнуты. Подкатила еще коляска, вышли два офицера. Один сказал довольно громко:
– У князя такой балкон вместо челюсти, что непонятно, зачем ему балконы на особняке.
Другой хохотнул, и они скрылись в подъезде.
Стало быть, это и есть дом Долгорукова по прозвищу «балкон»? Впрочем, я мог бы догадаться и раньше. Фальковский приказал ехать на Пречистенку, но только у одного дома на улице чувствовалось оживление. Значит, ужин здесь. И здесь поджидает меня Ростопчин.
Я не собирался прятаться. Эмалевый медальон и воспоминания влекли меня в дом на Пречистенке.
У дверей встретил лакей в темно-красной ливрее с золотым позументом.
– Пожалуйте, – сказал он глухим басом.
– Много народу? – спросил я, снимая фуражку.
– Какой там. – Он принял фуражку. – Тихий бал-с. Господ сорок от силы-с.
– А граф Ростопчин?
– Еще не прибыли, но ожидают-с.
Я отстегнул ташку и постоял перед огромным зеркалом. Снимают ли ментик? Судя по спокойствию лакея, который уже занял свой стульчик, нет. Я оглядел себя. Черный в красных шнурах доломан, алая подкладка ментика, серебряные эполеты. Лицо усталое, сапоги пыльные.
Я хотел попросить щетку, но швейцар уже застыл в полудреме. Вздрагивали седые баки.
Потоптавшись немного, я стал подниматься по лестнице, выложенной зеленым ковром. Освещение скудное. Всего по одной свече в деревянных тройниках, редко повешенных на стене. В нишах притаились статуи.
Я шел, придумывая, как представиться, и зная, что в домах «допожарной» Москвы гостей принимали без церемоний, даже незнакомых. Военного мундира для рекомендации было достаточно.
Но «прием» превзошел мои ожидания. На меня попросту не обращали внимания. Я прошел несколько едва освещенных комнат. На диванах курили длинные трубки, распевали песни. Пробежала горничная в зеленом переднике с большим фарфоровым чайником на подносе. Проковылял маленький старичок в белых чулках. Он вскинул голову и уничтожающе посмотрел на меня. Я поклонился. Быть может, хозяин? Тогда в полутьме я не разглядел его знаменитой челюсти.
Наконец я попал в залу. Здесь посветлей. Оранжевые шторы, портреты на мраморных стенах, скользкий мозаичный пол, в глубине сцена для музыкантов. Две люстры озаряли гроздьями свеч.
Горстками стояли несколько человек, все больше пожилые. В одном углу бело-розовым букетом собрались дамы. Там смеялись.
Я сделал несколько шагов, туда, сюда. На меня покосились, но разговор продолжался.
– Да-с! – говорил кто-то в темном сюртуке. – Только постное! Когда отечество горит, сладости в рот не лезут!
– Да бросьте вы, батюшка, – отмахнулся другой. – Горит, горит! Не в кухне же у вас подгорает, ешьте себе на здоровье.
– Бахметьев обед с семи до пяти блюд убавил.
– Лучше бы ополченцев нарядил.
– Если Москву оставлять, дом свой подожгу, знайте! – громче всех говорил «темный сюртук».
– Да откуда вы, батюшка, такой патриот взялись?
– Я не успокоюсь, пока не искупаюсь в крови французов! – распалялся «сюртук».
От бело-розового букета отделился офицер в белом кавалергардском мундире и быстро пошел ко мне.
– Да! – сказал он. – Вы здесь! Наверное, графа ждете?
Я узнал адъютанта Ростопчина. Только выглядел он сейчас веселым и юным, не то что в приемной. Он разглядывал меня с легким удивлением и как бы удовольствием.
– Да вы, оказывается, гусар! Какого полка, не пойму?
– Особого, – сказал я с шутливой серьезностью. – Даже не спрашивайте.
– Вы правы, столько полков сейчас новых, я уж запутался. Пойдемте, познакомлю avec des dames charmantes. (С прекрасными дамами
Он быстро и доверительно описывал достоинства и недостатки знакомых дам, а я только мог заключить, что Ростопчин не посвятил его в свои замыслы. Больше того, адъютант, видимо, считал, что граф проявил ко мне особое расположение. Иначе почему он так охотно взялся за мою опеку?
– Это лучшее, что осталось, – говорил адъютант. – Так сказать fine fleur (Сливки
Мы подошли.
– Поручик Берестов, рыцарь легкой кавалерии! – провозгласил адъютант. – Между прочим, особого полка!
– Какого же? – спросила темноволосая девушка в розовом платье туникой.
– Прекрасный кавалергард преувеличивает, – отшутился я.
– Какой он кавалергард, он просто Ванечка, – сказала девушка с пышными рукавами, похожими на белые шары.
– Да, да, зовите меня просто Ванечкой, – согласился адъютант. – Так удобнее. – Ему, видно, нравилось это фамильярное и вместе с тем семейное обращение. – А вас, кстати, как величать?
– Александр.
– Браво! – сказала темноволосая. – Вы наш Македонский. Скажите, Македонский, скоро вы побьете французов?
– Достаточно скоро, – ответил я.
– Нет, правда, как дела в армии?
– А почему вы без сабли?
– Как Кутузов?
– Что говорят про Барклая?
– Когда будет сражение?
– Уезжать из Москвы или оставаться?
Вопросы посыпались градом. Подошли еще два офицера и студент в синей тужурке с малиновым воротником. Начался беспорядочный спор. Кто обвинял в неудачах Барклая, кто Беннигсена, кто уверял, что французы несокрушимы, кто предсказывал народный бунт.
– Мы собираем женский легион! – кричала темноволосая девушка в тунике. – Софи, Катрин и я вступаем! У меня даже каска есть!
– Вот вы из армии, а ничего толком не говорите, – укоряла меня другая.
– Да я так, второе лицо, – ответил я.
– Как второе?
– Старшим со мной другой офицер.
– Какой офицер, где он, как его звать?
– Ротмистр Листов.
– Это какой Листов? Который с Лашковым стрелялся?
– Не знаю, – сказал я.
– Как же не знаете? Ведь он с Лашковым стрелялся из-за крепостной!
– Вот уж и крепостной! – возразила черноволосая. – Откуда ты знаешь?
– Он ему ухо отстрелил! – сказала другая.
– Я бы и в лоб не пожалел, – вставил офицер в форме улана.
Общество оживилось.
– Постойте, постойте! – вмешался сияющий Ванечка. – Поручик, вы что же, не слышали про Листова?
– Да, в общем… – сказал я.
– Ах, какая романтическая история! – воскликнула черноволосая.
– Он в крепостную влюбился!
– Так уж и крепостную! Откуда ты знаешь?
– Все говорят!
– Они бумаги подделали!
Поднялся гомон.
– Постойте, постойте! – кричал Ванечка. – Поручик, я расскажу! Я знаю наверное! Мне Хлудов в точности описал, он секундантом был на дуэли. Значит, так, с чего там началось?
– Он увидел ее в Воспитательном доме, – подсказал кто-то.
– Ага! Значит, так, поручик. Лашков-старший, это толстое брюхо, едет на спектакль в Воспитательный дом, видит там очаровательное видение и возгорается мыслью добыть его в свой домашний театр, так сказать, пригреть сироту.
– Знаем мы его домашний театр! – сказала черноволосая. – Одни наложницы, как только Москва его терпит.
– Ну вот, – продолжал Ванечка. – Стало быть, начинает выпрашивать девушку у директора Тутолмина. А только и всего требуется, что ее согласие. А она согласия не дает! Тут и молодой Лашков на девушку польстился. Как, бишь, ее звать? Кто помнит?
– Настасья! Катерина! Наталья!
– Неважно. Долго ли, коротко, Лашковы вдруг предъявляют Тутолмину бумаги, по которым следует, что девушка эта дочь их крепостной, бежавшей с каким-то там… я уж не знаю. Словом, забирают ее силой из Воспитательного дома, обхаживать начинают, а она упрямится.
– Я точно знаю, что они бумаги подделали! – сказала девушка в платье с шарами.
– А тут и Листов ввязался, – сказал Ванечка. – С Лашковым он был в приятелях и знал всю историю. За девушку стал вступаться…
– Влюбился!
– Потом дуэль с Лашковым, а после девушка исчезает.
– Он ее увез!
– Но куда? Что ему с ней делать? Не жениться же?
– А пусть бы и женился. Шереметев женился на своей крепостной.
– Но у той воспитание! Она по-французски говорит и какая актриса!
– У этой тоже воспитание! Я видела, у нее стать, как у дворянки! Если сирота, это не значит, что из простых. Мало ли всяких историй на свете!
– Господа, господа! – кричал Ванечка. – Хватит об этом! Будут у нас танцы, наконец?
– Старик объявил «тихий бал», – сказал улан.
– Разве они дадут повеселиться! – Черноволосая посмотрела на шуршащих разговором стариков.
– Им только черепашьи супы есть да в «бостон» играть!
– А я люблю «тихий бал». Не то что в Благородном собрании, где свечи от духоты гаснут.
– Помните, как у Небольсиной на именинах Ростопчин прислал громадный торт? Его раскрыли, а оттуда вышел карлик с незабудками!
Подошел лакей с большим подносом, уставленным запотевшими бокалами.
– Венгерское. Пожалуйте-с.
– А ананасы?
– Ананасов нет по случаю войны-с, – ответил лакей.
– У Апраксиных были вчера ананасы!
– Не могу знать-с, – твердо ответил лакей. – Холодный рябчик, кулебяка, фрукты и мороженое пожалуйте. В обеденной.
– Кулебяка? Фи!
– Господа! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать по комнатам молодежь. Салтыков, Мамонов и Гагарин здесь.
– Вяземский, – добавил кто-то.
– Копьев, Арсеньева, Павлова…
– Вот-вот! – сказал Ванечка. – Я предлагаю собрать всех в зеленую гостиную и сыграть фанты! Дамы и господа! В кои-то веки собрались! Может, последний вечер в Москве! Завтра многие уезжают в армию.
– Фанты, фанты! – закричали все.
Мы взяли в руки по свечке и пошли по комнатам с криком:
– Фанты, фанты! Последний раз фанты в городе Москве!
– А вон и наш граф, – сказал мне адъютант. – Вы подойдете к нему?
– Пожалуй.
– А я исчезаю. Ждем вас в зеленой гостиной. Туда и ужин подадут.
– Фанты, фанты! – закричал он тут же, убегая за остальными. – Последний раз фанты в городе Москве!
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |