"Коррида" - читать интересную книгу автора (Зевако Мишель)
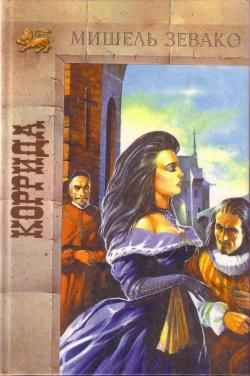 |
Мишель Зевако Коррида
Глава 1 ЗАМЫСЛЫ ХУАНИТЫ
Как мы помним, пока заговорщики удалялись один за другим, у Пардальяна было предостаточно времени, чтобы с пользой для себя побеседовать с Чико. Пардальян расспрашивал нашего малыша Чико, не знает ли тот о каком-нибудь тайном выходе, неизвестном людям, оставшимся в зале: он, Пардальян, с удовольствием бы им сейчас воспользовался.
Для Чико проникнуть в это логово в одиночку, без оружия, имея при себе только короткий кинжал, было самоубийственной затеей, и он никак не мог понять славного сеньора француза, чудом избежавшего ужасной смерти и, казалось бы, находившего особое удовольствие все в новых и новых опасных приключениях. За это время Чико успел привязаться к Пардальяну, так что он считал своим долгом остановить сеньора, жаждавшего рисковать своей головой.
Но Пардальян настаивал со свойственным ему особым даром убеждать: мало кто мог устоять перед силой его доводов. И малыш в конце концов сдался. Он указал смельчаку один из множества извилистых коридоров, который вел к выходу, никому, кроме него самого, неизвестному. Это и была потайная дверь, о которой не догадывались ни Фауста, ни заговорщики.
Пока Пардальян оставался в зале, чрезвычайно взволнованный малыш томился снаружи, рука его уже лежала на пружине, открывавшей потайную дверь. Не видя и не слыша ничего, что происходило за стеной, отделявшей его от неизвестности, он с особым волнением ждал условного сигнала, прежде чем потянуть пружину и распахнуть дверь, за которой его, может быть, подстерегала засада. А вдруг ему придется поспешить на помощь сеньору Пардальяну, которого он полюбил всем сердцем?
Простодушного Пардальяна глубоко трогала героическая самоотверженность Чико. Он говорил с ним с удивительной теплотой, согревавшей этого маленького одинокого изгоя, у которого была лишь одна звезда в жизни – его возлюбленная Хуанита.
Наконец Пардальян трижды постучал в стену. Услышав условный сигнал, Чико поспешил открыть дверь и с радостью увидел доблестного шевалье – живого и невредимого. Его неподдельная бурная радость не могла не тронуть Пардальяна.
– Мне уже стало казаться, что вам не удастся вырваться оттуда живым, – сказал, едва успокоившись, Чико.
– Ба! – воскликнул улыбающийся Пардальян. – Неужто ты еще не понял, что меня не так-то легко погубить?
– Но я надеюсь, что сейчас мы все-таки отсюда уйдем, – дрожащим голосом произнес Чико. У него не было уверенности, что французу не придет в голову очередная блажь подвергнуть себя новому – причем, бессмысленному на его, Чико, взгляд – опасному испытанию.
Однако, к его величайшему облегчению, Пардальян сказал:
– Право же, мой славный Чико, мне здесь наскучило. Подземелье – место слишком уж унылое. Пожалуй, нам следовало бы поискать более уютного и гостеприимного убежища. Пойдем на волю, друг мой!
На небе уже ярко и весело сияло солнце, когда шевалье и его новоиспеченный приятель появились у таверны «Башня».
В это воскресное ясное утро, предвещающее большой наплыв посетителей, работа там кипела: кругом все мылось, подметалось, протиралось до блеска…
Из кухни доносился треск горящих в печи поленьев. Старуха Барбара бранилась и кляла почем зря появившихся здесь в столь ранний час слегка помятых ночных красоток, смущавших своими весьма смелыми туалетами молодых слуг и отвлекавших их от исполнения каждодневных обязанностей.
Хуана сегодня по обыкновению встала раньше всех. Она надеялась немного успокоиться среди всей этой привычной суеты.
Она была бледна, бедняжка Хуанита, а под ее лихорадочно горящими глазами лежали тени – следы усталости… или же пролитых тайком слез. Однако ничто на свете, никакое горе не в силах было бы заставить эту девушку проявить небрежность в одежде. Вот и нынче она была причесана и одета с необыкновенной тщательностью и даже изысканно. Великолепная прическа и изящные туфельки выдавали в ней истинную андалузку. Не обращая внимания на своих слуг, с отсутствующим видом, она, словно дремлющая кошка, слышала и видела все, что происходило у входа в таверну.
И, конечно же, не ускользнуло от ее внимания появление Пардальяна в сопровождении ликующего малыша Чико. Лицо Хуаны мгновенно преобразилось, щеки порозовели, а глаза засияли, как две звездочки – в этом внутреннем особом свечении глаз Хуаниты было что-то колдовское.
Итак, девушка отлично видела пришедших, но – надо же, какое совпадение! – именно в этот момент ей пришлось срочно отчитать за нерадивость одну из служанок. Бедняжка растерянно теребила фартук и едва не плакала: ее проступок был очень мелким, но молодая хозяйка отчего-то сердилась и едва не кричала, так что все присутствующие глядели в их сторону.
Однако в какой-то момент Хуанита поняла, что ей вряд ли удастся подобными шумными средствами удержать внимание сеньора француза, и с талантом и непринужденностью настоящей актрисы соизволила заметить его присутствие. Слегка вскрикнув от удивления, лицедейка с напускным равнодушием в голосе обратилась к Пардальяну:
– Ах! Сеньор, вы уже вернулись? Ваши друзья дон Сервантес и дон Сезар ужасно о вас беспокоились!
– Прекрасно! – сказал улыбающийся Пардальян. – Значит, я немедленно повидаю их и успокою…
Но до чего же странно вела себя Хуанита по отношению к Чико! Всего несколько часов назад она торопила его спасти француза, заклиная всем святым и суля в будущем свою признательность и преданность. Теперь же она едва обращала на малыша внимание. От его ликования не осталось и следа, и он пребывал в тоске и печали. Но вот он вдруг почувствовал на себе ее молниеносный взгляд – испепеляющий, презрительный, словно она упрекала его в чем-то недостойном и предательском.
Бедняга Чико вполне заслуженно рассчитывал на слова благодарности. Поняв, что на него сердятся, он будто окаменел, его маленькое лицо скривилось от боли: «Что с ней?! Что я ей сделал?!»
Подчеркнуто не замечая его присутствия, Хуана была весьма учтива с сеньором французом.
– Вы, конечно, устали, но, быть может, прежде чем подняться в комнаты, вы все-таки позавтракаете?
– Хорошо, моя прелесть. Я и вправду здорово проголодался, так что не откажусь от большого куска пирога и двух бутылочек французского вина.
– Слушаю, сеньор! Я сейчас же вам все сама подам.
– Это большая честь, дитя мое. Я был бы вам также очень признателен, если бы вы смогли передать господам Сервантесу и Эль Тореро, – если, конечно, они уже проснулись, – что со мной все в порядке.
– Бегу, сеньор.
С каким-то особенно беззаботным и счастливым видом Хуана вспорхнула по лестнице. Она спешила сообщить друзьям сеньора француза, уже потерявшим всякую надежду, о его счастливом избавлении, а одна из служанок сервировала тем временем стол для господина Пардальяна.
После ухода Хуаниты шевалье наконец-то обратил внимание на несчастный вид Чико. В глазах малыша было столько отчаяния и растерянности, что сеньор француз расхохотался. Малыш тут же обиделся на него: каково слышать раскатистый звонкий смех, когда на сердце кошки скребут!
– Ха-ха-ха! Так ты, милый мой, ничего не понял?! Так ты, друг мой, совсем не знаешь женщин?!
– Что же я ей сделал? – пролепетал бедняга Чико.
– Ты спас меня, – разведя руками, отвечал Пардальян.
– Но разве она меня сама об этом не просила?
– Вот именно!
Глаза Чико еще больше расширились от удивления. Это обстоятельство лишь сильнее развеселило Пардальяна, и он снова захохотал, говоря:
– Даже и не старайся что-либо здесь понять! Я знаю лишь одно: она тебя любит.
– О! Но она не сказала ни единого слова. Она так ужасно на меня посмотрела.
– Именно поэтому я и говорю тебе это: она любит тебя.
Тут Пардальяну стало жалко малыша Чико, который как-то особенно горестно тряхнул головой.
– Слушай же, – сказал француз, – и постарайся, по возможности, понять. Хуана довольна, что мне удалось остаться в живых…
– Вот видите…
– Но теперь она злится на тебя.
– Почему?.. Ведь я лишь выполнял ее волю.
– Именно так!.. Хуана, конечно же, не хотела, чтобы я был убит. Но она предпочла бы, чтобы моим спасителем был кто-то другой, а не ты.
– Но почему?
– Почему?! Я – твой соперник! Женщина, которая любит, не может допустить, чтобы ее не ревновали. Если бы ты очень любил Хуану, ты бы ее ревновал. Но если бы ты ее ревновал, разве ты бы стал спасать меня?! Вот что сейчас мучает Хуаниту. Понял ли ты это наконец?
– Но если бы я не спас вас, она бы отвернулась от меня, она бы попросту считала меня вашим убийцей!
– Совершенно верно. Так что теперь пусть все идет так, как идет. Не волнуйся, друг мой. Хуана любит тебя… или же вот-вот полюбит. Черт меня подери! Я надеюсь, ты веришь мне? Да или нет?!
– Ну конечно же, да.
– Ну тогда, позволь, я сам этим займусь. И, пожалуйста, прошу тебя, не строй ты из себя несчастного влюбленного. Ручаюсь, друг мой, дела твои не так уж и плохи!
Хотя слова эти и успокоили отчасти малыша Чико (он бесконечно доверял сеньору Пардальяну, и раз тот говорил ему, что дела его не так уж и плохи, стало быть, так оно и было), однако мимолетная улыбка Хуаниты успокоила бы его душу куда больше, чем самые убедительные доводы его друга Пардальяна. Но чтобы не огорчать благородного сеньора, ему кое-как удалось превозмочь свою душевную боль и если и не изобразить на своем лице улыбку, то хотя бы придать ему менее трагическое выражение.
Как раз в этот момент появилась Хуанита и сообщила:
– Ваша светлость, сеньоры одеваются и скоро спустятся в зал. Стол накрыт. Попробуйте этот пирог, надеюсь, он вам понравится. Сейчас вам принесут омлет.
Пардальян подошел к сервированному для него столу.
– А где же прибор для нашего друга? Хуана машинально стала искать глазами среди посетителей того, кто бы мог быть удостоен столь великой чести завтракать с самим сеньором французом – доблестным дворянином, равного которому по благородству и отваге ей еще никогда не приходилось встречать в своей жизни.
– Немедленно принесите еще один куверт!
Правду сказать, Чико был заинтригован не менее Хуаниты. Как и она, он едва ли догадывался, с кем собирался делить свою трапезу славный сеньор Пардальян.
Как бы то ни было, Хуана поспешила исправить свою оплошность. Кроме того, она – истинная дочь Евы – была ужасно любопытна. Но ждать ей пришлось совсем недолго, и ее любопытство было удовлетворено сполна.
Весело подмигнув Чико, Пардальян указал тому на высокий деревянный табурет. Крайне изумленная, Хуанита не верила своим глазам и ушам.
– Садись-ка, друг мой Чико, подкрепим наши силы, ведь нам с тобой здорово досталось.
Малыш Чико был немало смущен оказанной ему честью и чувствовал несказанный восторг. Еще бы, ведь его удостоил своей дружбой самый замечательный, благородный, лучший из всех людей, которых когда-либо ему доводилось видеть. Карлик очень уважал Пардальяна и с готовностью выполнял любое его желание. Однако же маленький человечек не был лишен гордости и чувства собственного достоинства, хотя, быть может, сам он это и не осознавал. В присутствии веселого и доброго к нему Пардальяна Чико чувствовал себя весьма уверенно и с честью справился с почетной ролью гостя сеньора француза. Казалось, и Пардальяну доставляло особое удовольствие присутствие малыша.
Между тем Сервантес и Эль Тореро тоже спустились в зал и, наполнив свои бокалы вином, присоединились к веселой компании.
Естественно, благородные сеньоры Сервантес и Эль Тореро были несколько удивлены, застав шевалье в обществе бродяги без роду и племени. Но видя, как Пардальян обращается с этим маленьким человечком, и понимая, что на то есть свои причины, они во всем последовали его примеру.
Итак, к величайшему изумлению Хуаны, почтенные господа то и дело выказывали знаки уважения ее Чико – ее игрушке, кукле, ее рабу, для которого было большой честью (по разумению Хуаниты) разрешение поцеловать край ее платья. Притихшая девушка вела себя нынче как-то по-особому и предупреждала любые желания гостей. Обслуживая почтенных сеньоров, она разговаривала с ними не свойственным ей тихим голосом. Это чрезвычайно забавляло Пардальяна, который видел, как на лице Хуаны отражаются обуревавшие ее страсти, в которых она едва ли призналась бы самой себе. И словно невзначай он принялся рассказывать Сервантесу и дону Сезару о своем счастливом избавлении.
– Вы не поверите, – сказал он, – этот чертенок чуть не заколол меня своим кинжалом: я уцелел чудом.
– Ба! – сказал Сервантес без тени усмешки. – Да он храбрый парень, этот малыш!
– Я бы выразился гораздо определеннее, – многозначительно отвечал Пардальян. – В этой маленькой груди скрывается сильное и благородное сердце настоящего мужчины. Я знавал немало кавалеров, обладавших репутацией храбрых и благородных людей, которые едва ли были способны проявить такое великодушие и такую отвагу, какие выказал недавно наш маленький герой. Я в жизни не встречал более смелого человека. Когда-нибудь я расскажу вам, друзья мои, обо всем, что сделало для меня это юное создание. Знайте же, что я люблю и уважаю Чико. И я бы очень хотел, чтобы и вы считали его своим другом.
– Шевалье, – серьезно отвечал Сервантес, – коль скоро вы считаете этого человека достойным вашей дружбы, мы, разумеется, тоже будем рады протянуть ему руку.
Чико был безмерно счастлив, но вместе с тем и растерян: все эти комплименты и красивые слова о его героизме и необычайной смелости, произносимые в его адрес столь уважаемыми сеньорами, привели его в сильное замешательство, с которым ему было чрезвычайно сложно справиться. Однако же он не забывал поглядывать в сторону Хуаны, поскольку ему необходимо было видеть, какое впечатление производят на нее все эти славословия. И тут он мог быть удовлетворен: Хуанита смотрела на него уже совсем иначе – лицо ее озаряла чарующая, долгожданная улыбка, которая предназначалась, конечно же, одному только маленькому Чико. Сердце его радостно забилось, и ему страстно захотелось поцеловать руку Пардальяну в знак своей безмерной благодарности и почтения; впрочем, он понимал, что сеньору французу это вряд ли понравится.
Чико был слишком тонок душой, чтобы не постигнуть суть разыгранной сцены, целью которой было произвести впечатление на Хуану, понарошку, а может, и взаправду дувшуюся на малыша. И комедия вполне удалась. Чико, всей душой любивший прекрасную андалузку, мог торжествовать.
Поразив девичье воображение, галантный Пардальян в полушутливом тоне продолжал:
– О моя прелестная Хуанита, именно вам я обязан своим чудесным избавлением. Не окажись вовремя рядом со мной ваш друг детства, о котором вы так трогательно заботитесь, я бы наверняка погиб мучительной смертью. Я никогда не забуду вас обоих. У Чико в груди бьется верное, доблестное, не способное предать сердце. Знайте же: счастлива будет женщина, которую полюбит Чико, ибо он будет любить ее до конца дней своих.
В ответ на это кокетливая Хуанита состроила очень милую гримаску, по всей видимости, означавшую: «Ничего нового вы мне не сказали».
Уже довольно хорошо знавший своего друга, Эль Тореро был немало удивлен столь необычным для Пардальяна красноречием. Обычно шевалье отличала чрезвычайная сдержанность и лаконичность речей. Но откуда Тореро было знать, зачем понадобилось Пардальяну так живо расписывать свои приключения, да еще и отводить в них главную роль малышу Чико? Ведь Пардальян никому бы не признался, что делал это для укрепления репутации Чико.
Впрочем, шевалье был абсолютно искренен. Он относился к той редкой породе людей, которым свойственно преувеличивать заслуги других, а не свои собственные.
После веселой дружеской трапезы Пардальян, сославшись на ужасную усталость (любой другой на его месте давно бы уже потерял сознание от нервного и физического перенапряжения), наконец-то отправился в свою комнату и растянулся на мягкой белоснежной постели.
Вслед за Пардальяном удалился и Сервантес. Эль Тореро поднялся на второй этаж к даме своего сердца цыганке Жиральде. Чико остался в одиночестве.
Хуана молча прошла мимо него. Плутовка проскользнула во внутренний дворик, будучи уверенной, что он не спускает с нее глаз, и с напускным безразличием направилась к своей уютной девичьей спаленке. Краем глаза Хуанита следила за маленьким человечком: ей так хотелось, чтобы он последовал за ней. Однако же он не двигался с места, и тогда ее губы еле слышно прошептали: «Глупец! Он ничего не понимает и не придет ко мне!»
Но так не годилось, малыш обязан был послушно идти за ней. И, слегка повернув голову, она одарила его своей чарующей улыбкой.
Тогда Чико наконец-то решился встать и незаметно сопроводить ее в комнату. Сердце его билось, словно готово было выпрыгнуть из груди. Не без тоски и страха думал он о том, как примет его Хуана.
Девушка сидела в единственном в ее маленькой комнатке, где почти отсутствовала мебель, кресле. Это было огромное деревянное резное произведение искусства. Господи, какую мебель делали в те времена! Когда вспоминаешь об этом, то испытываешь невольно чувство неловкости за столь убогие столы и стулья наших дней. Ножки красавицы покоились на приставленном к креслу высоком дубовом табурете, сверкавшем чистотой, – как, впрочем, и все в таверне «Башня», где за порядком следила, как мы уже неоднократно отмечали, сама Хуана.
Чико прошел в комнату и предстал перед ней онемевший и невероятно смущенный. Он был похож на провинившегося и покорно ожидающего наказания за свой проступок ребенка.
Видя его нерешительность, Хуанита заговорила первой. Лицо ее было серьезно и непроницаемо; невозможно было определить, довольна она или рассержена.
– Итак, Чико, – сказала она, – похоже, ты невероятно отважен?
– Я не знаю, – простодушно ответил он. Раздраженно, с едва скрываемой нервозностью она продолжала:
– Вот как? Но ведь об этом заявил во всеуслышание сам сеньор Пардальян, а уж он-то знает толк в подобных делах, ибо являет собой пример отваги и благородства.
Маленький человек опустил голову, словно признавая в чем-то свою вину, и прошептал:
– Если он так говорит, значит, так оно и есть… Но я ничего об этом не знаю.
Каблучки Хуаниты начали нетерпеливо постукивать о дерево табурета. Это было плохим предзнаменованием. В их стуке Чико улавливал слишком хорошо ему известные признаки нарастающего гнева его маленькой возлюбленной. И, конечно же, это только усилило его смущение.
– А правда ли то, что сказал господин Пардальян? Он утверждает, что ты способен любить до конца дней своих ту, которую однажды полюбишь, – вдруг выпалила она.
Было бы несправедливо считать Хуану обычной ветреной кокеткой. Просто она проявляла поразительное равнодушие к чувствам карлика и совершенно не замечала его терзаний. Впрочем, следует заметить, что в те времена нравы были куда более свободны, чем в наши дни, когда искренность скрывается под непроницаемой маской лицемерия. Все, что казалось естественным тогда, заставило бы нынче блюстителей морали притворно недоумевать. И наконец, не следует забывать, что Хуанита ощущала себя королевой Чико, привыкшей к его молчаливому поклонению и к тому, что малыш – это ее вещь. Поэтому она вела себя и говорила с ним так дерзко, как ни с кем другим.
Краснея, Чико пробормотал:
– Я не знаю…
С яростью она топнула ножкой и передразнила его:
– Я не знаю!.. И ты ничего не видишь в этом особенного? Это возмутительно, ведь чтобы сказать так, он должен был от тебя это услышать!
– Я не говорил ему так, клянусь! – взволнованно отвечал карлик.
– Но откуда ему знать, что ты любишь и будешь любить до конца своих дней?
И уже с нежностью в голосе Хуана добавила:
– Скажи, Чико, ты действительно любишь кого-то? Кого же? Я ее знаю? Ну скажи же! Что ты стоишь, разинув рот?! Ты меня раздражаешь!
Глаза Чико кричали: «Это тебя я люблю!» Она видела это, но непременно хотела услышать от него признание в любви.
Но у Чико не хватало храбрости. Он смог лишь пробормотать:
– Я никого не люблю… кроме тебя. Пресвятая Дева! Она отлично знала это, но такая лапидарность ее нисколько не устраивала. На лице ее появилась гримаса досады. Как же глупа она была, поверив на какое-то мгновение в смелость Чико! Его смелости едва хватило лишь на слова: «Я люблю тебя». Хуанита не знала, что эти слова приводят в трепет и заставляют отступать даже самых отважных мужчин. Она была упряма и наивна, наша малышка Хуанита, привыкшая повелевать маленьким человечком Чико, и ей очень хотелось, чтобы он сам стал хоть на короткий миг ее повелителем. Но похоже было, что Чико так и останется ее верным псом, готовым преданно лизать зло отпихивающую его хозяйскую ногу.
Она с досадой подумала, что ни на что другое он не годится, что его можно унижать, мучить, заставлять часами выстаивать на коленях и целовать ее маленькие туфельки, а ни на что большее этот «храбрец» не отважится.
Вызывающе глядя на него злыми глазами, она сказала глухим голосом:
– Если ты ничего не знаешь, ничего не говорил, ничего не сделал, зачем ты пришел сюда? Чего ты хочешь?
Чико был ужасно бледен, но с невероятной для него самого твердостью в голосе произнес:
– Я хотел только спросить тебя: ты довольна? С видом маленькой королевы она переспросила:
– Довольна? Чем же это я должна быть, по-твоему, довольна?
– Ну… тем, что я нашел и привел француза. Она совершенно по-женски – неожиданно и несправедливо – возмутилась и визгливо заявила:
– Да зачем он мне нужен, этот француз? Ты, наверное, на солнце перегрелся, бедняжка!
Чико был в полном смятении, он пробормотал:
– Но ты мне говорила…
– Что? Что я тебе говорила?
– Ты просила спасти его…
– Я?! Какой вздор! Тебе все это приснилось!
От этих слов Чико стало дурно. Может быть, ему действительно все это приснилось, а теперь Хуанита грубо будит его? Ведь она говорит так уверенно! Но нет! Она просто играет с ним, хочет испытать его чувства. Ей интересно, станет ли он ревновать к французу. Недаром же сеньор Пардальян, который так много видел и знает в этой жизни, только что говорил ему, что любящая женщина хочет, чтобы ее ревновали. Должно быть, так оно и есть. Но Хуана… действительно ли она его любит? Возможно ли такое счастье? Ведь еще нынче ночью, всего несколько часов назад, она проливала из-за француза горькие слезы. А что же теперь? Он ничего больше не понимал.
Чико внезапно почувствовал себя глубоко оскорбленным и униженным, однако ему вовсе не хотелось взбунтоваться. Он всецело принадлежал своей хозяйке, и она имела право заставить его страдать или же выставить на посмешище. Он был рабом всех ее прихотей, она даже могла бы его побить. Такова была его доля: смиренно гнуть спину и терпеть любые выходки и капризы Хуаниты. Любой знак внимания с ее стороны – счастье, ласковая улыбка – блаженство, награда за все муки, которые он принимал по ее же вине.
Хуана поглядывала на него краем глаза, наслаждаясь его смятенным, растерянным видом. Ей хотелось топтать, мучить, унижать карлика, хотелось задеть в нем его гордость, чтобы он все-таки возмутился, высоко вскинул голову и заговорил с ней по-хозяйски, по-мужски!
В глубине души Хуанита не была ни плохой, ни злой. Она попросту не ведала, что творит. Ведь их взаимоотношения своими корнями уходили в детство. Да, Чико был невелик ростом, но это вовсе не мешало ему оставаться необыкновенно привлекательным юношей. Он был великолепно и очень пропорционально сложен. Он, безусловно, волновал Хуаниту. Ее только раздражало его всегда предсказуемое поведение.
Было бы большим преувеличением думать, что Хуанита влюбилась в карлика, но все же в ее отношении к нему появилось что-то новое. До сих пор она была искренне привязана к нему как к брату, но теперь ее чувства переменились: она стала испытывать к малышу интерес и симпатию, от которых уже рукой было подать до влюбленности.
Итак, всего один шаг – и ее привязанность к Чико могла обратиться в истинное глубокое чувство; впрочем, этот шаг мог быть сделан и в сторону, и тогда их отношения брата и сестры остались бы непоколебленными. Что-то должно было заронить искру между нею и Чико.
И именно сейчас, когда она никак не могла разобраться в своих чувствах к карлику, в ее жизни возник Пардальян. Его появление своей романтичностью не могло не произвести на нее сильного впечатления. Пардальян казался ей героем ее мечты. Она была еще так молода, что едва ли была способна верно оценивать свои ощущения, она безвольно плыла по течению.
В присутствии Пардальяна она другими глазами взглянула на Чико: перед ней стоял крошка, малыш, карлик. Чико был хорошенькой, изящной, элегантной игрушкой; он безумно любил Хуаниту, но он был всего лишь уменьшенной копией мужчины, и его никак нельзя было рассматривать как будущего супруга. Чико заменял ей брата, и это вполне устраивало Хуану.
Со всей испанской горячностью и страстью она отдалась своей мечте о любви к этому сильному и отважному сеньору иностранцу. Да, она действительно плакала из-за Пардальяна, плакала от отчаяния при мысли, что ее избранник может быть убит. И она делилась своими переживаниями с Чико с бессознательной жестокостью женщины, которая любит другого. Малыш покорно выносил муки неразделенной любви. Его истинное и глубокое чувство к Хуаните дало ему нечто вроде дара провидца, и неожиданно для самого себя он произнес тогда слова, которые в дальнейшем не давали Хуане покоя: «На что ты надеешься?» Малыш, сам того не желая, нанес девушке страшный удар.
Хуана была дочерью скромного трактирщика. Дела его шли весьма успешно, он был богат, но при этом продолжал оставаться трактирщиком. А на что могла в те времена надеяться дочь владельца постоялого двора? Да на то, что тоже станет его хозяйкой. Вот она ею и стала. Что же до сеньора иностранца, то он запросто входил в королевский дворец и беседовал с самим его католическим величеством. Оно и понятно, ведь его прислал сюда сам король Франции. Нет, она и надеяться не смела выйти за него замуж! Стать же его любовницей ей бы не позволила гордость.
Все эти размышления заметно ослабили ее любовь к Пардальяну. Освобождаемая территория сердца Хуаны переходила во владения Чико, но сама Хуанита вряд ли догадывалась об этом, раздираемая, с одной стороны, своей пылкой романтической страстью к сеньору Пардальяну, а с другой – давней глубокой привязанностью к Чико. Какое же из этих двух чувств возьмет над ней верх?
Сегодня утром вернулся Пардальян. Она, безусловно, была счастлива видеть его живым и здоровым. Но Чико, едва Хуана поглядела на него, в смущении опустил глаза и тут же потерял только что завоеванный им кусочек сердца девушки. Она не могла простить ему его жертвенности и самоотречения, ибо не могла этого понять: ведь по ее собственной логике, логике Хуаниты, никогда и ничего отдавать нельзя, а, напротив, надо вцепиться в свое зубами и когтями. Вот почему ею и был оказан Чико столь холодный прием.
Но Пардальян с воодушевлением рассказывал о том, как малыш храбро защищался, как он даже чуть было не заколол самого Пардальяна. И сразу же акции Чико резко подскочили. Стоит ли мечтать о несбыточном? Быть может, счастье ее как раз здесь, совсем рядом. Чтобы не упустить его, она вновь устремила взоры в сторону малыша. Она так хотела остаться с ним наедине, она ждала его признаний в любви, но опять и опять наталкивалась на непреодолимую стену его стеснительности.
Хуана была вне себя от ярости, она негодовала. Она мысленно поставила на место Чико сеньора Пардальяна и еще больше разозлилась, ибо поняла, что француз держался бы с ней совсем иначе. Короче говоря, ей все сильнее хотелось унижать беднягу Чико.
А глупый карлик не стал возмущаться ее недостойным коварным враньем, но, напротив, принялся оправдываться и едва ли не просить прощения.
– Я сделал все, как ты и велела, и лишь одному Богу известно, чего мне это стоило. Чем же я мог тебя так сильно рассердить?
Вот и все, что удалось ей услышать от него. Ну уж нет, она бы никогда и никому не позволила, чтобы с ней обращались подобным образом, помыкали ею и насмехались над ней! Нет, Чико так и не стал мужчиной. Он ребенок и никогда не повзрослеет. И как только она могла поверить, что этот мальчик мог говорить и поступать так, как говорят и поступают настоящие мужчины! Она была вне себя от злости, и злилась она прежде всего на саму себя. И внезапно возникшая в ее голове мысль видеть карлика у своих ног послушной собакой, готовой подобострастно лизнуть хозяйскую туфлю, стала ее непреодолимым желанием, навязчивой идеей.
Желая добиться своего, Хуана неожиданно смягчилась:
– Ты меня вовсе не рассердил.
– Правда?!
– Разве у меня рассерженный вид? – сказала она и улыбнулась мгновенно просиявшему Чико.
Чтобы перейти от слов к делу, она небрежно приподняла свою изящную ногу в шелковом розовом чулке и принялась шаловливо покачивать ею, едва не касаясь груди малыша Чико носком кожаной хорошенькой туфельки. Хуана какое-то время с нескрываемым удовольствием разглядывала свою ножку, будто дорогую безделушку, а потом перевела взгляд на Чико, словно безмолвно приказывая ему: «Ну целуй же, дурачок!»
Всего лишь в нескольких дюймах от его лица находилась маленькая ножка, обутая в изящный и богато расшитый башмачок. (О, такую роскошную обувь делали в те времена только в знаменитом андалузском городе Кордова!) Мелькавшая перед глазами безумно разволновавшегося Чико ножка, казалось, манила, дразнила, призывала малыша: «Ну же, смелее, целуй меня».
О нет! Чико не мог устоять перед столь сильным для него соблазном; прекрасное лицо Хуаниты улыбалось, значит, она не сердилась на него. И он упал на колени.
На лице девушки мелькнуло выражение радости. (Он был слишком взволнован, чтобы это заметить.) Впрочем, Хуана слегка жалела своего маленького приятеля, хотя все в ней и ликовало.
Ее милая ножка опять едва не задела лица малыша, продолжавшего стоять на коленях. Туфелька была так близко от его пылающего лба и трепещущих губ; она прямо-таки требовала поцелуя. Но наш бедный Чико в своей робости был неисправим. Он и не мыслил себе подобной дерзости. Что бы сказала хозяйка, если бы он себе это позволил? Ему, разумеется, было невдомек, что, наберись он смелости заключить малышку Хуаниту в объятия, та никогда бы не отвергла его страстный поцелуй.
Наконец стоявший на коленях перед своей возлюбленной карлик осмелел настолько, что произнес:
– Позволь мне…
Но она не дала ему даже договорить. Носок роскошной туфельки ткнул Чико в губы – такие робкие и такие несмелые. Казалось, Хуана вложила в этот удар все свое раздражение, всю свою злость. Ей хотелось разбить губы карлика в кровь. Теперь наконец-то Чико все понял и, пьяный от счастья, бросился целовать только что ударивший его башмачок. Он лобзал пол, которого касались ножки его возлюбленной, ловил губами подошву ее туфельки, задыхался от волнения и восторга. Но нога Хуаны медленно отстранилась, словно желая умерить его пыл и заставляя его голову опускаться все ниже и ниже – пока своим лбом он не почувствовал дерево табурета. Этого-то и добивалась красавица.
С торжествующей улыбкой, сполна удовлетворенная своей победой, она тем же жестом, что и принцесса Фауста, – разумеется, не подозревая о том, – поставила свою ножку на голову карлика, ее дона Христофора Центуриона. Казалось, она хотела сказать: «Вот твое место! Я твоя госпожа, а ты – ты только моя вещь!»
Впрочем, бедняжка Чико был счастлив. Давно уже Хуанита не оставалась с ним наедине, давно уже не расточала ему столько знаков внимания! И с какой грацией она демонстрировала ему свою силу и власть над ним!
Цель Хуаны была достигнута, она добилась своего… но внезапно ей стало очень стыдно и безумно неловко. Боже мой, она наверняка сделала ему очень больно! Она почувствовала ужасные угрызения совести за свой жестокий поступок и торопливо встала, тем самым невольно лишив Чико счастья до бесконечности оставаться у ее ног.
Но Чико по-прежнему не вставал с колен. Подняв голову, он восторженно смотрел на нее.
Покраснев не то от удовольствия, не то от стыда или сожаления о содеянном ею, она удивительно кротко сказала ему:
– Я надеюсь, что ты больше не думаешь, будто чем-то рассердил меня.
Она улыбалась ему. И он отважился на последнее: вновь приник губами к носку ее туфельки. Смущенная Хуанита поспешно отпрянула назад. Поднявшись с колен, Чико с искренней благодарностью произнес:
– Как ты добра! О, моя мадонна!
От этих слов она покраснела еще сильнее. Нет же, нет, она вовсе не была доброй, она очень жестокая и злая. Ему следовало не благодарить ее, а хорошенько поколотить, ибо она это вполне заслужила. Ругая себя за все происшедшее, она тем не менее внезапно спросила его:
– Это правда, что ты хотел заколоть француза?
Теперь покраснел он, словно она в чем-то его упрекнула. Потом молча кивнул.
– Зачем же?
Она жаждала услышать от него наконец:
– Потому что я люблю тебя и ревную!
Увы, Чико опять упустил свой шанс, невнятно пробурчав:
– Я не знаю.
Все было кончено, теперь уже раз и навсегда. Ужасная досада вызвала новый приступ ярости у Хуаниты. Красная уже не от смущения, а от ярости, она топала ногами и кричала:
– Опять! Я не знаю, я не знаю! О, как ты меня раздражаешь! Убирайся отсюда! Вон!
Этот внезапный взрыв негодования после столь обворожительных улыбок поверг его в полную растерянность. Он ничего не понимал. О Боже! Что с ней творилось? Что он ей сделал?
Изумленный, он не двигался с места. Тогда она яростно набросилась на него, молотя его своими маленькими кулачками. Топая ногами, она продолжала в исступлении кричать:
– Убирайся вон!
И ссутулившийся робкий Чико покорно вышел. Но если бы он неожиданно вернулся, то увидел бы, как на глазах Хуаниты выступили слезы. Его мадонна сидела в кресле и тихо плакала.
Но Чико никогда не посмел бы вернуться – ведь так решительно его прогнали! Он уходил, душа его была погружена во мрак, и лишь одна надежда еще согревала его: буря утихнет, Хуана сменит гнев на милость, и он, как и прежде, будет готов выполнить любое ее желание, любой каприз.
Да если бы он даже и осмелился вернуться и застал ее в слезах, то едва ли отнес бы их на свой счет: Чико не смог бы поверить в то, что он, такой маленький человечек, способен вызвать серьезные глубокие чувства. Скорее всего она проливала слезы из-за своей любви к сеньору французу. И однако же это было совсем не так!..
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |