"Еретик" - читать интересную книгу автора (Корнуэлл Бернард)
Часть первая ЧЕРТОВА КУКЛА
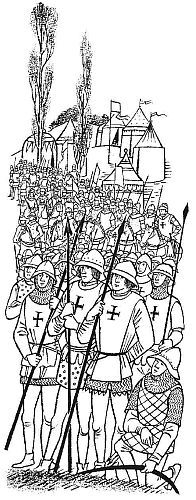 |
 |
Граф Бера был набожный и ученый шестидесятипятилетний старик. Он любил повторять, что вот уже сорок лет безвыходно живет в своих владениях. Главной твердыней графства был могучий замок Бера, стоявший на известняковом холме над одноименным городком, обтекаемым почти со всех сторон излучиной реки, которая и делала земли Бера столь плодородными. Здесь в изобилии произрастали оливки, виноград, груши, сливы, ячмень и женщины. Граф любил все это. Он был женат уже в пятый раз, каждая новая жена была моложе предыдущей, но ни одна так и не одарила его ребенком. Более того, он не произвел даже незаконнорожденного потомства от служанок, хотя, Господь свидетель, отнюдь не по недостатку рвения и старания.
Отсутствие детей граф воспринимал как Господню кару, а потому на старости лет окружил себя священниками. В городке имелся собор и восемнадцать церквей, с полным причтом из епископа, каноников и целой оравы священников, не говоря уж о доминиканской обители у восточных ворот. Граф одарил город двумя новыми церквями и выстроил на западном холме, за рекой и виноградниками, женский монастырь. У себя в замке он держал капеллана и за большие деньги приобрел пучочек соломы, устилавшей ясли новорожденного младенца Иисуса. Граф заказал для соломы хрустальный ларец в золотой оправе, украшенный самоцветами, поместил дарохранительницу на алтарь замковой часовни и молился перед ней каждый день, но не помог даже этот святой талисман. Его пятой жене было семнадцать лет, она была пухленькая и свежая, но такая же бесплодная, как и прежние.
Поначалу граф заподозрил, что его надули с приобретением этой священной соломы, однако графский капеллан клятвенно заверил его, что реликвия прислана из самого папского дворца в Авиньоне, и предъявил скрепленное собственноручной подписью Его Святейшества свидетельство, что солома сия воистину служила постелью младенцу Иисусу. Тогда граф показал свою жену четырем именитым докторам, все четыре светила пришли к заключению, что урина ее прозрачна, телесное устройство и потребности – здоровые. После этого граф решил прибегнуть к собственным познаниям. У Гиппократа он вычитал, что на способность к зачатию благоприятно влияют соответствующие картины, и велел украсить спальню жены изображениями Богоматери с младенцем. Супруги ели красные бобы, постоянно держали свои покои в тепле, но ничто не помогало. При этом граф точно знал, что его вины тут нет. Он сам посадил в двух горшочках ячмень, поливал один мочой новой жены, а другой – своей собственной, и семена в обоих горшочках взошли. По словам лекарей, это означало, что ни граф, ни графиня не бесплодны.
Из этого, как догадался граф, следовало, что на нем лежит проклятие. Поэтому он еще ревностнее обратился к религии, сознавая, что времени у него в запасе уже немного. Ведь, как писал Аристотель, возраст в семьдесят лет кладет предел мужской способности, и графу, дабы совершить вожделенное чудо, осталось всего пять лет. Он усердно молился, и вот, еще сам не зная о том, дождался наконец, что в одно осеннее утро молитвы его были услышаны.
Из Парижа прибыли четверо церковнослужителей. Три священника и один монах приехали в Бера с письмом от Луи Бессьера, кардинала и архиепископа Ливорнского, папского легата при дворе Франции. Его смиренное и почтительное послание содержало скрытую угрозу. Папский наместник просил допустить брата Жерома, молодого и весьма ученого монаха, к архивам Бера.
«Нам хорошо известно, – писал кардинал-архиепископ на изысканной латыни, – что тебе присуща великая любовь ко всяким манускриптам, и языческим и христианским, и потому прошу тебя, ради любви Христовой и во имя грядущего Его царства, позволить нашему брату Жерому изучить твои документы».
Казалось бы, в этом не было ничего плохого. Граф Бера действительно обладал самой богатой библиотекой и самым большим собранием манускриптов во всей Гаскони, если не во всем христианском мире, однако в письме не уточнялось, почему кардинал-архиепископ настолько заинтересовался хранящимися в замке бумагами. А упоминание о языческих текстах и вовсе означало угрозу. Кардинал-архиепископ намекал, что в случае отказа спустит на Бера «псов господних» – доминиканцев и инквизиторов, а те мигом докажут, что языческие сочинения способствуют распространению ереси. Начнутся судебные процессы, запылают костры, и хотя самого графа никто, разумеется, не тронет, но ради спасения души ему придется покупать индульгенции. На деньги церковь была ненасытна, а всем было известно, что граф Бера очень богат. Поэтому графу вовсе не хотелось ссориться с кардиналом-архиепископом, однако ему было чрезвычайно любопытно узнать, с какой стати его высокопреосвященство вдруг заинтересовался архивами графства.
Вот почему граф призвал отца Рубера, священника городской доминиканской обители, в большой зал замка, давно уже не слышавший шума разгульных пиров, ибо все стены в нем были уставлены полками, на которых тихо ветшали старинные манускрипты и переплетенные в промасленную кожу рукописные книги.
Руберу минуло всего тридцать два года. Будучи сыном городского дубильщика, этот молодой человек занял свое нынешнее высокое положение в церкви лишь благодаря покровительству графа.
Отец Рубер был очень высок, смотрел строго, его черные волосы были пострижены так коротко, что напомнили графу щетку с жесткой щетиной, которой оружейники полируют кольчуги. Несмотря на погожее утро, отец Рубер казался сердитым и недовольным.
– Завтра мне нужно по делу в Кастийон-д'Арбизон, – заявил он, – поэтому у меня остается не больше часа, чтобы добраться туда засветло.
Граф сделал вид, что не заметил грубость отца Рубера. Доминиканец пытался держаться с сеньором как с равным, и граф стерпел эту дерзость, ибо она его позабавила.
– Дело? В Кастийон-д'Арбизоне? – переспросил он и тут же вспомнил: – Ах да, верно! Ты хочешь проследить, как сожгут ту девицу!
– Да, завтра утром.
– Девицу сожгут и без тебя, святой отец, – заметил граф, – а дьявол заберет ее душу, не важно, будешь ты там ликовать или нет. Или все дело в том, – граф прищурился, – что тебе нравится смотреть, как сжигают женщин?
– Это мой долг, – сдержанно ответил отец Рубер.
– Ну да, твой долг. Конечно же. Твой долг.
Наморщив лоб, граф разглядывал шахматную доску, пытаясь сообразить, что лучше: пойти пешкой или убрать слона. Он был низеньким, полным, с круглым лицом, обрамленным коротко постриженной бородкой, и лысиной, которую постоянно покрывала вязаная шапочка. Даже летом граф редко снимал отороченное мехом одеяние. Его пальцы всегда были измазаны чернилами, что делало его больше похожим на писаря, чем на феодала – властителя обширных земель.
– Но у тебя есть долги передо мной, Рубер, – укорил он доминиканца, – так что взгляни-ка вот на это.
Граф протянул священнику письмо кардинала-архиепископа и внимательно следил за отцом Рубером, пока тот читал длинный документ.
– У него превосходная латынь, не так ли? – заметил граф.
– У него состоит на службе хорошо образованный секретарь, – суховато отозвался брат Рубер, внимательно изучая большую красную печать, чтобы убедиться в подлинности документа. – Говорят, – теперь голос брата Рубера звучал почтительно, – кардинала Бессьера рассматривают как возможного преемника нынешнего Папы Римского.
– Стало быть, это человек, которому лучше не перечить?
– Любому служителю Святой церкви лучше не перечить, – натянуто ответил доминиканец.
– И уж тем более такому, который может стать Папой, – заключил граф. – Но чего же он хочет?
Отец Рубер подошел к слюдяному окну из мелких пластин, вставленных в свинцовую решетку, сквозь него в помещение проникал лишь тусклый, рассеянный свет, но зато оно защищало от дождя, случайно залетающих холодных зимних ветров и птиц. Монах открыл решетку и вдохнул воздух, который здесь, наверху, был упоительно чист, не то что в городе, где все было пропитано вонью отхожих мест. Стояла осень, и в воздухе витал едва уловимый запах давленого винограда. Рубер любил этот запах.
– Этот монах сейчас здесь? – спросил он, снова повернувшись к графу.
– В гостевой комнате, – сказал граф. – Отдыхает. Молодой еще монашек, пугливый. Раскланивается чин по чину, но ни за что не желает сказать, что нужно от меня кардиналу.
Неожиданный звон и грохот во дворе заставили отца Рубера снова выглянуть в окно. Ему пришлось высунуться через подоконник, ибо даже здесь, на высоте сорока футов, стены имели толщину почти в пять футов. Внизу закованный с ног до головы в стальные латы всадник только что нанес по деревянному щиту на тренировочном столбе удар копьем, да такой силы, что обрушилось все сооружение.
– Жослен забавляется, – сказал он, отстранившись от окна.
– Мой племянник и его друзья упражняются, – поправил монаха граф.
– Лучше бы он заботился о своей душе, – сварливо заметил брат Рубер.
– У него нет души, он боец.
– Турнирный боец, – презрительно сказал монах.
Граф пожал плечами.
– Одного богатства мало, отец Рубер. Нужна еще и сила, и Жослен – моя крепкая, надежная рука.
Граф заявил это решительным тоном, хотя, по правде, вовсе не был уверен в том, что Жослен так уж подходит на роль наследника богатого графства. Однако, коль скоро сыновей у графа не было, его владениям рано или поздно предстояло отойти к одному из племянников, а из этого неудачного выводка Жослен, пожалуй, был самым лучшим. Вот и еще одна причина, почему так необходимо обзавестись своим потомством.
– Я позвал тебя сюда, – сказал граф, нарочно употребив слово «позвал» вместо «потребовал», – потому что тебе может быть известно, в чем состоит интерес его высокопреосвященства.
Монах снова посмотрел на письмо кардинала.
– Документы, – промолвил он. – Тут сказано «документы».
– Я тоже заметил это слово, – сказал граф. Он отошел от открытого окна. – Ты устроил сквозняк, отец Рубер.
Священник неохотно притворил окно. Он знал, что граф вычитал в каких-то книгах, будто бы тепло способствует мужской плодовитости, хотя сам считал это ерундой. Плодятся же люди в студеных, северных странах.
– Как видно, – промолвил он, – кардинала интересуют не книги, а только архивы графства.
– Видимо, так. Отчеты о податях за последние двести лет. Хорошее развлечение для брата Жерома – разбираться в этой писанине, – сказал граф со смешком.
Некоторое время монах молчал. Лязг мечей эхом разносился по двору замка, где графский племянник и его приятели упражнялись с оружием, и доминиканец подумал, что, стоит только Жослену дорваться до наследства, все эти древние книги и манускрипты полетят в огонь. Он подошел поближе к очагу. Хотя на улице было тепло, там горел жаркий огонь, и, глядя на пламя, он подумал о девчонке, которую завтра утром ожидала смерть на костре в Кастийон-д'Арбизоне. Девчонка была еретичкой, мерзкое создание, чертова кукла, и он вспомнил, как она мучилась, когда он пытками добивался от нее признания. Ему хотелось увидеть, как она горит, услышать пронзительные крики, свидетельствующие о ее прибытии к вратам ада, поэтому чем скорее он ответит графу, тем скорее сможет отбыть. Но прежде чем он успел открыть рот, граф сам поторопил его начать разговор:
– Ты что-то скрываешь, Рубер.
Священник терпеть не мог, когда его называли просто по имени. Для него это было напоминанием о том, что граф знал его с детских лет и на свои деньги вывел его в люди.
– Я ничего не скрываю, – возразил он.
– Тогда скажи мне, зачем кардинал-архиепископ прислал в Бера монаха?
Брат Рубер оторвался от созерцания огня и обернулся к графу.
– Вероятно, излишне напоминать тебе о том, что бывшее графство Астарак теперь является частью владений Вера?
Граф уставился на отца Рубера в недоумении, не сразу сообразив, о чем речь.
– Господи, а ведь и правда! – пробормотал он, сотворив крестное знамение.
Граф вернулся в свое кресло, почесал голову под шерстяной шапочкой, скользнул взглядом по шахматной доске и снова повернулся к доминиканцу.
– Неужели та старая история?
– О чем-то таком поговаривали, – высокомерно промолвил отец Рубер. – Был в нашем ордене один замечательный человек по имени Бертран де Тайлебур, в этом году он умер в Бретани. Так вот, он будто бы искал нечто важное. Что именно, нам не рассказывали, но поговаривали, что в этих поисках он объединился с одним из отпрысков семейства Вексиев.
– Боже праведный! – воскликнул граф. – Что же ты мне раньше ничего не сказал?
– Разве вы желаете, чтобы я беспокоил вас пересказом всех вздорных слухов, которые гуляют по тавернам? – возразил брат Рубер.
Граф не ответил, он задумался о семействе Вексиев, о бывших графах де Астарак. Когда-то они были могущественными сеньорами, владели обширными землями, но их род связался с еретиками-катарами, и когда Святая церковь огнем и мечом выжигала еретическую чуму, они не покорились, а заперлись, как в последнем прибежище, в своем родовом гнезде, замке Астарак, и защищались там до последней возможности. Разумеется, они были побеждены и почти все погибли, хотя несколько человек, как было известно графу, бежали и очутились в Англии. Руины замка стали приютом воронов и лис, земли вошли в графство Бера, но там сохранилось предание, что род Вексиев был хранителем сокровищ катаров, величайшим из которых являлся Святой Грааль.
Отец Рубер не рассказывал графу об этом предании, потому что сам рассчитывал найти Грааль раньше, опередив всех остальных.
«Ладно, простим ему это желание», – подумал граф.
– Выходит, – промолвил он, обводя взглядом просторное помещение и указывая на книги и свитки, – кардинал-архиепископ верит, что Грааль может быть найден здесь?
– Луи Бессьер – человек жадный, решительный и честолюбивый, – ответствовал доминиканец. – Он готов землю перевернуть, чтобы добыть Грааль.
И тут графа осенило. Он вдруг понял, отчего не сложилась его жизнь.
– Кажется, было такое предание, – промолвил он, размышляя вслух, – будто бы на хранителе Грааля лежит проклятие, снять которое можно, только возвратив чашу Господу?
– Байки, – усмехнулся отец Рубер.
– А если бы Грааль оказался здесь, то, даже если он где-то спрятан, значит, я и есть его хранитель.
– «Если бы», – снова усмехнулся доминиканец.
– Но если так, – гнул свое граф, – то, значит, я проклят Богом за то, что, пусть и невольно, я скрываю под спудом величайшую святыню. – Он покачал головой.
– Господь не даровал мне сына за то, что я прячу у себя чашу, принадлежащую Его сыну.
Неожиданно он метнул в молодого монаха неприязненный взгляд.
– Грааль действительно существует?
Отец Рубер помедлил, потом нехотя кивнул.
– Возможно, да.
– Значит, нужно дать монаху позволение, пускай он ищет, – сказал граф, – а самим постараться опередить его в поисках. Ты, отец Рубер, первым будешь просматривать все документы и дашь брату Жерому только те, где не будет никаких упоминаний о сокровищах, реликвиях и, уж само собой, о Граале.
– Сначала я обращусь за дозволением к моему регенту, – сдержанно ответил священник.
– Никуда ты не будешь обращаться, а немедленно займешься поисками Грааля, – заявил граф, хлопнув по подлокотнику кресла. – Примешься за дело сейчас же и будешь продолжать поиски, пока не прочтешь все до единого пергаменты на этих полках. Или, может быть, ты хочешь, чтобы я выставил твою мать, братьев и сестер из их домов?
Будучи человеком гордым, отец Рубер в душе возмутился, но, так как был далеко не глуп, покорился и с поклоном ответил:
– Я просмотрю все, до последней буквы.
– Ну так приступай!
– Слушаюсь, ваша светлость! – со вздохом согласился отец Рубер, сожалея, что не увидит, как сожгут на костре еретичку.
– Я сам буду тебе помогать, – с воодушевлением заявил граф.
Если в Бера действительно находится величайшее из сокровищ земли и неба, то кардиналу-архиепископу оно не достанется. Граф де Бера доберется до него первым.
Доминиканский монах прибыл в Кастийон-д'Арбизон, когда осенний день подходил к концу. Смеркалось, и привратник уже собирался закрыть западные ворота. Под аркой, в большой жаровне, развели огонь для стражников, ибо ночь ожидалась холодной. Над наполовину починенными городскими стенами и высящейся на крутой вершине башней замка Кастийон-д'Арбизон мелькали летучие мыши.
– Здравствуй, святой отец, – произнес стражник, пропуская в город подоспевшего перед самым закрытием ворот рослого монаха.
Но стражник приветствовал его на своем родном окситанском наречии, монах же не знал этого языка и лишь быстро улыбнулся ему, мимоходом перекрестил и, приподняв подол черной сутаны, направился по главной улице города к замку. Навстречу ему попались вышедшие подышать воздухом после дневной работы служанки. Завидев путника, иные хихикали, стреляли глазками; незнакомый монах, несмотря на легкую хромоту, был видным мужчиной. У него были густые темные волосы, мужественное лицо и темные глаза. Какая-то шлюха окликнула его с порога таверны, насмешив выпивох, угощавшихся за стоящим на улице столиком. Мясник ополоснул свой прилавок водой из деревянного ведра, кровавые помои потекли в сточную канаву под ногами монаха, в то время как над его головой какая-то женщина, высунувшись из окна с развевающимся на шесте мокрым бельем, поливала бранью свою соседку. Западные ворота, от которых начиналась улица, с грохотом захлопнулись, и тяжелый засов с глухим стуком встал на место.
Не обращая внимания на то, что происходило вокруг, монах поднялся к прилепившейся у подножия бастиона церкви Святого Сардоса. Войдя в церковь, он опустился на колени у ступенек алтаря, сотворил крестное знамение и простерся ниц. Одетая в черное женщина, молившаяся в боковом приделе Святой Агнесы, при виде зловещего доминиканского одеяния тоже перекрестилась и поспешила прочь из церкви. Монах лежал неподвижно перед алтарем и ждал.
Городской сержант в серо-красной форме Кастийон-д'Арбизона увидел монаха, когда тот поднимался по склону, и обратил внимание, что тот одет в поношенную рясу с заплатами, сам же молод и крепок. Сержант поспешил к одному из городских консулов, каковое официальное лицо, нахлобучив на седые волосы отороченную мехом шапку, приказало сержанту привести еще двух стражников, а сам позвал отца Медоуза и велел ему захватить с собой одну из двух его церковных книг. Едва эта группа подошла к церкви, как вокруг стали собираться зеваки, и консулу пришлось повысить голос, приказывая им разойтись.
– Нечего тут глазеть! – сказал он начальственным голосом.
Как бы не так! Посмотреть было на что, ведь в Кастийон-д'Арбизон явился чужак, а все пришлецы вызывали подозрение. Поэтому зеваки остались и наблюдали за тем, как консул набросил обозначавшую его сан серо-красную, отороченную заячьим мехом мантию и приказал трем сержантам отворить церковную дверь.
Трудно сказать, чего ожидали люди: что из церкви Святого Сардоса выскочит сам дьявол? Воображали себе изрыгающее дым рогатое чудовище с черными крыльями и раздвоенным хвостом? Однако увидели всего лишь, как по кивку священника в храм вошел консул в сопровождении двух стражников, оставив у дверей старшего сержанта, с церемониальным жезлом, увенчанным эмблемой Кастийон-д'Арбизона – изображением ястреба, несущего сноп ржи. Толпа замерла в ожидании. Женщина, выскочившая из церкви, сказала, что монах молится.
– Только лицо у него злое, – добавила она. – Как хотите, а есть в нем что-то дьявольское.
После этих слов женщина торопливо осенила себя крестным знамением.
Когда священник, консул и два стражника зашли в церковь, монах по-прежнему лежал ниц перед алтарем, раскинув руки крестом. Громкого топота подбитых железом сапог по каменным плитам нельзя было не расслышать, но он не шелохнулся и не заговорил.
– Paire? – тревожно окликнул лежащего священник Кастийон-д'Арбизона.
Он говорил на окситанском, и монах не ответил.
– Святой отец? – повторил местный клирик по-французски.
– Ты доминиканец? – вмешался консул, не дожидаясь, когда незнакомец ответит на робкое обращение отца Медоу-за. – Отвечай же!
Он спрашивал тоже по-французски, и строгим тоном, как подобало видному горожанину Кастийон-д'Арбизона.
– Ты доминиканец?
Закончив молиться, монах в следующую секунду сложил над головой вытянутые руки, помедлил еще мгновение и, встав наконец с пола, обернулся к представителям городка.
– Я проделал долгий путь, – властно произнес он, – и мне требуется постель, пища и вино.
Консул повторил свой вопрос:
– Ты доминиканец?
– Я следую путем благословенного святого Доминика, – подтвердил брат. – Вино не обязательно должно быть хорошим, пища подойдет та, какую едят у вас последние бедняки, а для постели достаточно простой соломы.
Консул в нерешительности помолчал. Монах был рослый, судя по всему, сильный – поневоле оробеешь, однако консул, человек богатый, влиятельный и всеми уважаемый, взял себя в руки и заговорил свысока.
– Очень уж ты молод для монаха, – попытался он уличить пришельца.
– Годы не помеха тому, чтобы славить Господа, – ответствовал доминиканец, – и Ему угодно, чтобы иные люди с юных лет предпочитали крест мечу. Я могу заночевать в конюшне.
– Твое имя? – требовательно спросил консул.
– Томас.
– Английское имя!
В голосе консула прозвучала тревога, и двое сержантов подняли на изготовку свои длинные жезлы.
– Фома, если тебе так удобнее, – промолвил монах, которого, похоже, городские стражники с их палками ничуть не испугали. – Так меня нарекли при крещении. Если ты помнишь, так звали беднягу-апостола, усомнившегося в чудесном воскрешении нашего Спасителя. Если ты, в отличие от него, чужд сомнения, то я завидую тебе и молю Господа, чтобы он и мне даровал такую уверенность.
– Ты француз? – спросил консул.
– Я норманн, – ответил монах, потом кивнул: – Да, конечно француз. – Он посмотрел на священника. – Ты говоришь по-французски?
– Да, – нервно отозвался священник. – Немного. Чуть-чуть.
– Тогда будет ли мне позволено нынче вечером вкусить хлеб в твоем доме, отец?
Консул вмешался и, не дав отцу Медоузу ответить, велел священнику дать монаху книгу. Книга была старинная, источенная червями, завернутая в мягкую черную кожу.
– Чего ты хочешь от меня? – спросил доминиканец.
– Прочти-ка что-нибудь из этой книги.
Консул приметил, что руки брата в шрамах, а пальцы слегка скрючены, и подумал, что такое увечье более естественно для солдата, нежели для клирика.
– Читай вслух, – настаивал он.
– А сам не можешь? – с насмешкой спросил монах.
– Могу я читать или нет, – проворчал консул, – это не твое дело. Зато наше дело – проверить, знаешь ли ты грамоту. Коли ты не монах, то ничего не прочтешь. Так что давай читай!
Доминиканец пожал плечами, открыл наугад страницу и помолчал. Его молчание усилило подозрения консула, уже поднявшего руку, чтобы дать знак сержантам, но тут монах начал читать. У него оказался приятный голос, уверенный и сильный, и латинские слова полились мелодично, отдаваясь эхом от расписанных стен церкви. В следующий миг консул поднял руку, чтобы брат замолчал, и вопросительно посмотрел на отца Медоуза.
– Ну?
– Он читает хорошо, – робко пробормотал отец Медоуз.
Собственная латынь священника была далека от совершенства, и ему не хотелось признаваться в том, что он в гулких звуках не совсем разобрал слова, хотя, вне всякого сомнения, убедился в том, что доминиканец и вправду грамотей.
– Ты знаешь, что это за книга? – спросил консул.
– Я полагаю, – сказал монах, – это житие святого Григория. Этот отрывок, как ты несомненно понял, – заметил он с ноткой сарказма, – описывает мор, каковой падет на тех, кто дерзает нарушить Господни заветы.
Он обернул мягкую черную обложку вокруг книги и протянул ее священнику.
– Ты, очевидно, знаешь, что эта книга называется «Flo-res Sanctorum».
– Как не знать!
Священник взял книгу и кивнул консулу.
Но консула все еще одолевали сомнения.
– У тебя все руки искалечены и нос перебит, – заметил он. – Где это тебя угораздило?
– Это в детстве, – ответил монах, вытянув руки. – Мне приходилось спать вместе со скотиной, и меня потоптал бык. А нос мне сломала матушка, когда учила уму-разуму сковородкой.
Такое обыденное объяснение консулу показалось правдоподобным, и он несколько успокоился.
– Сам понимаешь, святой отец, – сказал он монаху, – нынче такое время, что с людьми пришлыми надобно держать ухо востро.
– Даже со служителями Господа? – язвительно уточнил монах.
– Всегда надо убедиться наверняка, – пояснил консул. – Из Оша к нам недавно прислали сообщение, где говорится о появившемся в окрестностях отряде англичан. Никто не знает, куда они поскакали.
– Нынче ведь перемирие, – заметил доминиканец.
– Когда это англичане соблюдали перемирие?
– Если это вообще англичане, – презрительно скривился монах. – В последнее время любую шайку разбойников с большой дороги принимают за англичан. У вас тут есть стража. – Он указал на сержантов, которые не знали французского и не понимали ни слова. – Есть церкви и священники, так что же вам бояться каких-то там бандитов?
– Это банда англичан, – упорствовал консул. – У них были боевые луки.
– Однако, как бы там ни было, для меня это ничего не меняет. Повторяю: я проделал долгий путь, устал, проголодался и истомился от жажды.
– Отец Медоуз позаботится о тебе, – сказал консул.
Он подал знак своим сержантам и, сопровождаемый ими, вышел из церкви на маленькую площадь.
– Беспокоиться не о чем! – объявил консул толпе. – Наш гость – монах. Божий человек.
Маленькая толпа разошлась. Сумерки окутали церковную колокольню и сомкнулись вокруг крепостных стен замка. В Кастийон-д'Арбизон пришел божий человек, и городок мог спокойно спать.
Божий человек, уминая капусту с бобами и соленым беконом, рассказал отцу Медоузу, что он совершил паломничество к гробнице Святого Иакова, что в Сантьяго-де-Компостела, в Испании, и теперь держит путь в Авиньон за новыми распоряжениями от начальников. Никаких отрядов, ни английских, ни чьих-то других, ему по дороге не попадалось.
– Мы не видели англичан уже многие годы, – промолвил отец Медоуз, поспешно сотворив крестное знамение, чтобы отвратить упомянутое зло, – хотя до этого они у нас похозяйничали.
Монах, уминавший капусту, не проявил к этому известию ни малейшего интереса.
– Мы платили им подати, – продолжил отец Медоуз, – но потом они ушли, и ныне наш сеньор – граф де Бера.
– Надеюсь, он благочестивый человек, – сказал Томас.
– О, очень набожный, – заверил его священник. – У него в церкви хранится солома из Вифлеема, из яслей младенца Иисуса. Вот бы посмотреть, хоть краешком глаза!
– А в вашем замке, наверное, стоит его гарнизон? – между делом поинтересовался монах, проигнорировав более интересную тему о соломе, служившей ложем младенцу Иисусу.
– Конечно, – подтвердил отец Медоуз.
– И эти солдаты ходят к мессе?
Отец Медоуз замялся, но соврать так и не решился, а потому остановился на полуправде.
– Некоторые ходят.
Монах отложил деревянную ложку и устремил на смущенного священника строгий взгляд.
– Сколько их? И сколько же человек ходят к мессе?
Отец Медоуз пришел в смятение. Появление доминиканцев всегда приводило приходских пастырей в смятение, ибо «псы Господни» славились беспощадной суровостью в искоренении ереси, и если этот рослый молодой человек донесет своим начальникам, что народ Кастийон-д'Арбизона недостаточно набожен, сюда может нагрянуть инквизиция. С орудиями пыток и прочими прелестями.
– Гарнизон состоит из десяти человек, – пролепетал отец Медоуз, – и все они добрые христиане. Как и вся моя остальная паства.
– Так уж и все? – скептически хмыкнул брат Томас.
– Стараются, как могут. Только…
Он снова замялся, очевидно, пожалев о чуть не сорвавшемся с языка уточнении, и, чтобы скрыть неловкость, встал и подбросил полешко в маленький очаг. Порыв ветра залетел в дымоход, по комнатушке заклубился дым.
– Северный ветер, – сказал отец Медоуз, – он всегда приносит первые осенние холода. Зима-то уж не за горами.
– Так что же – «только»?
Монах все-таки заметил его колебание.
Отец Медоуз, садясь на место, вздохнул.
– Есть тут одна девица, из нищенствующих. Сама она, слава богу, родом не из Кастийон-д'Арбизона, но находилась здесь, когда умер ее отец. Настоящая нищенствующая.
– Вот уж не думал, что нищенствующие попадаются так далеко на юге, – промолвил монах.
Так называемые «нищенствующие» были не просто безобидными нищими или попрошайками. Эти опасные еретики отрицали Святую церковь, проповедовали общность имущества и отвергали необходимость труда, утверждая, что, коль скоро все сущее даруется Богом, все блага должны быть равно и свободно доступны для каждого. Поэтому церковь, ограждая себя от подобной заразы, ловила нищенствующих и отправляла их на костер.
– Они ведь бродят по дорогам, – указал отец Медоуз, – вот она и забрела к нам, ну а уж мы спровадили ее на суд епископа. Девицу признали виновной, и теперь она снова здесь.
– Снова здесь? – возмущенно воскликнул монах.
– Ее препроводили сюда для сожжения, – поспешно пояснил отец Медоуз. – Казнь должны осуществить светские власти. Епископ хочет, чтобы народ увидел ее смерть и порадовался избавлению от зла.
Брат Томас нахмурился.
– Ты говоришь, что она была признана виновной в ереси и отправлена сюда на смерть, между тем она еще жива. Почему?
– Ее должны сжечь завтра, – зачастил священник. – Я ожидал отца Рубера. Он доминиканец, как и ты, и именно он уличил эту девицу в ереси. Может быть, он приболел? Так или иначе, я получил от него письмо, в котором объясняется, как следует разложить и разжечь костер.
Брат Томас презрительно скривился.
– Тоже мне наука! Тут всего-то и нужно, что охапка дров, столб, лучина для растопки да проклятый еретик. Так чего же еще тебе не хватает?
– Отец Рубер настаивал, чтобы мы использовали маленькие вязанки прутьев и чтобы устанавливали их стоймя. – Священник проиллюстрировал это требование, сложив свои пальцы вместе, как стебельки спаржи. – Связки прутьев, написал он мне, и все концами вверх, ни в коем случае не плашмя. На этом он особенно настаивает.
Брат Томас понимающе усмехнулся.
– Это чтобы огонь горел ярко, но не слишком жарко, да? Она будет умирать медленно.
– Так угодно Богу, – сказал отец Медоуз.
– Медленно и в ужасных мучениях, – повторил монах, смакуя эти слова. – Воистину, Богу угодно, чтобы так умирали еретики.
– Я так и устроил, как было велено, – слабо добавил отец Медоуз.
– Хорошо. По заслугам этой девчонке. – Монах подчистил блюдо ломтиком темного хлеба. – Я с удовольствием посмотрю, как она умирает, а потом продолжу путь. – Он перекрестился. – Благодарю тебя за трапезу.
Отец Медоуз жестом указал на место у очага, где он положил несколько одеял.
– Спать можешь здесь.
– Хорошо, отец, – сказал доминиканец, – но сперва я помолюсь святому Сардосу. Правда, я о нем не слыхал. Можешь ты рассказать мне, кто он такой?
– Козий пастух, – ответил отец Медоуз, который, по правде сказать, вовсе не был уверен в том, что этот Сардос существовал в действительности. Местные жители, однако, горой стояли за «своего» святого, они почитали его с незапамятных времен. – Некогда сей добрый пастырь увидел на холме, на том месте, где нынче стоит город, невинного агнца Божия. За агнцем охотился волк. Пастух спас его, а Господь в награду осыпал его золотым дождем.
– Как и подобает, – отозвался брат Томас и встал. – Ты пойдешь со мной помолиться святому Сардосу?
Отец Медоуз подавил зевок.
– Я бы охотно… – замямлил он.
– Я не настаиваю, – великодушно разрешил монах. – Ты не запрешь дверь на засов?
– Моя дверь всегда открыта, – ответил священник и облегченно вздохнул, когда неприятный гость, наклонясь под притолокой, шагнул за порог и исчез в темноте.
– Монах, а молодец хоть куда! – с улыбкой заметила, высунувшись из кухни, домоправительница отца Медоуза. – Он заночует у нас?
– Да, заночует.
– Тогда я лучше лягу спать на кухне, – промолвила служанка. – А не то тебе первому не поздоровится, если доминиканец застанет тебя в постели в обнимку со мной. Чего доброго, еще отправит нас с тобой на костер заодно с еретичкой.
Она рассмеялась и стала убирать со стола.
Монах между тем отправился вовсе не в церковь. Пройдя несколько шагов до ближайшей таверны, он распахнул дверь. Посетители уставились на его хмурое лицо, и шум в помещении мгновенно стих. Воцарилась тишина. Клирик передернул бы от отвращения при виде такого беспутства, затем отпрянул и закрыл за собой дверь. Тишина продлилась еще несколько мгновений, а потом все покатились со смеху. Кто-то высказал предположение, что молодой попик, должно быть, искал сговорчивую шлюху, другие решили, что он просто ошибся дверью, но, так или иначе, спустя миг-другой все выбросили его из головы.
Монах, прихрамывая, снова направился вверх по склону к церкви Святого Сардоса, но, приблизившись к ней, не вошел в святилище бывшего козопаса, а затаился в темной тени контрфорса, прислушиваясь к немногим звукам ночного Кастийон-д'Арбизона. Из таверны доносились пение и смех, но молодого человека куда больше заинтересовали шаги часового, расхаживавшего по городской стене, которая как раз позади церкви соединялась с крепостной стеной замка. Шаги приблизились, замерли, а потом начали удаляться. Монах сосчитал до тысячи, а часовой так и не вернулся. Тогда он еще раз сосчитал до тысячи, уже на латыни, и, убедившись, что наверху по-прежнему все тихо, шагнул к деревянной лестнице, ведущей на стену. Ступеньки заскрипели под его весом, но никто его не окликнул. Оказавшись на стене, он пристроился возле высокой замковой башни. Луна была на ущербе, и в густой тени черное монашеское одеяние делало его невидимым. Он внимательно оглядел отрезок стены, повторяющей контур холма, до поворота к западным воротам, откуда виднелись красные отблески огня от горящей жаровни. Часовые не показывались на стене, и монах рассудил, что караульные, должно быть, греются у огня. Он поднял глаза, но не приметил никакого движения ни на зубчатой стене замка, ни в двух бойницах, тускло светившихся от зажженных внутри фонарей.
В битком набитой таверне клирик приметил трех человек в одеянии городских стражников; возможно, там были и другие, которых он не заметил. Решив, что доблестный гарнизон либо предается пьянству, либо просто дрыхнет, он приподнял полы черной рясы и развязал обмотанную вокруг пояса бечевку. Свитая из конопляной пеньки и пропитанная клеем, как тетива грозного английского боевого лука, бечевка эта была достаточно длинной, чтобы, привязанная к одному из верхних зубцов, она достала до земли. Сделав это, монах чуть-чуть задержался, внимательно глядя вниз. Город и замок были построены на крутом утесе, вокруг которого река делала петлю, и он слышал, как журчит вода, переливаясь через запруду. Ему был виден отблеск лунного света на поверхности пруда, но ничего больше. Повеяло холодным ветром, и он, отступив в глубокую тень, опустил капюшон на лицо.
Снова показался караульный, но, дойдя лишь до половины стены, постоял, выглянул за парапет и неспешно пошел обратно к воротам. Спустя мгновение раздался тихий прерывистый, как птичья трель, посвист, и монах, подойдя к бечевке, втянул ее обратно на стену. Теперь к ней была привязана крепкая веревка, которую он обмотал вокруг зубца.
– Можно! – сообщил он кому-то внизу приглушенным голосом по-английски и вздрогнул, когда о стену зашаркали сапоги того, кто полез по ней наверх.
Взобравшись, тот крикнул, переваливаясь через парапет, громко лязгнул ножнами, но подъем был закончен, и он, пригнувшись, опустился на корточки рядом с монахом.
– Вот, – сказал он, вручая доминиканцу английский боевой лук и холщовый мешок со стрелами.
А на стену уже карабкался следующий, с луком за спиной и мешком стрел у пояса. Он был куда проворнее первого и забрался на стену, не наделав шума. Затем к этим двоим присоединился третий.
– Ну и каково оно было? – спросил монаха первый.
– Страшновато.
– Они не заподозрили тебя?
– Сунули под нос латинскую книгу и велели прочесть, чтобы убедиться, что я настоящий клирик.
– Ну и дураки, а? – Эти слова прозвучали с заметным шотландским акцентом. – Что дальше?
– Замок.
– Господи, помоги!
– До сих пор он помогал. Как ты, Сэм?
– В горле пересохло, – послышался ответ.
– Возьми-ка, подержи, – сказал Томас, дав Сэму лук и мешок со стрелами, и, удивившись, что часовой так и не появился, повел трех своих товарищей по деревянным ступенькам в проулок рядом с церковью, выходящий к маленькой площади перед воротами замка.
В лунном свете чернели вязанки заготовленного для завтрашней казни хвороста, в середине торчал столб с цепью, к которому предстояло приковать еретичку.
Высокие ворота замка были достаточно широки, чтобы во внутренний двор могла заехать сельская телега, в одной створке был проход с деревянной дверцей. Монах, оставив позади своих спутников, глухо постучал в нее. Последовала пауза, потом шаркающие шаги, и голос из-за дверцы спросил: «Кто идет?» Томас не ответил, лишь постучал снова, и стражник, ожидавший возвращения из таверны своих товарищей, ничего не заподозрив, откинул оба засова, на которые была заперта дверь. Томас вышел на свет озаряющих помещение под аркой двух больших факелов и увидел удивленное выражение на лице караульного, возникшее при виде доминиканского монаха. Удивление так и не сошло с его лица, когда монах нанес ему два резких удара, в подбородок и под дых. Стражник отлетел к стене. Томас зажал ему рот, а Сэм и двое его спутников проскользнули в ворота и заперли их за собой. Стражник зашевелился, но, получив коленом в живот, издал придушенный писк.
– Проверьте в караульной, – велел Томас своим сподвижникам.
Сэм, держа наготове лук со стрелой, распахнул дверь в сторожку и обнаружил там только одного человека; на столе перед ним стоял бурдюк с вином, лежали разбросанные игральные кости и рассыпанные монеты. При виде добродушной круглой физиономии Сэма караульный удивленно разинул рот, да так с разинутым ртом и отлетел к стене, пораженный стрелой в грудь. Подскочив к нему, Сэм выхватил нож, и кровь из перерезанной глотки брызнула на каменную стену.
– Неужели обязательно было его убивать? – спросил Томас, заталкивая в помещение первого стражника.
– А чего он вылупился на меня, ровно я призрак, – буркнул Сэм, сгребая со стола монеты в мешок со стрелами. – Этого, – он указал на первого стражника, – тоже прикончить?
– Нет, – сказал Томас. – Робби, свяжи его.
– А что, если он поднимает шум? – спросил шотландец.
– Тогда пускай Сэм убьет его.
Третий из людей Томаса, тощий косоглазый малый по имени Джейк, вошел в караульное помещение и при виде свежей крови на стене ухмыльнулся. Как и у Сэма, у него был лук, мешок со стрелами, на поясе меч. Первым делом его внимание привлек бурдюк с вином.
– Не сейчас, Джейк, – сказал Томас, и долговязый, сухопарый вояка с жестоким лицом беспрекословно повиновался приказу, хоть и был старше.
Томас подошел к двери караульного помещения. Он знал, что гарнизон насчитывает десять человек, причем один из них мертв, один взят в плен, а как минимум трое находятся в таверне. Оставалось еще пятеро. Он оглядел внутренний двор, но там было пусто, если не считать крестьянской подводы с наваленными на нее тюками и бочками. Перейдя к подставке с оружием у стены караульного помещения, Томас выбрал короткий меч, попробовал лезвие и нашел его достаточно острым.
– Ты говоришь по-французски? – спросил он пленника.
Тот покачал головой, слишком напуганный, чтобы говорить.
Томас оставил Сэма стеречь пленника.
– Если кто-нибудь постучит в ворота замка, – сказал он, – не обращай внимания. Если этот, – он движением головы указал на пленника, – будет шуметь, убей его. Не пей вина. Будь настороже.
Он закинул лук за плечо, заткнул две стрелы за веревку, служившую поясом его монашеского одеяния, и подал знак Джейку и Робби. Шотландец, облаченный в короткую кольчугу, держал в руке меч.
– Не шуметь! – предостерег Томас, и все трое выскользнули во двор.
Кастийон-д'Арбизон слишком долго жил в мире. Гарнизон был маленьким и беспечным, его обязанности сводились к тому, чтобы собирать пошлину с ввозившихся в город товаров и отправлять выручку в Бера, где жил их сеньор. От безделья люди разленились и расклеились, в то время как переодетый доминиканцем Томас из Хуктона много месяцев провел на войне и инстинктивно вел себя так, как будто смерть может поджидать его за каждым углом. Робби, хоть и был на три года моложе своего друга, поднаторел в этом деле ничуть не меньше, ну а косоглазый Джейк всю жизнь только и делал, что убивал.
Они начали с подземелья замка и во мраке каменных сводов обнаружили шесть смердящих темниц. Лишь из каморки тюремщика лилось слабое мерцание свечи. Вошедшие застали там чудовищно заплывшего жиром хозяина в обществе менее корпулентной супруги. Томас кольнул толстяка мечом в шею, чтобы тот почуял кровь, после чего спровадил парочку в один из казематов и велел запереть. Из одной темницы подала голос девушка, но Томас шикнул на нее, чтобы помалкивала. Она ругнулась в ответ, но умолкла.
Один долой, остается четверо. Они снова выбрались во двор. Трое слуг, двое из них мальчишки, спали в конюшне, и Робби с Джейком отвели их вниз, в подземелье, после чего вместе с Томасом поднялись на двенадцать ступеней вверх и очутились в главной башне замка. Не останавливаясь, они пошли наверх по винтовой лестнице.
Слуги, как полагал Томас, не входили в число солдат гарнизона. Несомненно, в замке должны быть и повара, и конюхи, и писцы, но сейчас его интересовали не они, а только солдаты. Двоих он обнаружил в одном из казематов: оба крепко спали, каждый в обнимку с женщиной. Томас разбудил их, швырнув в помещение факел, взятый из держателя на лестнице. Люди, встрепенувшись, сели, в изумлении глядя на монаха, держащего в руках лук с наложенной стрелой. Одна из женщин собралась было завизжать, но при виде стрелы, нацеленной ей прямо в глаз, у нее пропал голос. У остальных тоже хватило ума не орать.
– Свяжи их, – сказал Томас.
– Быстрее будет перерезать им глотки, – предложил Джейк.
– Свяжи их, – повторил Томас, – и заткни им рты.
Времени на это ушло немного. Робби мечом разрезал одеяло на полоски, а Джейк связал всех четверых. Одна из женщин оказалась нагой, и Джейк, связав ей запястья и подвесив ее за связанные руки на вбитый в стену крюк, ухмыльнулся:
– Хороша милашка.
– Потом, – сказал Томас.
Он стоял у двери, напряженно прислушиваясь. В замке могли находиться еще двое бойцов, но он ничего не слышал. Четверых пленников подцепили на металлические крючья, на которых обычно висели мечи и кольчуги, и, когда все они были лишены возможности двигаться и шуметь, Томас поднялся еще на один пролет лестницы. Там он уперся в большую дверь. Джейк и Робби следовали за ним, их сапоги производили легкий шум на истертых каменных ступеньках. Жестом призвав их к тишине, Томас толкнул дверь. Она не поддалась, и ему даже показалось, что дверь заперта, но после второго, более сильного толчка тяжелая створка со страшным скрипом проржавевших металлических петель отворилась. Звук был такой, что поднял бы и покойника, и напуганный этим шумом Томас увидел перед собой большой, увешанный гобеленами зал. Скрип несмазанных петель смолк, в зале воцарилась тишина. Слабый огонь, теплящийся в большом очаге, давал достаточно света, чтобы увидеть, что в помещении пусто. В дальнем конце возвышался помост, где, наведываясь в Кастийон-д'Арбизон, восседал сеньор городка, граф Бера. Сейчас возвышение пустовало, однако в противоположной стене за полукруглой аркой, завешанной старым гобеленом, располагался альков. Сквозь побитую молью ткань сквозил мерцающий свет.
Робби проскользнул мимо Томаса, двигаясь вдоль стены под пропускавшими косые лунные лучи бойницами, поднялся на помост. Томас наложил на черный лук стрелу, взялся за тетиву и, ощущая упругую мощь тисового лука, оттянул ее к уху. Робби покосился на него и, увидев, что он готов, сделал выпад мечом, чтобы отбросить в сторону вытертый гобелен.
Однако не успел он коснуться гобелена, как эта завеса было сметена выскочившим из алькова могучим гигантом. Он с таким ревом и так внезапно налетел на шотландца, что захватил его врасплох. Не успел Робби как следует замахнуться мечом, как верзила уже набросился на него с кулаками. Но тут прозвенела тетива могучего лука.
Стрела, которая могла сразить рыцаря в доспехах с двухсот шагов, пробила нападавшему грудную клетку и швырнула его на пол вместе с Робби. Шотландец оставался наполовину придавленным тяжелым телом, его меч выпал, стукнувшись о толстые доски пола. Из алькова раздался женский визг. Томас решил, что раненый человек был кастеляном, командиром гарнизона, но едва он подумал, что хорошо бы тот еще немного пожил, чтобы задать ему несколько вопросов, как Робби, не знавший, что его противник уже пронзен стрелой, выхватил кинжал и несколько раз воткнул в его жирную шею. Темная, липкая кровь разливалась по половицам. Толстяк давно умер, а Робби продолжал наносить удар за ударом. Женщина продолжала кричать.
– Заткни ее! – велел Томас Джейку и подошел, чтобы стащить тяжелое тело с шотландца.
Длинная ночная рубашка мужчины была теперь красной. Джейк отвесил женщине оплеуху, после чего наконец-то воцарилась тишина.
Солдат в замке больше не было. С десяток спящих слуг нашлось в кухнях и кладовках, но они не доставили много хлопот. Их отвели в казематы, после чего Томас поднялся на самую вершину главной башни, откуда открывался вид на крыши домов ничего не подозревающих жителей Кастийон-д'Арбизона, и помахал пылающим факелом. Сделав три взмаха, он бросил факел в кусты у подножия крутого склона, на котором стояли замок и город, и направился к западной стороне крепостной стены, где положил на парапет дюжину стрел. Здесь к нему присоединился Джейк.
– Сэм с сэром Робби остались у ворот, – сказал лучник.
Вообще-то Робби не был посвящен в рыцари, но он был знатного рода, и люди Томаса величали молодого Дугласа «сэром». Лучникам шотландец нравился, как и самому Томасу, поэтому-то он ослушался своего лорда и взял шотландца с собой.
Джейк положил на парапет и свои стрелы.
– Легко у нас вышло, а?
– Мы их захватили врасплох, – сказал Томас.
На самом деле это было не так: город был предупрежден о появлении в окрестностях английского отряда, но горожане почему-то понадеялись, что англичане к ним не заявятся. Горожане уже давно жили в мирных условиях и уверовали, что так будет всегда. Им казалось, что стены и стража нужны им только для защиты от наводнявших окрестности разбойничьих шаек, а не от англичан. Против разбойников высокие стены и сонные часовые служили достаточной защитой, но не оградили их от настоящих воинов.
– Как ты перебрался через реку? – спросил он Джейка.
– У запруды, – коротко ответил Джейк.
В сумерках они провели разведку окрестностей, и Томас понял, что мельничная запруда – самое легкое место для переправы через глубокую и быструю реку.
– А мельник?
– Перепугался, – сказал Джейк, – и вел себя тихо.
Томас услышал треск ломающихся прутьев, шарканье ног и глухой звук, с которым встала на место прислоненная в углу между городской стеной и замком лестница. Он свесился с внутреннего парапета и крикнул вниз:
– Эй, Робби, можешь открыть ворота!
Наложив стрелу на тетиву, Томас устремил взгляд на длинный отрезок освещенной лунным светом стены.
Внизу вереница людей взбиралась по лестнице, подтягивая оружие и мешки. Перебросив поклажу через парапет, они следом перелезали сами. Дверца в створке ворот, где теперь караулили Робби с Сэмом, отворилась скоро, колонна воинов, позвякивая кольчугами, потянулась от городской стены к замковым воротам. В замок Кастийон-д'Арбизона вступал новый гарнизон.
На дальнем конце стены показался часовой. Неторопливо шагая к замку, он вдруг заслышал звук мечей, луков и поклажи, глухо ударявшейся о камень. Он замешкался, не зная, подойти ли поближе и посмотреть, что происходит, или бежать скорей за подмогой. Пока бедняга колебался, Томас и Джейк выпустили стрелы.
На часовом была толстая кожаная куртка, неплохо защищавшая от дубинки пьяного буяна, но обе стрелы насквозь прошили и кожу, и подкладку, и грудь, так что два наконечника вышли из спины. Стражника отбросило назад: древко со стуком выпало из его руки, а сам он упал и, дернувшись несколько раз в лунном свете, испустил дух.
– Что будем делать теперь? – спросил Джейк.
– Соберем подати, – сказал Томас, – и начнем рыскать по окрестностям и шуметь.
– До каких пор?
– Пока кто-нибудь не явится нас убивать, – сказал Томас, думая о своем кузене.
– И тогда мы сами его убьем?
Джейк, хоть и был косоглазым, на жизнь смотрел очень прямолинейно.
– С Божьей помощью, – отозвался облаченный в монашеское одеяние Томас и осенил себя крестом.
Последние из людей Томаса взобрались на стену и втащили за собой лестницу. С полдюжины человек осталось в миле от города, за рекой, спрятавшись в лесу, они стерегли лошадей, но основная часть отряда Томаса находилась теперь внутри замка, ворота которого снова были на запоре. Мертвый часовой лежал на стене, и из его груди торчали две длинные стрелы с гусиным оперением. Никто из жителей нападения не заметил, весь Кастийон-д'Арбизон, от мала до велика, либо спал, либо предавался пьянству.
И тут поднялся крик.
Томас не ожидал, что нищенствующая еретичка, которую должны были сжечь поутру, окажется в темнице замка. Он думал, что в городе должна быть своя тюрьма, но, очевидно, узница была передана под охрану гарнизона и теперь поносила и кляла своих недавних тюремщиков, заточенных в соседних казематах. Ее крики встревожили лучников и ратников, которые забрались на стену Кастийон-д'Арбизона и захватили замок. Толстая жена тюремщика, немного говорившая по-французски, сейчас призывала англичан, чтобы те пришли и прикончили девку.
– Она проклятая еретичка, которая снюхалась с дьяволом! – орала толстуха.
Сэр Гийом д'Эвек одобрительно отнесся к ее предложению.
– Выведи ее во двор, – сказал он Томасу, – и я отрублю ее чертову башку.
– Она должна сгореть, – сказал Томас. – Таков приговор церкви..
– И кто же ее сожжет?
Томас пожал плечами.
– Городские власти? Может быть, мы? Я не знаю.
– Ну раз ты не хочешь, чтобы я убил ее сейчас, так хотя бы заткни ее проклятую пасть, – сказал сэр Гийом.
Он вытащил нож и протянул Томасу.
– Отрежь ей язык.
Томас не посмотрел на клинок. Он еще не успел снять монашеское облачение, поэтому подобрал полы длинной сутаны, чтобы спуститься к темницам, где девушка кричала по-французски пленникам в других камерах, что все они умрут и что дьявол будет отплясывать на их костях под музыку, наигрываемую чертями. Он зажег от догоравшего факела светильник с фитилем из ситника, подошел к камере нищенствующей и поднял два засова.
При звуке отодвигавшихся засовов она затихла, а когда массивная дверь отворилась, отпрянула к дальней стене темницы. Джейк последовал за Томасом вниз и, увидев девушку в тусклом свете светильника, издал смешок.
– Хочешь я ее успокою, а?
– Ступай лучше поспи, Джейк, – сказал Томас.
– Не надо, обойдусь, – настаивал Джейк.
– Поспи! – рявкнул Томас, вдруг рассердившись, потому что девушка выглядела такой беззащитной.
Беззащитной она выглядела потому, что была обнаженной. Голая, в чем мать родила, тоненькая, как стрелка, мертвенно-бледная, искусанная блохами, с грязными слипшимися волосами, с распахнутыми глазами, похожая на дикого зверька. Она сидела на вонючей соломе, обхватив руками прижатые к груди коленки, чтобы скрыть свою наготу. Набрав в грудь побольше воздуха, словно собирая последние остатки храбрости, она заговорила по-французски осипшим, сорванным голосом:
– Ты англичанин.
– Я англичанин, – подтвердил Томас.
– Но английский поп ничем не лучше любого другого, – бросила она горько.
– Возможно, – согласился Томас. Он поставил светильник на пол и сел рядом с открытой дверью, поскольку в камере стояла жуткая вонь. – Я только хочу, чтобы ты перестала орать и будоражить людей.
Она возвела глаза к потолку.
– Нынче утром меня сожгут, – промолвила она. – Так неужели ты думаешь, я пожалею, что помешала каким-то дуракам выспаться?
– Подумала бы лучше о своей душе, – посоветовал Томас. Но эти благочестивые слова не произвели на еретичку ни малейшего впечатления. Тростниковый фитиль горел плохо, слабый огонек еле просвечивал сквозь роговой колпак мутно-желтым светом.
– С чего это они забрали у тебя одежду? – спросил он.
– Потому что я оторвала от платья полоску и пыталась задушить тюремщика.
Голос ее был спокойным, но взгляд, брошенный на Томаса, был дерзким и вызывающим, как будто она заранее ожидала осуждающих слов.
Лучник с трудом удержался от улыбки, представив себе, как эта хрупкая девушка бросается на толстенного тюремщика, но он не показал виду, а продолжал свои расспросы:
– Как тебя звать?
– Никак! – ответила она. – Меня объявили еретичкой и отняли имя. Меня отлучили от христианского мира, я уже одной ногой на том свете.
Неожиданно девушка умолкла и отвела от него негодующий взгляд. Томас проследил за ним и увидел остановившегося на пороге Робби. Шотландец во все глаза глядел на нищенствующую с выражением восторга и почти священного трепета. Томас невольно присмотрелся к девушке и только тут разглядел, что под слоем грязи и налипшей соломенной трухи скрывается настоящая красавица. Белокурые волосы ее отливали золотом, не тронутое оспой лицо было гладким, без единой рябинки. Выражение его было смелое. У нее был высокий чистый лоб, пухлые губы и высокие скулы. Необыкновенное лицо! Шотландец разглядывал ее с таким нескрываемым интересом, что девушка, смущенная этим вниманием, еще выше подтянула колени к груди.
– Уйди отсюда, Робби, – сказал Томас.
Он понял, что шотландец влюбился. Робби смотрел на девушку такими голодными глазами, что по его лицу было видно: любовь сразила его наповал, как удар копья.
Он наморщил лоб, словно никак не мог понять, чего от него хочет Томас.
– Я хотел спросить тебя, – начал он, но осекся и умолк.
– О чем?
– Помнишь, тогда в Кале, – сказал Робби, – граф велел тебе не брать меня с собой, да?
Томас удивился, что Робби именно сейчас решил об этом спросить, но рассудил, что тот вправе рассчитывать на ответ:
– Откуда ты узнал?
– Мне сказал тот священник, Бэкингем.
Томас удивился, как вообще у Робби могла завязаться беседа с английским священником, но сразу понял, что сейчас его друг только хочет отвлечь его разговорами, чтобы подольше побыть рядом с девушкой, в которую так безнадежно влюбился.
– Робби, – сказал он, – завтра утром ее сожгут на костре.
– Не обязательно, – тревожно вскинулся шотландец.
– Ради бога, Робби, – простонал Томас. – Ее осудила церковь!
– Чего же ты тут торчишь?
– Потому что я здесь командую. Кто-то же должен был ее утихомирить.
– Это и я могу, – улыбнулся Робби и, не получив ответа, насупился. – Ну так почему же ты решил взять меня в Гасконь?
– Потому что ты друг.
– Бэкингем сказал, что я могу украсть Грааль, – сказал Робби. – Украду и увезу в Шотландию.
– Сперва его еще надо найти, – буркнул Томас.
Но Робби уже не слушал. Он так и пожирал взглядом девушку, которая съежилась в углу.
– Робби, – решительно сказал Томас, – поутру она отправится на костер.
– Раз так, то тем более кому какое дело, что с ней случится сегодня ночью, – упрямо ответил шотландец.
Томас с усилием подавил готовую вспыхнуть злость.
– Оставь нас, Робби, – сказал он.
– И что это тебя в ней так забрало за живое? – осведомился Робби. – Душа или все-таки плоть?
– Да иди ты наконец! – рявкнул Томас так сердито, что Робби вздрогнул от неожиданности, бросил на него враждебный взгляд, но, не выдержав, заморгал глазами и удалился.
Из разговора, который шел по-английски, девушка не поняла ни слова, но вожделение на лице Робби от нее не укрылось, и, когда он ушел, она обернулась к Томасу.
– Сам решил мной попользоваться, святоша?
Словно не заметив издевки, Томас спросил:
– Откуда ты родом?
Она помолчала, как бы взвешивая, отвечать ему или нет, затем, пожав плечами, сказала:
– Из Пикардии.
– Это на севере, далеко отсюда, – заметил Томас. – И каким ветром девушку из Пикардии занесло в Гасконь?
И снова она помедлила, а Томас подумал, что ей, наверное, лет пятнадцать-шестнадцать, по годам – давно пора замуж. А еще он приметил одну особенность ее глаз: казалось, будто они видят человека насквозь, проникая до самых темных глубин души.
– Мой отец был странствующим жонглером, – пояснила наконец узница. – Показывал фокусы, глотал огонь.
– Я встречал таких, как он, – сказал Томас.
– Мы ходили куда хотели, из города в город, и зарабатывали деньги на ярмарках. Мой отец забавлял и потешал людей, а я собирала монеты.
– А твоя мать?
– Умерла. – Она произнесла это так беззаботно, что сразу становилось понятно: свою мать она совсем не помнит. – Потом, полгода назад, здесь умер и мой отец. А я осталась тут.
– Почему ты осталась?
Она глянула на него насмешливо, всем своим видом показывая, что ответ настолько очевиден, что не требует никаких объяснений, но потом, решив, наверное, что монах мало что смыслит в обычной человеческой жизни, все-таки сказала:
– Неужели ты не знаешь, как опасны дороги? Там вовсю хозяйничают коредоры.
– Коредоры?
– Разбойники, – пояснила она. – Местные жители называют их коредорами. Кроме них полно еще и рутьеров, которые ничем не лучше.
Рутьерами называли шайки солдат из расформированных отрядов, скитавшиеся от замка к замку в поисках сеньора, который нанял бы их на службу. Вечно голодные рутьеры кормились тем, что силой отбирали у мирных жителей. Иногда такие шайки захватывали целые города, вымогая выкуп. Ну а беззащитную, путешествующую без покровителя и защитника девушку и рутьеры и коредоры рассматривали как подарок, посланный дьяволом им на забаву.
– Ты могла бы странствовать в компании других путников, – указал Томас.
– Так мы и делали, но тогда со мной был отец и за меня было кому заступиться. А в одиночку… – Она пожала плечами. – Короче говоря, я осталась здесь. Работала на кухне, стряпала.
– И потчевала народ ересью?
– Вас, церковников, хлебом не корми, подавай только ересь! – с горечью промолвила девушка. – Не будь ереси, кого бы вы стали жечь?
– Какое имя носила ты до того, как тебя осудили?
– Женевьева.
– Тебя назвали в честь святой Женевьевы?
– Наверное!
– Эта святая известна тем, – промолвил Томас, – что, когда она молилась, дьявол все время задувал ее свечи.
– Уж больно вы, монахи, горазды сказки сказывать! – насмешливо промолвила Женевьева. – Да сам-то ты веришь в это? В то, что дьявол заходил в церковь и задувал свечи?
– Отчего ж не верить?
– Коли он дьявол, так что же он ее не убил, а? Убил бы – и вся недолга? А он, видишь, только озорничал, как мальчишка. Подумаешь, свечи гасить – экое великое дело!
– Я слышал, что ты нищенствующая, – сказал Томас, оставив ее презрительные слова без ответа.
– Встречала я нищенствующих, – призналась девушка. – Мне они нравятся.
– Дьявольское отродье – вот они кто! – возмутился Томас.
– Ты-то видел хоть одного? – спросила девушка.
Томас и впрямь никогда сам не сталкивался с нищенствующими и знал о них лишь понаслышке. Его смущение не укрылось от девушки.
– Если их ересь – вера в то, что Господь все создал для всех людей и хочет, чтобы всем всего было поровну, то да, я тоже такое чудовище! Однако ни к какой их общине никогда не принадлежала.
– Но ты наверняка в чем-то провинилась, за что тебя отправляют на костер.
Она взглянула на него широко открытыми глазами. Возможно, в его голосе ей послышалось что-то внушающее доверие. Закрыв глаза, она бессильно прислонилась к стене. Но только упорство ее словно надломилось, и Томасу показалось, что она вот-вот заплачет. Любуясь тонкими чертами ее лица, лучник недоумевал, почему это он, в отличие от Робби, сразу не разглядел ее красоту. Она снова открыла глаза и, не отвечая на его обвинения, вдруг спросила:
– Что тут произошло нынче ночью?
– Мы захватили замок, – ответил Томас.
– Мы?
– Англичане.
Она посмотрела на него, пытаясь прочесть что-то по его лицу.
– Значит, светская власть здесь теперь в руках англичан?
Он подумал, что это выражение она подхватила на судебном процессе. Церковь не сжигала еретиков, она лишь устанавливала их виновность, после чего передавала грешников в руки светских властей, и уж те их казнили. Таким образом, дьявол получал грешную душу, а Святая церковь не пятнала себя убийством.
– Да, – подтвердил Томас, – выходит, нынче мы и есть светская власть.
– Значит, вместо гасконцев меня сожгут англичане?
– Но кто-то же должен это сделать, если ты еретичка, – сказал Томас.
– Если? – спросила Женевьева и, не получив ответа, закрыла глаза и снова прислонилась головой к сырым камням. – Они обвинили меня в богохульстве, – вновь заговорила она усталым голосом, – за то, что я обличала погрязших в пороке церковников, плясала под грозой, находила воду с помощью дьявола, исцеляла хвори колдовскими снадобьями, предсказывала будущее, а также наслала проклятие на жену и домашний скот Галата Лоррета.
Томас нахмурился.
– Разве они осудили тебя не за то, что ты – нищенствующая?
– И за это тоже, – коротко подтвердила девушка.
Он помолчал немного. Где-то за дверью, в темноте, капала вода. Огонек светильника предательски задрожал, почти потух, но, хоть и слабо, разгорелся снова.
– Чью жену ты прокляла? – спросил Томас.
– Галата Лоррета. Это купец, торговец тканями. Он – богач и первый консул этого городка. Он чертовски богат, и старая жена ему надоела, вот он и зарится на молоденьких.
– А ты прокляла жену?
– Не только ее! – с пылкой готовностью подтвердила девушка. – Его тоже. А тебе что, никогда не случалось никого проклясть?
– Ты предсказывала будущее? – спросил Томас.
– Я сказала, что все они умрут, а это бесспорная истина.
– Вовсе нет, если настанет второе пришествие, – возразил Томас.
Женевьева смерила его долгим, оценивающим взглядом, едва заметно улыбнулась и пожала плечами.
– Значит, я ошибалась, – заметила она с сарказмом.
– А разве дьявол не помогал тебе находить воду?
– Даже ты можешь это сделать, – сказала она. – Возьми разветвленный прутик, иди не спеша по полю, а где веточка дернется, там копай.
– А магические снадобья?
– Да какая тут магия? – устало промолвила она. – Старинные приметы и средства, о которых мы слышали от старушек, бабушек и тетушек. Знаешь ведь, наверно, что из комнаты, где рожает женщина, следует убрать все железо. Все так делают. Вот ты хоть и монах, а наверняка тоже стучишь по дереву, чтобы отвратить зло. Что же, по-твоему, этого достаточно, чтобы отправить человека на костер?
И снова Томас не ответил.
– Ты правда хулила Бога? – спросил он.
– Господь любит меня, а я не поношу тех, кто меня любит. А кого я хулила, так это лживых, погрязших в пороках попов. Я говорила правду, а они за это обвинили меня в богохульстве. А ты, поп, погряз в пороках?
– А пляски? Голой в грозу плясала?
– Признаюсь, что было, то было.
– Но зачем ты это делала?
– Потому что мой отец всегда говорил, будто так можно получить Господне наставление.
– Господне наставление? – искренне удивился Томас.
– Так мы считали. Мы ошибались. Господь велел мне остаться в Кастийон-д'Арбизоне, и это привело лишь к пыткам и завтрашнему костру.
– Пыткам? – спросил Томас.
В его голосе ей послышался ужас, и это побудило ее взглянуть на него, а потом она медленно вытянула левую ногу, и он увидел у нее на внутренней стороне бедра обезобразивший нежную кожу свежий ожог.
– Они пытали меня каленым железом, и я призналась им во всем, в чем не было ни слова правды. Признала себя нищенствующей, потому что меня пытали.
При воспоминании о муках глаза ее наполнились слезами.
– Они жгли меня каленым железом, а когда я кричала, заявляли, что это вопит дьявол, пытающийся покинуть мое тело.
Она поджала ногу и показала ему правую руку с такими же отметинами.
– Но они не тронули это, – гневно заявила она, неожиданно открыв свою маленькую грудь. – Отец Рубер заявил, что дьявол будет сосать ее и это будет мука страшнее всего, что причинили мне церковники.
Женевьева снова подтянула колени и умолкла, захлебнувшись слезами.
– Церковь любит причинять людям боль, – продолжила она, помолчав. – Тебе ли не знать.
– Знаю, – подтвердил Томас, едва удержавшись, чтобы не приподнять полы черного одеяния и показать ей свои рубцы, оставленные каленым железом, когда у него выпытывали тайну Грааля.
Эта пытка была бескровная, устав запрещал служителям церкви проливать кровь, но умелый палач может довести человека до крика, не оставив на его теле ни единой царапинки.
– Я хорошо это знаю, – повторил Томас.
– Тогда будь же ты проклят! – воскликнула девушка, к которой вновь вернулась былая дерзость. – И ты, и все вы, святоши-мучители!
Томас встал и поднял фонарь.
– Я принесу тебе что-нибудь из одежды.
– Боишься меня, монашек? – насмешливо спросила она.
– Боюсь? – Томас искренне удивился. – Чего?
– Вот этого, святоша! – воскликнула она, выставив напоказ свою наготу, и, сопровождаемый ее громким хохотом, он выскочил из камеры и захлопнул за собой дверь.
Опустив засовы, он прислонился к стене и долго смотрел в пустоту. Перед ним стояли глаза Женевьевы, ее загадочный взор. Эта грязная, голая, растрепанная, бледная, отощавшая до костей еретичка показалась ему прекрасной, но на нем лежала обязанность, которую он должен исполнить утром. Богоданная обязанность.
Он поднялся наверх. Во дворе все было тихо. Кастийон-д'Арбизон спал.
И Томас из Хуктона, незаконнорожденный сын священника, начал молиться.
Одинокая башня стояла на одном из лесистых холмов невысокого кряжа, протянувшегося близ Суассона. Она находилась к востоку от Парижа на расстоянии одного дня езды. Место было пустынное. В прежние времена в башне обитал здешний сеньор, чьи крепостные трудились в долинах по обе стороны хребта, но владелец умер бездетным, а его дальние родственники никак не могли поделить наследство, их тяжба обогащала судейскую братию. Заброшенная башня обветшала, поля заросли орешником, а потом и дубом, а в высоких, продуваемых ветрами каменных палатах поселились совы. Поумирали уже и судейские, которые вели тяжбу за башню, и маленький замок перешел в собственность герцога, который ни разу ее не видел и, уж конечно, не собирался в ней поселиться. Оставшиеся крепостные возделывали поля близ деревушки Мелен, где арендатор держал свою ферму.
По словам жителей деревушки, в башне жили привидения. Зимними ночами в ней вились и кружились белые призраки, в чаще рыскали невиданные звери. Родители строго-настрого наказывали ребятишкам держаться от проклятого места подальше, хотя, конечно, самые храбрые все равно забирались в лес, а иные лазили в башню, но не встречали там ни души.
А потом появились пришлецы.
Они явились с разрешения отсутствующего герцога. Явились вроде бы в качестве арендаторов, однако ни земледелием, ни рубкой леса никто из них не занимался. Это были солдаты. Пятнадцать закаленных в жестоких битвах бойцов, покрытых шрамами, полученными в сражениях с англичанами, одетых в кольчуги и вооруженных арбалетами и мечами. С ними явились и их женщины, которые заводили в деревне дрязги, но никто не смел пожаловаться, потому что женщины эти были такие же отчаянные, как солдаты. Но страшнее всех был предводитель этой шайки, долговязый, сухопарый, страхолюдный, покрытый шрамами злопамятный малый по имени Шарль. В отличие от прочих, он не был солдатом и никогда не носил кольчуги, но никому и в голову не приходило поинтересоваться у него, кто он таков и кем был раньше. Один его взгляд вгонял людей в трепет.
Из Суассона прибыли каменщики, сов прогнали, башню отремонтировали, а у ее подножия устроили огороженный двор с высокой стеной и плавильной печью из кирпича. Когда работа была закончена, приехала закрытая повозка и скрылась за новенькими воротами. Ребятишки, кто побойчее, движимые любопытством, сунулись было посмотреть, что делается во дворе. Они забрались в лес, но были замечены часовым и еле унесли ноги, когда тот бросился за ними и чуть не застрелил одного, но промахнулся. Больше никто туда не ходил: ни дети, ни взрослые. Солдаты захаживали в Мелен, покупали на рынке еду и вино, частенько выпивали в таверне, но даже под хмельком не заговаривали о том, что делается в башне. «Спросите у месье Шарля», – отвечали они на расспросы, отсылая любопытствующих к своему начальнику, к страхолюдному верзиле в шрамах, а к нему никто из деревенских по доброй воле никогда не решился бы подойти.
Порой над двором курился дым. Его можно было видеть из деревни, и первым по этому поводу высказал догадку священник, предположив, что в башне обосновался алхимик. На потянулись странные грузы; однажды возле деревенской таверны сделала остановку телега, возчик отлучился выпить вина, и, пока он отсутствовал, выяснилось, что она нагружена бочонками с серой и свинцовыми болванками. Серу священник распознал по запаху.
– Они делают золото, – сказал он своей домоправительнице, зная, что та разнесет новость по всей деревне.
– Золото? – удивилась женщина.
– Это главное занятие алхимиков.
Священник был ученый человек, который, возможно, высоко поднялся бы в церковной иерархии, когда бы не имел пагубного пристрастия к вину. Когда колокол призывал к вечерне, он обыкновенно бывал уже вдребезги пьян, однако еще помнил студенческие годы в Париже, когда и сам мечтал заняться поисками философского камня, этой неуловимой субстанции, способной при соединении с любыми металлами обращать их в золото.
– Ной обладал им, – сказал священник.
– Чем обладал?
– Философским камнем, но утратил его.
– Это когда он напился пьян и валялся голым, как ты? – спросила домоправительница, у которой из всего, связанного с именем Ноя, в памяти отложилась только эта история. – Как ты?
Священник лежал на кровати, полупьяный и совершенно голый, и ему вспоминались дымные парижские лаборатории, где плавили, смешивали в разных пропорциях и снова плавили серебро и ртуть, свинец, серу, бронзу и железо.
– Прокаливание, – повторял он по памяти, – и растворение, и сепарация, и соединение, и разложение, и очищение, и затвердевание, и возгонка, и очищение, и брожение, и возвышение, и умножение, и демонстрация.
Домоправительница, понятное дело, не имела ни малейшего представления, о чем он толкует.
– Мари Кондро сегодня потеряла ребенка, – сказала она ему. – Родился величиной с котенка, ей-богу! Весь в крови и мертвый. Правда, волосы у него были. Рыжие волосы. Она хочет, чтобы ты его окрестил.
– Определение пробы, – произнес он, проигнорировав ее новость, – и томление металла, и плавка, и дистилляция. Непременно дистилляция. Per ascendum предпочитаемый метод, – вздохнул священник и продолжил: – Флогистон. Если бы мы смогли найти флогистон, мы бы все могли делать золото.
– Это как же?
– Да я же только что тебе все рассказал.
Он повернулся на кровати и уставился на белевшую в лунном свете весьма пышную грудь женщины.
– Требуются большие познания, – молвил клирик, потянувшись к ней, – тогда ты получишь флогистон, каковой есть субстанция, горящая жарче адского пламени. С помощью флогистона ты получаешь философский камень, утраченный Ноем. Ты помещаешь его в печь с любым металлом, и по прошествии трех дней и трех ночей извлекаешь из печи чистое золото. Разве Корде не говорил, что они соорудили там печь?
– Он сказал, что они превратили башню в темницу, – сказала она.
– Печь, – настойчиво повторил он, – чтобы добыть философский камень.
Священник и сам не подозревал, насколько близка к истине была его догадка, но уже очень скоро по всей округе люди убежденно заговорили о том, что в башне заточен великий философ, производящий опыты с целью получения золота. Если его попытки увенчаются успехом, говорили люди, тогда никому никогда больше не придется работать, ибо все разбогатеют. Крестьяне будут кушать на золоте и ездить на лошадях с серебряной упряжью. Иные, правда, находили эту алхимию странной, ибо как-то раз пара солдат из башни, заявившись в деревню, забрали три старых бычьих рога и ведро коровьего помета.
– Теперь мы точно разбогатеем, – саркастически заявила в связи с этим домоправительница, – дерьмо-то, оно всегда к деньжатам.
Но священник ее сарказма не оценил, он храпел.
Потом, осенью, после сдачи Кале, из Парижа прибыл кардинал. Он остановился в Суассоне, в аббатстве Сен-Жан-де-Винь. Обитель была богаче большинства местных монастырей, но все равно не смогла вместить всю кардинальскую свиту, так что дюжина людей кардинала разместилась на постоялом дворе. На робкие попытки трактирщика заикнуться об оплате они сказали, чтобы он отослал счета в Париж.
– Кардинал заплатит, – заверяли они со смехом, ибо были уверены, что Луи Бессьер, кардинал-архиепископ Ливорно и папский легат при королевском дворе Франции, с презрением отвергнет любые попытки побеспокоить его из-за таких пустяков, как долги его людей.
Правда, в последнее время его высокопреосвященство не скупился на расходы. Именно кардинал восстановил башню, построил новую стену и нанял охрану, а в первое же утро по прибытии в Суассон отправился в башню в сопровождении шестидесяти вооруженных воинов и четырнадцати священников.
На полпути к башне их встретил мсье Шарль, весь в черном, с длинным, узким кинжалом на поясе. Он приветствовал прелата без всякого подобострастия, простым кивком, после чего повернул коня и поехал рядом. Кардинальской свите и охране было приказано держаться поодаль, чтобы они не могли подслушать разговор.
– Ты неплохо выглядишь, Шарль, – насмешливым тоном произнес кардинал.
– Устал я от всего этого, – пожаловался урод скрипучим голосом.
– Служба Господу может быть нелегка, – заметил кардинал.
Шарль проигнорировал этот сарказм. Лицо его от губы до скулы пересекал страшный шрам, нос был перебит, под глазами мешки. Черная одежда болталась на нем, как на пугале, а настороженные глаза постоянно бегали из стороны в сторону, словно высматривая засаду. Посторонний, встретивший эту процессию (и дерзнувший поднять глаза на кардинала и его не внушающего доверия спутника), наверняка принял бы Шарля за солдата, ибо шрам и клинок наводили на мысль о боевом прошлом. Однако Шарль Бессьер никогда не сражался на поле чести под боевыми знаменами: он грабил и убивал, резал глотки и срезал кошельки и при этом успешно избегал виселицы, потому что был старшим братом кардинала.
Шарль и Луи Бессьеры родились в Лимузене, в семье торговца свечным салом. При этом младший брат, стараниями папаши, стал грамотеем, а старший с юности пустился во все тяжкие. Пока Луи постигал латынь и продвигался в церковной иерархии, Шарль рыскал с ножом за пазухой по темным переулкам, но, несмотря на все различия, между братьями всегда царили доверие и согласие. Их объединяла общая тайна, в связи с чем и священникам, и ратникам кардинала во время этой встречи было приказано держаться на расстоянии.
– Как поживает пленник? – спросил кардинал.
– Ворчит. Скулит, как баба.
– Но работает?
– Работать-то работает, – хмуро ответил Шарль. – Слишком труслив, чтобы отказаться от работы.
– Он ест? Как его здоровье?
– Он ест, спит и трахает свою женщину, – сказал Шарль.
– У него есть женщина? – ужаснулся кардинал.
– Он заявил, что ему нужна женщина. Без бабы он, видишь ли, не может работать. Пришлось раздобыть ему женщину.
– Что за женщину?
– Шлюху из парижского борделя.
– Твою старую подружку, а? – спросил, забавляясь, кардинал. – Но не ту, полагаю, к которой ты питаешь слишком нежные чувства.
– Когда все будет закончено, – сказал Шарль, – ей перережут глотку, как и ему. Ты только скажи мне когда.
– Сразу, как только он сотворит свое чудо, – промолвил прелат.
Они проследовали по узкой тропе вверх, к гребню, приблизившись к башне, оставили стражу и священников во дворе, а сами, спешившись, спустились по короткой винтовой лестнице в подвал, к массивной двери, запертой на три тяжеленных засова.
– Стражники сюда не спускаются? – спросил кардинал, глядя, как его брат поднимает эти засовы.
– Только двое, которые приносят еду и носят ведра, – сказал Шарль, – остальным сказано, что им перережут глотку, если они попробуют совать нос куда не следует.
– А они поверили?
– А ты как думаешь? – буркнул, угрюмо глянув на брата, Шарль Бессьер и, прежде чем откинуть последний засов, обнажил свой клинок. Не иначе как на всякий случай, если запертый там человек вздумает на него напасть.
Этого, однако, не произошло. Пленник не выказал ни малейшей враждебности, он трогательно обрадовался кардиналу и почтительно преклонил перед ним колени.
Подвал башни представлял собой просторное помещение с высокими сводами кирпичной кладки, с потолка свисали два десятка светильников. К их чадящему свету добавлялся еще и дневной, пробивавшийся в узкие зарешеченные окна. Узник в подвале был молодым человеком с длинными белокурыми волосами, подвижным лицом и умными глазами. Его щеки и высокий лоб были измазаны грязью, которая также покрывала его длинные ловкие пальцы. Подошедшего кардинала он встретил, не вставая с колен.
– Юный Гаспар, – ласково произнес кардинал, протягивая пленнику для поцелуя руку с массивным перстнем, заключавшим в себе шип из тернового венца Спасителя. – Надеюсь, ты в добром здравии, юный Гаспар? Хорошо ешь, верно? Спишь, как младенец? Трудишься, как добрый христианин? Трахаешься, как хряк?
Произнося последние слова, кардинал глянул на девицу, потом отнял у Гаспара руку и направился вглубь помещения, к трем столам, на которых громоздились бочонки с глиной, комки пчелиного воска, металлические болванки и множество разных инструментов: зубила, напильники, буравы и молотки.
В углу, на сколоченном из досок топчане, угрюмо сидела рыжеволосая девица в грязной, сползавшей с плеча сорочке.
– Мне здесь не нравится, – пожаловалась она кардиналу.
Молча смерив ее долгим взглядом, прелат повернулся к брату.
– Шарль, если она снова заговорит со мной без моего разрешения, отстегай ее плеткой.
– Это она просто так, не нарочно, – поспешно извинился за нее Гаспар, так и не вставший с колен.
– Зато я не просто так, – ответил кардинал, после чего с улыбкой предложил пленнику: – Вставай, мой мальчик!
– Мне нужна Иветта, – сказал Гаспар, – она мне помогает.
– Конечно помогает, – охотно согласился прелат и склонился над миской, в которой была смешана какая-то бурая паста.
Вонь заставила его отпрянуть. Тем временем Гаспар, подойдя ближе, вновь опустился на колени и на протянутой ладони преподнес кардиналу приготовленный подарок.
– Это вам, ваше преосвященство! – с чувством воскликнул юноша. – Сам для вас изготовил.
Кардинал принял подношение. Это оказалось золотое распятие размером не больше ладони, удивительно тонкой работы. Под терновым венцом распятого виднелись пряди волос.
На венце, если пощупать, обнаруживалась колючие шипы, на месте была и рваная рана в боку, из нее стекала на бедро длинная струйка золотистой крови. Видны были даже шляпки гвоздей, и кардинал сосчитал их. Четыре. Ему в своей жизни посчастливилось видеть три из четырех подлинных гвоздей. Тех самых.
– Прекрасная работа, Гаспар, – сказал прелат.
– Я мог бы сделать и лучше, – сказал Гаспар, – если бы побольше света.
– Мы все работали бы лучше, если бы было больше света, – сказал кардинал, – света истины, Божьего света, света Духа Святого. – Он прошелся вдоль столов, касаясь инструментов ремесла Гаспара. – Однако дьявол посылает тьму, чтобы ввести нас в заблуждение, а нам остается крепиться и терпеть.
– А если бы работать наверху? – спросил Гаспар. – Наверху ведь, наверное, есть помещения, где больше света?
– Они есть, – сказал кардинал, – есть, как не быть, но почем мне знать, Гаспар, что ты не сбежишь? Ты человек изобретательный. Дай тебе большое окно, а потом ищи-свищи и тебя по белу свету. Нет, мой мальчик, коли ты сумел выполнить такую работу, – он поднял распятие, – тебе не нужно больше света. – Он улыбнулся. – Ты ведь у нас такой умелец!
Гаспар действительно был редкостный умелец. Он служил в подмастерьях у золотых дела мастера в одной из лавочек на набережной Орфевр, что на острове Сите в Париже, где стоял особняк кардинала. Прелат всегда очень уважал искусство золотых дел мастеров, покровительствовал им, часто наведывался в их лавки, скупая лучшие работы. Многие из них были сделаны этим самым худощавым, нервным юношей. Однажды Гаспар заколол ножом в дешевой таверне такого же подмастерья. Молодого человека ждала виселица, но кардинал спас его от смерти, спрятал в башне и обещал сохранить ему жизнь.
Но прежде чем выйти на свободу, Гаспар должен был сотворить чудо. Кардинал был твердо уверен, что молодой человек никогда не покинет подвала: никто не пустит его дальше большой печи для обжига. Ничего не подозревающий Гаспар одной ногой уже переступил порог адских врат.
Кардинал сотворил крестное знамение, потом поставил распятие на стол.
– Ну так покажи мне ее! – потребовал кардинал.
Гаспар подошел к большому рабочему столу, на котором стоял какой-то предмет, завернутый в полотняную тряпку.
– Сейчас она еще сделана только в воске, ваше высокопреосвященство, – пояснил ювелир, – и я даже не знаю, удастся ли воплотить этот образ в золоте.
– Ее можно потрогать? – спросил кардинал.
– Только осторожно, – предупредил Гаспар. – Она из очищенного пчелиного воска и очень хрупкая.
Кардинал поднял изделие из серовато-белого, маслянистого на ощупь воска, поднес к одному из трех маленьких, пропускавших скудный дневной свет окошек и замер, обомлев от восхищения.
Изделие представляло собой чашу. На изготовление этой восковой модели у Гаспара ушло несколько недель. Чаша была как раз на одно яблоко, а ножка высотой всего шесть дюймов. Ножка эта была изготовлена в форме древесного ствола, с подножием, расходящимся в виде трех корней, а саму чашу образовывало тончайшее кружево лиственной кроны, в ее филиграни можно было различить каждый листочек, каждое яблочко и на ободке – три миниатюрных гвоздика.
– Какая красота! – восхитился кардинал.
– Три корня, ваше высокопреосвященство, изображают Троицу, – объяснил Гаспар.
– Об этом я догадался.
– А дерево – это Древо Жизни.
– И поэтому на нем растут яблоки, – сказал кардинал.
– А гвозди показывают, что из этого дерева впоследствии был изготовлен крест нашего Господа, – закончил объяснение Гаспар.
– Об этом я догадался, – заметил прелат.
Он отнес красивую восковую чашу обратно и бережно поставил ее на стол.
– А где стеклянная?
– Здесь, ваше высокопреосвященство.
Гаспар открыл шкатулку и вынул чашу, которую протянул кардиналу. Чаша была изготовлена из толстого зеленоватого стекла, по виду очень старинного, ибо местами было мутноватым, а кое-где в толще бледного полупрозрачного материала попадались маленькие пузырьки. Кардинал предполагал, что эта вещь относится к римской эпохе. Полной уверенности в этом у него не было, но она походила на старинную вещь немного грубоватой работы, а это было как раз то, что требовалось. Чаша, из которой Христос пил вино на Тайной Вечере, и должна была больше походить на предмет утвари из крестьянского дома, чем на пиршественный кубок вельможи.
Прелат купил эту чашу в лавке парижского старьевщика всего за несколько медных монет и велел Гаспару заменить неудачное по форме подножие. Тот выполнил задание с непревзойденным мастерством: никто бы не догадался, что раньше у нее была ножка. И вот теперь кардинал со всей возможной осторожностью поместил стеклянную чашу в восковую.
Гаспар затаил дыхание, опасаясь, как бы кардинал не повредил тончайшие листочки, но чаша идеально подошла по размеру и мягко заняла свое место.
Грааль! Кардинал устремил взгляд на стеклянную чашу, мысленно воображая ее вставленной в тончайшую, ажурную золотую оправу и установленной на алтаре среди высоких белых свечей. Ему уже чудились благозвучные голоса хора мальчиков, благоухание мирра и ладана. Императоры и короли, принцы и герцоги, графы и рыцари, все явятся преклонить колени перед этой святыней.
Луи Бессьер, кардинал-архиепископ Ливорно, стремился заполучить Грааль. Несколько месяцев назад из южной Франции, из земли сожженных еретиков, до него дошел слух о том, что Грааль существует и что чашу Грааля одновременно с ним ищут два отпрыска рода Вексиев: один – француз, а другой – английский лучник. Впрочем, прелат был уверен, что ни один из них не жаждет святыни так страстно, как он. И не заслуживает обладания ею, как он. Ведь обретя реликвию, он обретет вместе с ней столь великое могущество, что короли и сам Папа придут к нему за благословением, и когда умрет нынешний Папа Климент, Луи Бессьер получит его престол, тиару и ключи. Был бы только Грааль!
Луи Бессьер жаждал обрести его всем сердцем, но однажды, в час размышлений, когда он стоял, уставясь невидящим взором в витражное окно своей личной часовни, на него вдруг снизошло откровение. Грааль ему нужен, но из этого не следует, что он непременно должен отыскать подлинную святыню. Возможно, Грааль существует на свете, хотя вероятнее всего – нет. Важно одно – чтобы в него поверил христианский мир. Верующим нужен Грааль, а точнее, то, что они готовы будут признать единственным, подлинным, неповторимым, тем самым Святым Граалем. И он даст верующим то, что им нужно.
Вот почему Гаспар находился в этом подвале, и вот почему Гаспару предстояло умереть: никто, кроме кардинала и его брата, не должен был узнать о том, что изготавливалось в одинокой башне среди продуваемых ветром лесов над Меленом.
– А теперь, – сказал кардинал, бережно вынув зеленое стекло из его воскового ложа, – ты должен превратить обычный воск в дивное золото.
– Это будет нелегко, ваше высокопреосвященство.
– Разумеется, это будет трудно, – сказал кардинал, – но я буду молиться за тебя. И твоя свобода зависит от твоего успеха.
Приметив на лице Гаспара сомнение, кардинал добавил:
– Ты сделал это распятие. – Он поднял красивый предмет. – Так что может помешать тебе сделать и чашу?
– Тут работа очень тонкая, материал нежный, и если я налью золото и оно не расплавит весь воск, то модель разрушится и вся работа пойдет прахом.
– Тогда ты начнешь все заново, – сказал кардинал, – и, приобретая опыт, с Божьей помощью найдешь верный путь.
– Никто и никогда не делал отливку со столь нежной формы, – указал Гаспар.
– Расскажи мне, как это делается, – велел кардинал.
И Гаспар объяснил, как он покроет восковую чашу ядовитой бурой пастой, той самой, запах которой заставил кардинала отпрянуть. Эта паста представляла собой замешанный в воде порошок из жженого бычьего рога и коровьего навоза. Когда эта паста засохнет поверх воска, модель нужно будет погрузить в мягкую глину, однако делать это надо так, чтобы глина плотно прилегала к каждому выступу и облегала каждую выемку, но ни в коем случае не исказила восковую форму. Потом предстоит просверлить сквозь глину до воска тонкие каналы, после чего Гаспар отнесет бесформенный глиняный ком на двор и поместит в печь для обжига. Глина затвердеет, пчелиный воск расплавится и вытечет, и внутри образуется полость, повторяющая форму модели. Полость в форме Древа Жизни.
– А коровий навоз? – спросил кардинал, искренне увлеченный объяснением Гаспара.
Все красивые вещи вызывали у него восторг, может быть потому, что в юности он был их лишен.
– Помет запекается, и получается твердая оболочка вокруг полости, – сказал Гаспар.
Он улыбнулся девушке, которая насупясь слушала его объяснения, и добавил:
– Иветта смешивает для меня составы. Субстанция, которая прилегает непосредственно к воску, должна быть самой нежной, а наружные слои формируются из более грубого материала.
– Значит, смесь на основе навоза образует твердую поверхность литейной формы? – спросил кардинал.
– Именно.
Гаспар был рад тому, что его покровитель и избавитель все понял.
Потом, когда глина охладится, Гаспар вольет расплавленное золото в полость, и ему останется уповать на то, что огненный расплав заполнит все пустоты вплоть до каждого крохотного листочка, яблочка и гвоздика, все неровности шероховатой коры. Когда же золото охладится и затвердеет, глину разобьют, и под ней обнаружится либо вместилище Грааля, которому предстоит восхитить весь христианский мир, либо беспорядочный клубок золотых завитушек.
– Возможно, придется отливать эту вещь по частям, – нервно пробормотал Гаспар.
– Ты попробуешь с этой моделью, – приказал кардинал, снова накрыв полотняной тканью восковую чашу, – и если не получится, сделаешь еще одну и попытаешься снова, и будешь пробовать снова и снова, пока не добьешься успеха. Когда это случится, Гаспар, я выпущу тебя на вольный воздух. И тебя, и твою маленькую подружку.
Он мельком улыбнулся девушке, сотворил крестное знамение над головой Гаспара и вышел из подвала. Дождавшись, когда его брат запер дверь на все засовы, кардинал сказал:
– Будь с ним поласковей, Шарль.
– Поласковей? Я ему не нянька, а тюремщик.
– А он гений. Он думает, что делает для меня чашу для причастия, и не подозревает, какое значение имеет его работа. Он ничего не боится, кроме тебя. Так что постарайся его не расстраивать.
– А что, если они найдут настоящий Грааль? – спросил Шарль, отходя от двери.
– Кто его найдет? – спросил кардинал. – Английский лучник исчез, а этот дурачок монах не найдет в Бера ничего. Он только разворошит пыль.
– Так зачем было его посылать?
– А затем, что у нашего Грааля должно быть прошлое. Брат Жером обнаружит в Гаскони какие-нибудь истории о Граале, и это станет для нас важным свидетельством. А когда он сообщит, что в архивах есть упоминания о Граале, мы доставим нашу чашу в Бера и объявим, что именно там ее и нашли.
Шарль, однако, никак не мог отделаться от мыслей о настоящем Граале.
– Вроде бы папаша англичанина оставил после себя книгу?
– Книгу он оставил, но ничего толкового мы в ней не нашли. Его книга – бред сумасшедшего.
– Так найди лучника и каленым железом вырви у него правду, – предложил Шарль.
– Его найдут, – мрачно пообещал кардинал, – и уж в следующий раз, Шарль, я напущу на него тебя. У тебя он живо выложит все, что знает. Ну а до той поры надо продолжать поиски, а главное, довести до конца, что начал Гаспар. Так смотри, чтобы Гаспар был в сохранности!
– Будет в сохранности, пока нужен, – пообещал Шарль. – А когда надо, умрет.
Ведь Гаспар должен был открыть братьям путь в папский дворец в Авиньоне. Кардинал, поднимаясь из подвала, заранее ощущал вкус власти. Он станет Папой!
На рассвете того же дня далеко к югу от одинокой башни близ Суассона тень замка Кастийон-д'Арбизон пала на кучу хвороста и дров, заготовленных для сожжения еретички. Костер был сложен в полном соответствии с указаниями брата Рубера: поверх хвороста для растопки вокруг толстого столба с цепью в четыре ряда высились поставленные стоймя связки дров; такой костер должен гореть ярко, но без лишнего жара и дыма, так чтобы наблюдающие горожане видели, как Женевьева корчится в ярких языках пламени, и знали, что еретичка переходит во владения сатаны.
Тень замка протянулась по главной улице почти до самых западных ворот, где городские сержанты, обнаружившие на городской стене мертвого часового, ошеломленно таращились вверх, на вырисовывавшийся на фоне восходящего солнца массив главной башни. Над башней реял новый флаг. Вместо флага Бера с оранжевым леопардом на белом поле там красовалось лазурное полотнище с белой полосой по диагонали и тремя белыми звездами, а на лазурном поле обитали три желтых льва, свирепые хищники то показывались, то скрывались из виду в опадавших на слабом ветру складках.
На этом чудеса не закончились. Когда у ворот к сержантам подоспели четыре городских консула, со стен замка к ним сбросили два каких-то увесистых предмета. Не долетев до земли, они закачались, повиснув на веревках. Сперва зеваки было подумали, что люди из замка проветривают тюфяки, и только потом сообразили, что это человеческие тела. В подкрепление этой новости, о которой сообщало поднятое на башне знамя Нортгемптона, захватчики вывесили у ворот тела кастеляна и одного из стражников. Кастийон-д'Арбизон сменил владельца.
Галат Лоррет, старейший и самый богатый из консулов, тот самый человек, который прошлой ночью допрашивал в церкви пришлого доминиканца, опомнился первым.
– Нужно отправить гонца в Вера, – распорядился он и велел секретарю городской управы составить донесение для сеньора Кастийон-д'Арбизона, графа Вера. – Напиши графу, что англичане вывесили штандарт графа Нортгемптона.
– Ты опознал его? – спросил другой консул.
– Он реял здесь достаточно долго, – с горечью ответил Лоррет.
Некогда Кастийон-д'Арбизон принадлежал англичанам и платил подати дальнему Бордо, но потом английское нашествие отхлынуло, и Лоррет не ожидал, что снова увидит знамя графа Нортгемптона. Четверым гарнизонным солдатам, которые напились в таверне и потому избежали участи своих товарищей, он приказал отвезти составленное секретарем послание в замок Бера и, чтобы добавить им прыти, вручил посланцам пару золотых монет, сам же, собравшись с духом, направился вместе с тремя другими консулами от ворот в сторону крепости. К ним присоединились отец Медоуз и священник из церкви Святого Каллика, сзади следовала толпа взволнованных, перепуганных горожан.
Лоррет принялся стучать в замковые ворота, решив, что сейчас он вызовет этих наглых захватчиков и задаст им жару. Уж он нагонит на них страху, будьте спокойны. Потребует, чтобы немедленно убирались из Кастийон-д'Арбизона, иначе их возьмут в осаду и уморят голодом. Вот так!
Он еще обдумывал свою гневную, грозную речь, когда створки больших ворот были оттянуты назад на скрипучих петлях, и перед ним предстала целая дюжина английских лучников в стальных шлемах и кольчугах-хоберках. При виде огромных луков и длинных стрел Лоррет непроизвольно попятился.
Потом вперед выступил давешний молодой монах, только на сей раз он предстал уже не доминиканцем, а рослым воином, облаченным вместо рясы в кольчугу. Голова его была непокрыта, а короткие черные волосы выглядели так, точно он подрезал их ножом. На нем были черные штаны и высокие черные сапоги, а на его черном ремне висели короткий нож и длинный меч в простых ножнах. Серебряная цепь на шее отличала в нем командира. Он оглядел стоящих в ряд сержантов и консулов, потом кивнул Лоррету.
– Прошлым вечером мы так толком и не познакомились, – сказал он, – хотя я представился, и ты наверняка запомнил мое имя. А теперь твоя очередь назвать свое.
– Тебе нечего здесь делать! – вспыхнул Лоррет.
Томас посмотрел вверх, на бледное, почти выцветшее небо, явно предвещавшее новые холода.
– Святой отец, – обратился он к Медоузу, – постарайся перевести мои слова так, чтобы все поняли, что происходит.
Он снова перевел взгляд на Лоррета.
– Или ты будешь говорить со мной разумно и спокойно, или я прикажу своим людям убить тебя и поговорю уже с твоими товарищами. Понял? Как тебя зовут?
– Но ты же монах! – негодующе воскликнул консул.
– Нет, – отозвался Томас, – я мирянин, просто переоделся монахом. Ты поверил, будто я клирик, потому что я умею читать. Священником был мой отец, и он обучил меня грамоте. Так как, говоришь, тебя зовут?
– Я Галат Лоррет, – ответил консул.
– И, судя по твоей одежде, – Томас указал на отороченное мехом одеяние Лоррета, – ты наделен здесь властью?
– Мы консулы, – произнес Лоррет со всем достоинством, которое смог собрать.
Остальные три консула, все помоложе Лоррета, тоже пытались сохранить внешнее спокойствие, но напускать на себя равнодушный вид, когда под аркой угрожающе поблескивают наконечники стрел, было нелегко.
– Очень приятно, – любезно промолвил Томас. – Раз ты тут командуешь, так обрадуй свой народ сообщением о том, что город возвращен своему законному владельцу, графу Нортгемптону. И передай им, что его светлость не любит, чтобы подданные, забросив работу, слонялись по улицам.
Он кивнул отцу Медоузу, и тот, запинаясь, стал переводить эту речь собравшимся. Послышались протестующие голоса. Самые смышленые сразу смекнули, что смена сеньора неизбежно повлечет за собой увеличение податей.
– На сегодняшнее утро у нас назначена одна работа – сожжение еретички, – ответил Лоррет.
– Это что, работа?
– Божья работа, – настойчиво повторил Лоррет. Он возвысил голос и заговорил на местном наречии: – Народу было позволено отвлечься от повседневных трудов, дабы люди могли полюбоваться тем, как в городе выжигают зло.
Отец Медоуз переводил Томасу сказанное.
– Таков обычай, – добавил священник, – да и епископ настаивает, чтобы сожжение производилось при стечении народа.
– Обычай? – удивился Томас. – Вы так часто сжигаете девушек, что у вас даже сложился обычай?
Отец Медоуз смущенно замотал головой.
– Отец Рубер сказал, что мы должны казнить еретичку публично, при всем народе.
Томас нахмурился.
– Отец Рубер, – уточнил он, – это тот самый священник, который велел вам сжечь девушку на медленном огне? И объяснил, как правильно сложить костер?
– Он доминиканец, – ответил отец Медоуз, – настоящий. Он сам уличил эту девицу в ереси и обещал, что будет присутствовать.
Священник огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть отсутствующего брата Рубера.
– Он, несомненно, пожалеет, что пропустил такое развлечение, – сказал Томас и жестом приказал своим лучникам расступиться.
Они образовали проход, по которому сэр Гийом, облаченный в кольчугу, с обнаженным мечом в руке, вывел приговоренную из замка.
При виде девушки толпа заулюлюкала, но свист, насмешки и оскорбления смолкли, когда стрелки вновь сомкнулись у нее за спиной и подняли свои страшные луки. Робби, в кольчуге и с мечом на боку, протолкался сквозь шеренгу лучников и, не сводя глаз, смотрел на стоящую теперь рядом с Томасом Женевьеву.
– Это и есть та самая девушка? – спросил Томас.
– Да, та самая еретичка, – ответил Лоррет.
Женевьева смотрела на Томаса с недоумением. В последний раз она видела его в монашеском одеянии, нынче же он мало походил на священника, ибо облачился в обержон – прекрасной работы короткую кольчугу, которую он за ночь, пока охранял казематы, чтобы никто не расправился с пленниками, еще и начистил до блеска.
Женевьева уже не была в лохмотьях. Томас послал в ее камеру двух кухонных служанок с водой, одеждой и костяным гребнем, чтобы она могла привести себя в порядок, и отдал ей белое платье, принадлежавшее жене кастеляна. Платье было дорогое, из тонкого, хорошо отбеленного полотна, расшитое по подолу, вороту и рукавам золотой нитью, однако Женевьева держалась в нем так, словно от рождения привыкла носить столь изысканные наряды. Длинные волосы девушка заплела в косу, скрепив прическу желтой лентой. Она стояла рядом с Томасом со связанными спереди руками. Необычайно высокая для женщины, она не опускала голову и смело глядела на столпившихся горожан.
Отец Медоуз не без смущения указал на сложенный костер, словно напоминая, что не стоит попусту тянуть время.
Томас снова взглянул на Женевьеву. Она была одета как невеста – невеста, идущая на смерть, и лучник был поражен ее красотой. Уж не за эту ли красоту так ополчились против нее жители города? Отец Томаса всегда утверждал, что красота вызывает не только любовь, но и ненависть, ибо по самой своей природе она противоречит обыденности и, по сравнению со скукой и грязью повседневной жизни, воспринимается как дерзкий вызов. Красота же Женевьевы, такой высокой, стройной и бледной, казалась неземной. Робби, должно быть, испытывал то же самое, ибо он не отрывал от нее глаз и смотрел с выражением безграничного восхищения.
Галат Лоррет сделал жест в сторону подготовленного для казни костра.
– Хочешь, чтобы народ вернулся к работе, распорядись поторопиться с казнью, – сказал он.
– Так ведь мне отроду не доводилось жечь женщин, – отозвался Томас. – Тут время нужно, чтобы сообразить, что да как делать.
– Нужно обернуть у нее вокруг пояса цепь, которая крепится к столбу, – начал давать пояснения Лоррет. – А кузнец закрепит ее скобой.
Он поманил городского кузнеца, ждавшего распоряжений со скобой и молотком в руках.
– А уголек, чтобы поджечь костер, можно взять из любого очага.
– В Англии, – сказал Томас, – принято, чтобы палач душил жертву под покровом дыма. Это акт милосердия и осуществляется он с помощью тетивы.
Он достал из кожаного кошелька у пояса тетиву.
– У вас тут есть такой же обычай?
– Есть. Но на еретиков он не распространяется, – строго заявил Галат Лоррет.
Томас кивнул, вернул тетиву в кошель и, взяв Женевьеву за руку, подвел к столбу. Робби рванулся было вперед, чтобы вмешаться, но сэр Гийом остановил его. Потом Томас заколебался.
– Должен быть документ, – сказал он Лоррету. – Предписание. Документ, наделяющий светскую власть полномочиями для исполнения приговора, вынесенного церковью.
– Он был послан кастеляну, – сказал Лоррет.
– Ему? – Томас посмотрел на жирный труп. – Вот ведь незадача: этот мошенник никаких документов мне не передал, а я не могу взять да и сжечь девушку без соответствующего предписания.
Лучник растерянно нахмурился, потом повернулся к Робби.
– Может быть, ты поищешь его? Кажется, я видел в холле сундук с пергаментами. Поройся в нем, поищи свиток с тяжелой печатью.
Робби, которому трудно было оторвать взгляд от лица Женевьевы, в первый момент выглядел так, будто хотел возразить, но потом вдруг кивнул и зашагал в замок. Томас отступил на шаг, увлекая за собой девушку.
– Пока мы ждем, – сказал он отцу Медоузу, – может быть, ты напомнишь народу, за что ее хотят сжечь?
Священник, казалось, растерялся от этого предложения, однако он собрался с мыслями и произнес:
– У некоторых людей околела скотина. А еще она прокляла жену одного человека.
На лице Томаса отразилось легкое удивление:
– Скотина и в Англии иногда дохнет. И мне тоже случалось проклинать чьих-то жен. Разве это делает меня еретиком?
– Она предсказывает будущее! – возразил Медоуз. – Она плясала обнаженной в грозу и использовала магию, чтобы обнаружить воду.
– Вот оно что. – Томас выглядел озабоченным. – Воду?
– С помощью прутика! – вмешался Галат Лоррет. – Это дьявольские чары!
Томас, казалось, призадумался. Он бросил взгляд на Женевьеву, которую било мелкой дрожью, потом перевел взгляд на отца Медоуза.
– Скажи мне, отец, – промолвил он, – может быть, я не прав, но я считал, что Моисей ударил по скале посохом своего брата и исторг воду из камня?
Изучать Священное Писание отцу Медоузу доводилось в незапамятные времена, но эта история показалась ему знакомой.
– Я припоминаю кое-что подобное, – признал он.
– Отец! – предостерегающе произнес Галат Лоррет.
– Молчать! – рявкнул Томас на консула и возвысил голос: – «Cumque elevasset Moses manum, – начал он по памяти и как будто ничего не перепутал, – percutiens virga bis silicem egressae sunt aquae largissimae».
Невеликое, казалось бы, преимущество – родиться внебрачным отпрыском священника да провести несколько недель в Оксфорде, но нахватанных знаний, как правило, было достаточно, чтобы переспорить настоящего клирика.
– Ты не перевел мои слова, святой отец, – сказал он священнику. – Давай-ка расскажи народу, как Моисей ударил посохом по скале и оттуда хлынула вода. А потом ответь, в чем грех этой девушки. Ведь если Богу угодно, чтобы воду находили с помощью палки, то что плохого, если она то же самое делала с помощью прутика?
Толпе это не понравилось. Послышались выкрики, и только вид двух лучников, появившихся на крепостной стене над двумя болтающимися трупами, их утихомирил.
– Она прокляла женщину и предсказывала будущее, – поспешно перевел священник возгласы протестующих.
– И что она там увидела, в будущем? – спросил Томас.
– Смерть, – ответил вместо отца Медоуза Лоррет. – Она сказала, что город наполнится трупами и мы будем лежать на улицах непогребенными.
На Томаса эти слова, казалось, произвели впечатление.
– Надо же, страсти какие! А она, часом, не предсказывала, что вы вернетесь под власть своего законного сеньора? Не говорила, что граф Нортгемптон пришлет сюда меня, а?
Последовало молчание, затем Медоуз покачал головой.
– Нет, – сказал он.
– Выходит, – промолвил Томас, – она не слишком-то хорошо прозревала будущее. Значит, дьявол ей не помогал.
– Епископский суд решил иначе, – упорствовал Лоррет, – и не твоего ума дело судить, правильно или нет решение законных властей.
Меч, молниеносно выхваченный Томасом из ножен, для защиты от ржавчины был смазан маслом, и его клинок влажно сверкнул, уткнувшись в отороченное мехом одеяние Галата Лоррета.
– Я и есть законная власть! – заявил Томас, наступая на отшатнувшегося консула. – И тебе стоит об этом помнить. Я никогда не встречал вашего епископа, но если он считает девушку еретичкой из-за того, что где-то сдохла корова, значит, он дурак, а если он выносит ей приговор, потому что она делает то же самое, что Господь повелел сделать Моисею, значит, он богохульник.
Лучник снова сделал выпад мечом, заставив Лоррета торопливо попятиться.
– Какую женщину она прокляла?
– Мою жену, – с негодованием ответил Лоррет.
– Она умерла? – спросил Томас.
– Нет, – признал Лоррет.
– Значит, проклятие не подействовало, – сказал Томас, возвращая меч в ножны.
– Она нищенствующая, – не уступал отец Медоуз.
– А что значит «нищенствующая»? – спросил Томас.
– Еретичка, – беспомощно промямлил священник.
– Ты ведь не знаешь, что это значит, верно? – сказал Томас. – Для тебя это просто слово, и за это одно слово ты готов ее сжечь?
Он вытащил поясной нож, но тут, словно вспомнив о чем-то, снова повернулся к консулу.
– Я полагаю, ты собираешься послать донесение графу Бера?
Лоррет попытался изобразить удивление, словно ни о чем подобном и не помышлял.
– Не держи меня за глупца, – сказал Томас. – Ты, поди, уже состряпал ему послание. Так вот, напиши вашему графу и вашему епископу, сообщи им, что я захватил Кастийон-д'Арбизон, и сообщи им также…
Томас помолчал. Всю ночь он терзался сомнениями и горячо молился, ибо очень старался быть добрым христианином, но сердце упорно твердило ему, что девушка не должна сгореть. И тот же внутренний голос подсказывал, что его искушает жалость, и золотистые волосы, и блестящие глазки, и он терзался еще пуще, но в конце своих молитв он понял, что не может послать Женевьеву на костер. Так что теперь лучник разрезал веревку, стягивавшую ее руки, а когда в толпе послышались протестующие возгласы, возвысил голос:
– Скажи вашему епископу, что я освободил эту еретичку. Он сунул нож обратно в ножны, правой рукой обнял худенькие плечи Женевьевы и снова обернулся к толпе.
– Скажи вашему епископу, что она находится под защитой графа Нортгемптона. И если ваш епископ захочет узнать, кто это сделал, назови ему то же самое имя, которое ты сообщишь графу де Бера. Томас из Хуктона.
– Уктона, – повторил Лоррет, с заминкой произнося непривычное слово.
– Хуктон, – поправил его Томас, – и скажи ему, что милостью Господней Томас из Хуктона является правителем Ка-стийон-д'Арбизона.
– Ты? Будешь здесь править? – возмущенно спросил Лоррет.
– Буду, – подтвердил Томас. – И как ты сам только что убедился, я принял на себя власть распоряжаться жизнью и смертью. В том числе и твоей, Лоррет.
С этими словами он повернулся и увел Женевьеву во внутренний двор. Ворота со скрежетом затворились.
Кастийон-д'Арбизон, за неимением другого развлечения, вернулся к повседневным трудам.
Два дня Женевьева молчала и не брала в рот ни крошки. Она не отходила от Томаса, наблюдала за ним, но когда он заговаривал с ней, лишь качала головой. Порой она тихо плакала. Плакала беззвучно, даже не всхлипывая, и лишь в глазах ее стояло отчаяние, а по лицу ручьями текли слезы.
Робби пытался поговорить с ней, но она шарахалась от него. Хуже того, при его приближении ее бросало в дрожь, что, в свою очередь, обижало Робби.
– Проклятая чертова еретичка, – ругал он ее на своем шотландском диалекте, и Женевьева, хоть и не зная английского языка, понимала смысл его слов и лишь глядела на Томаса большими испуганными глазами.
– Она боится, – сказал Томас.
– Меня? – возмущенно спросил Робби, и это возмущение казалось оправданным, ибо сам облик Робби Дугласа, курносого, простоватого паренька, говорил о добродушном нраве.
– Ее пытали, – пояснил Томас. – Неужели ты не понимаешь, что после этого чувствует человек?
Он непроизвольно глянул на костяшки своих пальцев, по-прежнему скрюченных после пыточных тисков. В свое время Томас даже боялся, что никогда больше не сможет натянуть лук, но Робби, как настоящий друг, не дал ему опустить руки.
– Она обязательно оправится, – сказал он Робби.
– Я же отношусь к ней по-дружески, – промолвил шотландец.
Томас поглядел на друга, и Робби покраснел.
– Епископ ведь пришлет новое предписание, – продолжил шотландец.
Первый документ, найденный в окованном железом сундуке среди прочих рукописей замка, Томас сжег. Большую часть этих пергаментов составляли податные списки, реестры солдатского жалованья, расписки и тому подобные документы. Были там и монеты, собранные для уплаты податей и составившие первую добычу отряда Томаса.
– И что ты будешь делать после того, как епископ пришлет новое предписание? – не унимался Робби.
– А что бы ты хотел, чтобы я сделал? – спросил Томас.
– У тебя не будет иного выхода, – пылко воскликнул Робби, – тебе придется отправить ее на костер. Епископ от своего не отступится.
– Вероятно, – согласился Томас. – Когда дело касается костров да пыток, церковь проявляет большую настойчивость.
– Значит, ей нельзя здесь оставаться! – воскликнул Робби.
– Я освободил ее, – отозвался Томас, – она может идти куда пожелает.
– Давай я отвезу ее в По, – предложил Робби. (В По, далеко на западе, стоял ближайший английский гарнизон.) – Там она будет в безопасности. Дай мне неделю на всё про всё, и я доставлю ее туда в целости и сохранности.
– Ты нужен мне здесь, Робби, – сказал Томас. – Нас мало, а врагов, когда они явятся, будет много.
– Позволь мне увезти ее отсюда…
– Она останется, – твердо заявил Томас, – пока не захочет уйти сама.
Робби собрался что-то возразить, но промолчал, резко повернулся и вышел из комнаты. Сэр Гийом слушал их молча и понял большую часть этого разговора.
– Через день-другой, – мрачно сказал он по-английски, чтобы не поняла Женевьева, – Робби захочет ее сжечь.
– Сжечь ее? – изумился Томас. – Что ты! Робби хочет спасти ее.
– Он хочет ее, – сказал сэр Гийом, – и если не получит, то, пожалуй, решит: пускай она не достанется никому. – Гийом пожал плечами, потом перешел на французский. – Будь она некрасивой, – произнес он, взглянув на Женевьеву, – осталась бы она в живых?
– Будь она некрасивой, – ответил Томас, – наверное, ее бы не осудили.
Сэр Гийом пожал плечами. Его незаконнорожденная дочь Элеанор была подругой Томаса, пока ее не убил Ги Вексий. Теперь сэр Гийом посмотрел на Женевьеву и понял, что она красавица.
– Ты ничем не лучше шотландца, – сказал рыцарь.
На вторую ночь после того, как они захватили замок, когда люди, высланные в рейд за фуражом, все благополучно вернулись домой, лошади были накормлены, ворота заперты, часовые расставлены, а ужин съеден, и бойцы в большинстве своем легли спать, Женевьева бочком вышла из алькова за гобеленом, где Томас предоставил ей кровать кастеляна, и подошла к очагу, возле которого устроился Томас с загадочной книгой своего отца. Обычно Робби и сэр Гийом спали в холле вместе с Томасом, но сегодня сэр Гийом отвечал за караул, а Робби внизу пил и играл в кости с ратниками.
Женевьева в длинном белом платье тихо сошла с помоста, подошла к его креслу и опустилась на колени у огня. Некоторое время она, не отрываясь, смотрела на пламя, потом подняла глаза на Томаса, и он залюбовался игрой света и тени на ее лице. Лицо как лицо, говорил он себе, однако на самом деле это лицо его завораживало.
– Если бы я была некрасивой, – спросила вдруг девушка, заговорив в первый раз с самого своего освобождения, – я бы все равно осталась жива?
– Да, – сказал Томас.
– Так за что же ты спас мне жизнь?
Томас закатал рукав и показал ей шрамы на руке.
– Меня тоже пытал доминиканец, – сказал он.
– Каленым железом?
– И каленым железом тоже.
Она поднялась с колен, обвила руками его шею и положила голову ему на плечо. Девушка молчала, он тоже, оба не шевелились. Томас вспоминал боль, унижение, ужас, и на глаза его невольно наворачивались слезы.
Тут заскрипели старые петли, и дверь отворилась. Томас сидел спиной к двери и не видел вошедшего, но Женевьева вскинула голову, чтобы посмотреть, кто нарушил их уединение. Повисла тишина, затем послышался звук затворяемой двери и удаляющиеся по лестнице шаги. Томасу не было нужды спрашивать, кто приходил. Он и так понял: это был Робби.
Женевьева снова положила голову ему на плечо. Она молчала. Он чувствовал, как бьется ее сердце.
– Ночью хуже всего, – сказала она.
– Я знаю, – сказал Томас.
– Днем, – сказала она, – есть на что смотреть. А в темноте остаются только воспоминания.
– Я знаю.
Не разнимая рук, она откинула голову и устремила на него жаркий, пламенный взгляд.
– Я ненавижу его, – сказала она, и Томас понял, что речь идет о ее мучителе. – Его зовут отец Рубер, – продолжила девушка, – и я хочу увидеть его душу в аду.
Томас, который убил своего мучителя, не знал, что сказать, поэтому промолвил уклончиво:
– Бог распорядится его душой.
– До Бога порой кажется так далеко, – сказала Женевьева, – особенно когда темно.
– Тебе нужно есть, – сказал он, – и нужно спать.
– Не могу спать, – сказала она.
– Надо – значит, будешь, – возразил Томас, снял ее руки со своей шеи и отвел в альков за гобелен. Где и остался.
Наутро Робби перестал разговаривать с Томасом. Правда, их отчуждение не так бросалось в глаза, ибо у всех было по горло дел. Требовалось собрать с города и заложить в замке на хранение запас провизии. Местного кузнеца надо было научить, как изготавливать английские наконечники для стрел, а самим бойцам нарубить тополей и ясеней на заготовки для щитов. Гусям общипали крылья на оперение для стрел, словом, люди Томаса ни минуты не сидели без дела. Только вот настроение у всех было мрачным. Воодушевление, охватившее всех после того, как отряд с такой легкостью захватил замок, сменилось тревогой, и Томас, в первую очередь отвечавший за боевой дух, понимал, что дело плохо.
Сэр Гийом д'Эвек, который был гораздо старше Томаса, разъяснил причину происходящего.
– Дело в девушке, – сказал он. – Она должна умереть.
Разговор происходил в большом холле, и Женевьева, сидевшая у огня, поняла, о чем речь. Робби пришел с сэром Гийомом, но теперь он смотрел на девушку не со страстным вожделением, а с нескрываемой ненавистью.
– Объясни почему, – потребовал Томас.
Он перечитывал копию книги своего отца со странными намеками на Грааль. Ее переписывали в спешке, кое-где неразборчивыми каракулями, многое в ней казалось бессмыслицей, но он верил, что когда-нибудь ему удастся извлечь из нее какой-нибудь толк.
– Она еретичка! – сказал сэр Гийом.
– Она проклятая ведьма, – запальчиво бросил Робби.
Теперь он уже немного говорил по-французски, достаточно, чтобы понять разговор, но предпочел высказать свое возражение по-английски.
– Ее не обвиняли в колдовстве, – сказал Томас.
– Черт побери! Она использовала магию!
Томас отложил пергамент в сторону.
– Я замечал за тобой, – сказал он Робби, – что ты стучишь по дереву, когда чем-то встревожен. А зачем?
Робби сверкнул на него глазами.
– Подумаешь! Все так делают.
– Тебе что, на проповеди велели так делать?
– При чем тут проповедь? Все так делают, вот и всё.
– Зачем?
Робби выглядел сердитым, но умудрился найти ответ:
– Чтобы отвратить зло. Зачем же еще?
– Однако нигде, ни в Священном Писании, ни в трудах Отцов церкви ты не найдешь такого совета. Это не христианский обычай, однако ты его соблюдаешь. Что же, я должен за это отправить тебя на суд епископа? Или, не утруждая епископа, сам отправить тебя на костер?
– Что за чушь собачья? – возмутился Робби.
Сэр Гийом успокоил шотландца и заговорил сам:
– Томас, эта девица – еретичка, она осуждена церковью и, если останется здесь, это навлечет на нас беду. Люди волнуются, понимаешь ты или нет? Бога ради, Томас! Ну что хорошего может проистечь из укрывания еретички? Все знают, что такие дела чреваты злом.
Томас так хлопнул по столу, что Женевьева вздрогнула.
– Ты, – он указал на сэра Гийома, – сжег мою деревню, убил мою мать и моего отца-священника и после этого ты говоришь мне о зле?
Гийому нечего было возразить на эти обвинения, он и сам не знал, как стал другом человека, которого осиротил, но все же не смолчал перед разгневанным Томасом.
– Я знаю зло, – сказал он, – потому что сам творил зло. Но Господь простит нас.
– Господь простит тебя, – спросил Томас, – а ее не простит?
– Так решила церковь.
– А я решил иначе, – упорствовал Томас.
– Боже милостивый, – воскликнул сэр Гийом, – ты что, вообразил себя хреновым Папой?
Ему понравились английские бранные слова, и он пускал их в ход вперемежку с родными французскими.
– Она околдовала тебя, – пробурчал Робби.
Женевьева посмотрела так, точно хотела заговорить, но передумала и отвернулась. Вместе с порывом ветра в окно залетели струи дождя, на полу образовалась лужа.
Сэр Гийом посмотрел на девушку, потом перевел взгляд на Томаса.
– Люди ее не потерпят, – сказал он.
– Потому что ты их мутишь, – рявкнул Томас, хотя и знал, что смута идет от Робби, а не от сэра Гийома.
С тех пор как Томас перерезал узы Женевьевы, он все время терзался, зная, что его долг сжечь Женевьеву, и чувствуя, что не может этого сделать. Его отец, безумный, гневный и блистательный в своем гневном безумии, как-то раз едко высмеял церковные представления о ереси.
То, что считается ересью сегодня, сказал отец Ральф, завтра может быть признано церковной доктриной, а Господь Бог не нуждается в услугах одних людей, чтобы жечь других. Он прекрасно может сделать это и сам.
Томас лежал без сна, терзаясь в мучительных раздумьях и все это время сознавая, как сильно желает он Женевьеву. Он спас ее не потому, что его одолели богословские сомнения, а потому, что его одолела страсть и сочувствие к живой душе, претерпевшей страдания по вине церкви.
Робби, обычно такой прямодушный и порядочный, кое-как справился со своим гневом.
– Томас, – сказал он спокойно, – подумай о том, зачем мы явились сюда, и подумай, дарует ли Господь нам успех, если мы оставим у себя еретичку.
– Я только об этом и думаю, – сказал Томас.
– Некоторые из солдат уже поговаривают о том, чтобы уйти, – предостерег его сэр Гийом. – О том, чтобы подыскать себе другого начальника.
– Лучше я уйду, – подала в первый раз голос Женевьева. – Вернусь на север. Я не хочу вам мешать.
– Далеко не уйдешь, – возразил Томас. – И сколько, по-твоему, ты проживешь? Если мои солдаты не порешат тебя прямо во дворе, то уж горожане точно прикончат на улице.
– Так что же мне делать? – спросила она.
– Пойдем со мной, – сказал Томас и направился к нише рядом с дверью, где висело распятие. Он стянул его с гвоздя и поманил к себе девушку, сэра Гийома и Робби. – Идемте.
Он вывел их во двор замка, где большинство из его людей дожидались результатов депутации Гийома и Робби. При появлении Женевьевы поднялся недовольный ропот, и Томас понял, что рискует потерять доверие своих подчиненных. Он был слишком молод, чтобы командовать таким большим отрядом, но солдаты поверили ему, так же как и граф Нортгемптон, решивший, что он справится заданием. И вот он столкнулся с первым серьезным испытанием. Томас ждал испытания, но полагал, что это будет испытание битвой, однако дело сложилось иначе, и ему не оставалось ничего другого, кроме как попытаться справиться с возникшими затруднениями.
Томас остановился на верхней ступени выходившей на двор лестницы, дождался, когда все взоры обратятся к нему, и громко сказал:
– Сэр Гийом! Сходи к кому-нибудь из городских священников и попроси у него облатку. Освященную облатку, из тех, что приготовлены для ближайшей церемонии.
Сэр Гийом заколебался.
– А если они откажут?
– Ты солдат, а они нет, – сказал Томас, и люди в толпе заухмылялись.
Сэр Гийом кивнул, опасливо глянул на Женевьеву и жестом позвал за собой двух ратников. Те повиновались неохотно, никому не хотелось пропустить, что еще отчудит Томас, но сэр Гийом рыкнул, и они последовали за ним за ворота. Томас высоко поднял распятие.
– Если эта девушка служит дьяволу, – сказал он, – она не сможет посмотреть на это и не сможет коснуться его. Если я поднесу его к ее глазам, она ослепнет! Если я коснусь ее кожи, она станет кровоточить. Вы знаете это! Вы слышали об этом от ваших матерей! Этому учили вас священники в своих проповедях!
Многие закивали, и все, разинув рты, глазели, как Томас поднес распятие к открытым глазам Женевьевы, а потом коснулся им ее лба. Некоторые затаили дыхание и очень удивились, увидев, что глаза Женевьевы целы и на прозрачной белой коже не осталось отметины.
– Это дьявол ей помогает! – выкрикнул, однако, кто-то.
– Ну ты и болван! – Томас возмущенно сплюнул. – Дьявол, выходит, помогает ей проделывать колдовские трюки? Тогда почему он не помог ей убежать? Почему она сидела в подвале и не удрала? Почему сейчас стоит здесь и у нее не выросли крылья, чтобы улететь, оставив всех нас с носом? Почему, а?
– Бог не дает дьяволу явить свою силу.
– Но если здесь властен Бог, а не дьявол, то как же дьявол может помочь ей выдержать прикосновение распятия? Нет, парень, у тебя одно с другим не сходится! И вот еще что: если она творение дьявола, у нее вместо ног должны быть кошачьи лапы. Вы все знаете это!
Многие из присутствующих пробормотали, что так оно и есть: всем было хорошо известно, что дьявол дарует своим присным кошачьи лапы, дабы они могли неслышно красться в темноте и творить свои черные дела.
– Сними туфли, – велел он Женевьеве и, когда она разулась, указал на ее босые ноги.
– Ну и это, по-вашему, чертова кошка? Много она наловит мышей с такими когтями?
Кто-то попытался возразить, но не слишком уверенно. И Томас насмешливо отмел все возражения.
Тут как раз вернулся сэр Гийом, а с ним и отец Медоуз. Священник принес маленькую серебряную шкатулку с облатками, которые всегда держал наготове на тот случай, если его вызовут к умирающему.
– Это не положено, – начал было отец Медоуз, но умолк, когда Томас на него зыркнул.
– Поди-ка сюда, священник, – сказал Томас, а когда отец Медоуз подошел, забрал у него шкатулку. – Одно испытание девица прошла, – заявил он, – но этого мало. Я хочу подвергнуть ее следующему. Все вы это знаете, и это известно даже в Шотландии, – он выдержал паузу и указал на Робби, – что сам дьявол не может защитить свои творения от прикосновения Тела Христова. Она умрет! Она будет корчиться в муках, ее плоть на глазах превратится в тлен, и могильные черви будут копошиться на том месте, где она стояла. Ее пронзительные вопли будут слышны на небесах. Всем вам это известно?
Все это знали и закивали, наблюдая, как Томас, достав из шкатулки, протянул Женевьеве кусочек темного хлеба. Девушка замерла в нерешительности, со страхом заглядывая в глаза Томаса, но он улыбнулся, и она послушно открыла рот и позволила ему положить плотную облатку ей на язык.
– Убей ее, Господи! – воззвал отец Медоуз. – Убей ее! О Иисусе, Иисусе, убей ее!
Его голос эхом прокатился по двору замка, отдаваясь от крепостных стен, и смолк; все, затаив дыхание, следили, как Женевьева глотает облатку.
Томас сознательно дал молчанию затянуться, потом многозначительно посмотрел на целую и невредимую Женевьеву.
– Она пришла сюда со своим отцом, – сказал он своим людям на английском языке. – Тот был жонглером, выступавшим на ярмарках, а она обходила зрителей со шляпой. Мы все видали таких людей: канатоходцев, плясунов на ходулях, фокусников, огнеглотателей – кто их не знает? Но ее отец умер, и она, чужестранка, осталась одна среди народа, который говорит на другом языке. Такая же чужая, как мы! Никто не любил ее за то, что она нездешняя. Она даже не говорила на их наречии! Они ненавидели ее, потому что она не такая, как все, и прозвали ее еретичкой. Вот священник, он тоже упрекает ее в ереси. Но в тот вечер, когда я явился сюда, он угощал меня в своем доме, и я видел в его доме женщину. Она готовит для него, убирает, стирает, она живет в его доме, а кровать у него только одна.
Это вызвало смех, на что Томас и рассчитывал. Томасу было все равно, сколько кроватей у отца Медоуза. Может быть, у него их десяток, да только возразить священник не мог, ибо не понимал того, что говорил англичанин.
– Вы только что сами убедились в том, что никакая она не нищенствующая, – продолжил Томас. – Она просто бесприютный человек, вроде нас с вами, а здешний народ ополчился против нее, потому что она не такая, как все. Так вот, если кто-то из вас все еще боится ее и все еще думает, что она принесет нам беду, убейте ее прямо сейчас.
Он отступил назад и встал, скрестив руки. Женевьева, которая не поняла ни слова из того, что он сказал, посмотрела на него с беспокойством на лице.
– Ну давайте, – сказал Томас своим людям. – У вас есть луки, мечи, ножи. У меня нет ничего. Просто убейте ее! Это не будет считаться убийством. Церковь говорит, что она должна умереть, так что если хотите, можете совершить богоугодное дело.
Робби сделал полшага вперед, но, уловив настроение во дворе, дальше не двинулся.
Потом кто-то рассмеялся, а следом неожиданно засмеялись все. Женевьева все еще выглядела озадаченной, но Томас улыбался. Он поднял руки, и люди смолкли.
– Она остается и будет жить. А вас еще ждет много недоделанной работы. Так ступайте, черт возьми, и займитесь делом!
Томас увел Женевьеву обратно в замок, а Робби только плюнул им вслед. Войдя в комнату, Томас повесил на место распятие и закрыл глаза. Он молился, благодарил Господа за то, что она прошла испытание облаткой. И главное, за то, что она останется с ним.
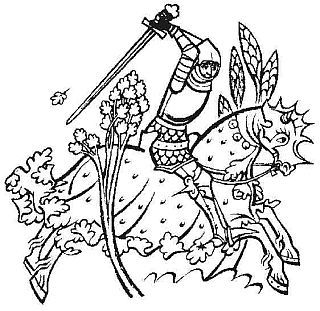 |
Первые две недели Томас потратил на подготовку к осаде. В замке Кастийон-д'Арбизон имелся колодец, вода в нем была солоноватой и мутной, но раз есть колодец, то без воды защитники не останутся. А вот с провиантом дело обстояло хуже: от старого гарнизона англичанам досталось лишь несколько мешков отсыревшей муки, бочонок проросших бобов, кувшин прогорклого оливкового масла да несколько головок заплесневелого сыра. В первые дни англичане обшарили весь город и ближайшие деревни и заполнили запасами снеди весь подвал. Когда же вблизи все было подчищено, начались дальние вылазки. Для Томаса это была война как война, такая же, какая прокатилась по всей Бретани, добравшись чуть ли не до ворот Парижа. Человек десять он оставлял охранять замок, а остальные верхом следовали за ним в какую-нибудь деревню, платившую подати графу Бера. Они угоняли скот, опустошали амбары, а хижины поджигали. После двух таких вылазок к Томасу явилась депутация от одной деревни с предложением откупиться от наездов деньгами, а на следующий день прибыли еще два таких же посольства с мешками монет. Странствующие наемники быстро прослышали о том, что в Кастийон-д'Арбизоне обосновался удачливый командир, под началом которого можно разжиться деньгами и добычей. Не прошло и десяти дней, как Томас завладел городом, а у него под рукой уже оказалось более шестидесяти человек. У него было два верховых отряда, каждый день совершавших рейды по окрестностям, и почти каждый день Томас продавал излишки награбленного на рынке. Деньги он делил на три доли: одну для графа Нортгемптона, одну для себя, которой делился с сэром Гийомом и Робби, и третью для солдат. Женевьева всюду сопровождала Томаса. Томасу это не нравилось, он считал, что женщина в набеге – лишняя обуза, и запрещал солдатам, которые обзавелись подружками, брать их с собой. Но Женевьева по-прежнему боялась Робби и кое-кого из остальных, разделявших предубеждения шотландца, а потому уговорила Томаса не оставлять ее одну. Отыскав где-то в арсенале замка маленький обержон, она оттирала его песком и уксусом, пока руки ее не покраснели и не покрылись мозолями, но зато кольчуга засверкала, как серебро. Правда, обержон все равно болтался на ее стройной фигурке, как мешок, но она туго перепоясала его полоской желтой ткани, а еще одну такую же прицепила к макушке своего простого, подбитого кожей шлема. Народ Кастийон-д'Арбизона скоро привык видеть, как Женевьева в серебристой кольчуге въезжает в город во главе колонны верховых солдат, ведущих за собой вьючных лошадей, нагруженных добычей и гонящих украденный скот, и называл ее не иначе как «драга». В здешних краях все знали, кто такие драги – взбалмошные, смертельно опасные ведьмы, облаченные в светящиеся белые одежды. По глубокому убеждению горожан, Женевьева была ведьмой, приспешницей дьявола, и с его помощью приносила англичанам удачу. Как ни странно, большинство солдат Томаса после этих слухов стали ею гордиться. Лучники привыкли к тому, что в Бретани их считали адским отродьем, и, вопреки всем обычаям, гордились этим прозвищем. В конце концов, это наводило на людей страх, и скоро бойцы начали считать Женевьеву чем-то вроде живого талисмана, приносящего удачу.
Томас обзавелся новым луком. Большинство лучников, когда их старые луки изнашивались, просто покупали новые из запасов, которые доставлялись из Англии, но в Кастийон-д'Арбизоне таких запасов не было, и, кроме того, Томас умел и любил изготавливать это оружие сам. Первым делом он отыскал в саду Галата Лоррета подходящую тисовую ветку, отрубил ее, ободрал кору и снял наружный слой древесины. В результате получилась прямая палка, темная, как кровь, с одной стороны, и бледная, как мед, с другой. Темная сторона была сердцевиной тиса, сопротивлявшейся натяжению, а светлая представляла собой пружинистую заболонь. Именно сочетание этих двух древесных слоев с разными свойствами делало лук тугим и упругим, благодаря чему пущенная из него стрела летела, словно крылатый демон.
Новый лук оказался еще длиннее и мощнее, чем старый, и Томас порой думал, не слишком ли длинным его задумал, однако он упорно работал ножом, придавая дереву нужную форму, и в конечном счете добился того, что деревянная заготовка равномерно сужалась от середины к обоим концам. Затем он отчистил и отполировал поверхность и покрыл краской, предназначенной, чтобы удерживать в древесине влагу, иначе лук переломится пополам. Роговые навершия, красовавшиеся на концах старого лука, перекочевали на новый, а к середине его, с наружной стороны, Томас прикрепил серебряную пластинку с отцовской эмблемой –
Впервые опробовав свое изделие, лучник подивился его мощи. Чтобы натянуть лук, потребовалось огромное усилие, но зато и пробная стрела взвилась высоко в небо.
Из ветки поменьше он изготовил другой, детский лук, натягивающийся почти без усилия, и подарил его Женевьеве. Она стала упражняться, потешая солдат тем, как выпущенные ею в Божий свет тупые стрелы разлетались по двору замка куда попало. Но она упорно упражнялась, и в один прекрасный день все выпущенные ею стрелы, пролетев по дуге, ударились о внутреннюю сторону замковых ворот.
Тем же вечером Томас отправил к чертям свой старый лук. Лучники никогда не выбрасывали оружие, даже сломанное и пришедшее в полную негодность. Расставание с луком давало повод для обильных возлияний и веселья, но главным была церемония сожжения. Старый лук предавали огню, как говорилось, «к чертям», чтобы он дожидался там своего хозяина. Томас смотрел, как горит тис, видел, как лук изогнулся в последний раз, затем треснул, брызнув искрами, и ему вспомнились сделанные из этого оружия выстрелы.
Лучники Томаса почтительно стояли вокруг очага большого зала, а за спиной у них молча сгрудились ратники. Лишь когда от лука осталась изломанная полоска пепла, Томас поднял кубок с вином.
– К чертям! – возгласил он старинное напутствие.
– К чертям! – хором подхватили лучники и ратники, для которых приглашение на ритуал стрелков было особой честью.
Все, кроме Робби, стоящего в стороне. Шотландец взял в обычай носить поверх кольчуги серебряное распятие, демонстрируя тем самым желание оградить себя от дьявольских чар.
– Добрый был лук, – сказал Томас, глядя на тлеющие угольки.
Но новый был не хуже, а может быть, и лучше, и два дня спустя он взял его с собой, когда повел людей в самую крупную до сих пор вылазку.
В замке осталась лишь горстка воинов, необходимая для охраны. Томас планировал этот рейд не на один день, знал, что вылазка будет долгой, а потому выступил до рассвета. Звук копыт эхом отдавался от фасадов домов, когда отряд, звеня оружием, выехал к западной арке, где привратник, чей посох теперь украшал герб графа Нортгемптона, торопливо распахнул перед ними ворота. Всадники рысцой потрусили по мосту и скрылись на юге, среди деревьев. Куда направились англичане, не знал никто.
Они поехали на восток, к Астараку. К тому самому месту, где когда-то жили предки Томаса, к тому месту, где некогда, может быть, тайно хранился Грааль.
– Это его ты рассчитываешь там найти? – спросил сэр Гийом. – Ты думаешь, мы на него наткнемся?
– Я не знаю, что мы найдем, – признал Томас.
– Там ведь есть замок, да?
– Был раньше, – сказал Томас, – но мой отец говорил, что теперь он нежилой.
Нежилым этот замок оказался после того, как был взят и разрушен, и Томас рассчитывал найти там одни руины.
– Зачем же ехать? – спросил сэр Гийом.
– Грааль, – лаконично ответил Томас.
По правде говоря, он ехал из чистого любопытства, но его люди, не знавшие, что он ищет, почувствовали в этой вылазке что-то необычное. Томас ограничился тем объяснением, что ближние окрестности уже разграблены и, чтобы чем-то поживиться, нужно предпринять дальний рейд, однако солдаты no-наблюдательнее заметили, что командир чем-то взволнован.
Сэр Гийом, как и Робби, понимал, каково значение Астарака. Сейчас Робби возглавлял авангард из шести лучников и трех ратников, которые для обнаружения возможной засады ехали на расстоянии четверти мили впереди. Вел их проводник из Кастийон-д'Арбизона, утверждавший, что знает эту дорогу как свои пять пальцев. Путь шел все время в гору, где низкие редкие деревья почти не закрывали обзора. Каждые несколько минут Робби махал рукой в знак того, что впереди все чисто. Сэр Гийом, который ехал с непокрытой головой, кивнул на маячившего впереди всадника.
– Выходит, вашей дружбе конец? – спросил он.
– Надеюсь, что нет, – сказал Томас.
– Ты можешь надеяться, черт возьми, на что хочешь, – сказал сэр Гийом, – но она встала между вами.
Лицо сэра Гийома изуродовал кузен Томаса, оставив нормандцу лишь правый глаз, по левой щеке тянулся шрам, а бороду рассекал белый рубец. Рыцарь был страшен с виду и грозен в бою, но вместе с тем он был великодушным человеком. Сейчас сэр Гийом смотрел на Женевьеву, которая ехала на серой кобыле в стороне от тропы. Она была в своей серебристой кольчуге, светло-серых, облегающих длинные ноги штанах и коричневых сапогах.
– Лучше бы ты ее тогда сжег, – добродушно промолвил рыцарь.
– Ты по-прежнему так думаешь?
– Нет, – признался сэр Гийом. – Мне она нравится. Если Женни нищенствующая, то лучше бы таких нищенствующих было побольше. Но знаешь, как тебе следует поступить с Робби?
– Сразиться с ним?
– Боже упаси, нет! – ужаснулся сэр Гийом, который и в мыслях не допускал ничего подобного. – Отправь его домой. Сколько он должен заплатить за свой выкуп?
– Три тысячи флоринов.
– Не так уж и много, ей-богу! Заплатить за него, и пусть катится! Три тысячи флоринов у тебя, уж наверное, найдется, дай ему и отправь восвояси. Пускай уплатит выкуп и проваливает в свою чертову Шотландию.
– Люб он мне, – сказал Томас.
И это была сущая правда. Он по-прежнему считал Робби другом и надеялся, что их прежние добрые отношения еще вернутся.
– Как ты его ни люби, – едко возразил сэр Гийом, – но ты же с ним не спишь, а когда дело доходит до выбора, Томас, всяк выбирает ту, что греет ему постель. Долголетию это, может быть, не способствует, зато жить веселее.
Рыцарь рассмеялся и отвернулся, высматривая внизу возможных врагов.
Враги не показывались. Граф Бера словно забыл об англичанах, прибравших к рукам часть его владений, но сэр Гийом, воин куда более опытный, чем Томас, подозревал, что граф просто собирает силы.
– Он не суется к нам, пока не готов, – промолвил нормандец, – но это до поры до времени. А ты заметил, что коредоры проявляют к нам интерес?
– Заметил, – ответил Томас. От него не укрылось, что во время вылазок за его отрядом постоянно наблюдали оборванцы разбойничьего вида. Разумеется, наблюдали издалека, никогда не приближаясь на расстояние выстрела из лука, но они были повсюду, и он знал, что в этих холмах в любую минуту может на них наткнуться.
– А ведь это не в обычае разбойников – нападать на солдат, – заметил сэр Гийом.
– Пока что они на нас не нападали, – указал Томас.
– Следят-то они за нами не ради забавы, – сухо промолвил рыцарь.
– Вероятно, за наши головы назначена награда, – отозвался Томас. – Эти мошенники хотят денег, и в один прекрасный день они наберутся смелости. Я, во всяком случае, надеюсь на это.
Он погладил свой новый лук, вложенный в притороченный к седлу длинный кожаный чехол.
Солнце еще не перевалило за полдень, а отряд уже пересек несколько широких плодородных долин, разделенных высокими скалистыми грядами, протянувшимися с севера на юг. С вершины гряды Томас видел десятки деревень, но когда они спустились, все деревни скрылись из виду, заслоненные деревьями. С возвышенностей они увидели два замка, оба маленькие, оба с реющими на башнях флагами. И тот и другой находились слишком далеко, и герба было не разглядеть, но Томас предполагал, что это штандарты Вера. По каждой из долин текла с юга на север река, но переправиться через них не составляло труда, ибо ни мост, ни броды никем не охранялись. Здешние дороги, как и реки, шли по долинам вдоль холмов, тоже с юга на север, и местные сеньоры, хозяева этих богатых земель, не опасались пришельцев с запада или с востока. Их замки запирали входы в долины, что позволяло гарнизонам собирать пошлины с проезжающих по дорогам купцов.
– Это и есть Астарак? – спросил сэр Гийом, когда они перевалили очередной кряж.
Он смотрел вниз, на деревеньку с небольшим замком.
– Замок Астарак разрушен, – ответила Женевьева. – Там только башня и остатки стен на утесе. Больше ничего.
– Ты там бывала? – спросил Томас.
– Мы с отцом всегда отправлялись на оливковые ярмарки.
– Оливковые ярмарки?
– В праздник святого Иуды, – пояснила она. – Туда стекалась уйма народу. Мы зарабатывали хорошие деньги.
– А там, значит, торговали оливками.
– Оливковым маслом, только что отжатым; понавезут, бывало, столько, что хоть залейся, – кувшинами отмеряли. По вечерам начинались забавы: выпустят обмазанного маслом поросенка, и люди ловят, кто сможет ухватить. А еще там устраивали бои быков и танцы…
Она рассмеялась и поскакала вперед. Женевьева ездила хорошо, с прямой спиной и твердой посадкой, тогда как сам Томас, подобно большинству лучников, болтался в седле, как куль с овсом.
Миновал полдень, когда отряд въехал в долину Астарака. Коредоры уже заметили англичан, и десятка два оборванных разбойников следовали за ними по пятам, держась, однако, на почтительном расстоянии. Томас не обращал на них внимания, он пристально вглядывался в темные очертания разрушенного замка, высившегося на каменной скале в полумиле к югу от маленькой деревушки.
С севера вдалеке виднелся монастырь, скорее всего цистерцианский, потому что у церкви не было колокольной башни. Он оглянулся на замок, подумав, что, раз его семья некогда им владела, если его предки правили этими землями, а его родовое знамя реяло над этой, ныне полуразрушенной, башней, он должен бы испытать какие-то особые, сильные чувства. Но в душе не шевельнулось ничего, кроме смутного разочарования. Эта земля ничего для него не значила, и ему трудно было понять, как нечто столь драгоценное, как Грааль, могло иметь отношение к этой жалкой груде развалин.
Возвратился из дозора Робби, Женевьева посторонилась, уступая ему место рядом с Томасом. Робби даже не посмотрел в ее сторону, серебряный крест у него на груди ослепительно сверкнул ей в глаза.
– Замок – и посмотреть не на что! – сказал он Томасу.
– Верно, – согласился тот.
Робби резко повернулся к нему так, что скрипнуло седло.
– Дай мне дюжину ратников наведаться в монастырь. Поди, у них полные закрома.
– Возьми с собой еще полдюжины лучников, – предложил Томас, – а я с остальными посмотрю, что есть в деревне.
Робби кивнул, потом оглянулся на маячивших вдалеке коредоров.
– Эти ублюдки не осмелятся напасть.
– Я тоже так думаю, – согласился Томас, – но у меня есть подозрение, что за наши головы назначена награда. Так что держитесь вместе.
Робби кивнул и, так и не взглянув на Женевьеву, поскакал прочь. Отправив с шотландцем шестерых лучников, Томас с сэром Гийомом спустились во главе своего отряда в деревню. Едва там завидели приближающихся всадников, как посреди домов запылал огромный костер и к безоблачному небу взметнулся густой столб черного дыма.
– Подают знак, – сказал сэр Гийом. – Дальше на всем пути нас будут так встречать.
– Знаками?
– Граф Бера не дремлет, – пояснил рыцарь. – По всей округе отдан приказ зажигать при нашем появлении сигнальные огни, чтобы вилланы других деревень угоняли в леса свой скот и прятали дочерей. Ну а главное, дым будет виден в Бера, и граф будет знать, где мы находимся.
– Мы же чертовски далеко от Бера.
– Да, и сегодня они за нами не поскачут, – согласился сэр Гийом. – Понимают, что им все равно не успеть.
О цели нынешнего похода люди Томаса знали не много. Они думали, что выехали просто пограбить жителей. В конце концов, думали солдаты, граф Бера не стерпит такого разбоя и выступит против них со своим войском, завяжется настоящее сражение, и тогда они с Божьей помощью (а если не с Божьей, так хоть с помощью дьявола) сумеют захватить ценных пленников и станут еще богаче. Ну а до тех пор грабили, что подвернется, и крушили, что попадалось на пути. С этой целью Робби поехал к монастырю, сэр Гийом повел остальных людей в деревню, и лишь Томас с Женевьевой повернули на юг и стали подниматься по едва заметной тропе к лежащему в руинах замку.
«Когда-то он был нашим», – думал Томас. Здесь жили его предки, однако он по-прежнему не испытывал никаких чувств. Он никогда не думал о себе как о гасконце и, уж тем паче, как о французе. Он был англичанином, но сейчас, всматриваясь в разрушенные стены, пытался представить себе те времена, когда замок высился целым и невредимым и распоряжались в нем его, Томаса, предки.
Они с Женевьевой привязали своих коней у разрушенных ворот и, перебравшись через завал упавших камней, проникли во внутренний двор. Впрочем, проникнуть туда можно было и с любой другой стороны, от стены почти ничего не осталось, ее обломки по камушку растащили окрестные жители на строительство своих домов или амбаров. Лучше всего сохранилась главная башня, но и она наполовину обрушилась и с южной стороны зияла пустым провалом. В северной стене наверху видны были остатки очага, внизу торчали каменные выступы, подпиравшие пол. С восточной стороны спиралью поднималась вверх винтовая лестница, ведущая в пустоту.
Рядом с башней, на самом высоком выступе скалистого утеса, находились остатки часовни. Ее пол был вымощен каменными плитами, на одной из которых сохранилась та же эмблема, что и на луке Томаса. Он положил лук на пол и присел на корточки, прислушиваясь к себе, не отзовется ли что-то в душе при встрече с родными местами.
– Когда-нибудь, – Женевьева стояла на обломках южной стены, глядя на юг, вниз на долину, – ты расскажешь мне, зачем мы сюда приходили.
– Набег сделали, зачем же еще? – буркнул Томас.
Девушка сняла шлем и встряхнула по-девичьи распущенными волосами. Она смотрела на него, улыбаясь, ветер трепал ее светлые пряди.
– Ты принимаешь меня за дурочку, Томас?
– Что ты, нет! – осторожно возразил он.
– Ты едешь во Францию, проделываешь длинный путь из Англии, – сказала она, – приезжаешь в маленький городок под названием Кастийон-д'Арбизон, а оттуда направляешься сюда. По пути можно было выбрать для набега какое угодно селение среди десятка других, а мы выбрали это. И тут оказывается та же эмблема, что на твоем луке.
– Геральдических знаков очень много, – возразил Томас, – и среди них попадаются похожие.
Она помотала головой, как бы отметая это возражение.
– Что изображает эта эмблема?
– Йал, – ответил он.
Йал представлял собой вымышленного геральдического зверя с грозными клыками и когтями, одетого в чешуйчатую броню. На пластинке, прикрепленной к луку Томаса, зверь держал чашу, а вот в когтистых лапах чудовища, изображенного на полу, ничего не было.
Женевьева посмотрела мимо Томаса туда, где люди сэра Гийома загоняли скот в загон.
– Мы с отцом наслушались всяких историй, – сказала она. – Он любил слушать рассказы и вечерами частенько пересказывал мне. Предания о чудовищах, обитающих в горах, о драконах, летающих над крышами домов, легенды о чудесах у святых источников, о женщинах, у которых рождались монстры. Тысячи всевозможных историй. А попадая в эти долины, мы снова и снова слышали одно и то же предание.
Она умолкла.
– Продолжай, – сказал Томас.
Ветер налетал порывами, поднимая длинные тонкие пряди ее волос. Она была достаточно взрослой, чтобы собрать их в узел на макушке, как делают женщины, но ей нравилось ходить с распущенными волосами. Томасу подумалось, что это делает ее еще более похожей на драгу.
– Мы все слышали о сокровищах «совершенных», – сказала Женевьева.
Совершенными называли предшественников нынешних нищенствующих, еретиков, отрицавших власть церкви, чье учение распространялось на юге до тех пор, пока церковь с помощью короля Франции не разгромила гнездо вольнодумства. Костры, на которых во множестве сжигали еретиков, отгорели еще сто лет назад, однако отголоски учения катаров (другое название «совершенных») нет-нет да и всплывали даже поныне. Хотя в эту часть Гаскони катарская ересь не проникала, некоторые представители церкви утверждали, что ею заражен весь христианский мир и ее тайных последователей можно встретить повсюду.
– Сокровища «совершенных», – бесцветным голосом повторил Томас.
– Ты прибыл сюда из далекой страны, – продолжила Женевьева, – а сам носишь здешний родовой герб. Бывая здесь с отцом, мы всякий раз слышали предания об Астараке. Они живы и по сей день.
– Какие предания?
– О том, как один знатный сеньор, спасаясь от преследователей, нашел здесь убежище, и он привез с собой сокровища «совершенных». Предание гласит, будто эти сокровища по сию пору находятся здесь.
Томас улыбнулся.
– Будь они здесь, их бы давным-давно откопали и унесли.
– Если клад спрятан как следует, – возразила Женевьева, – его не так-то легко найти.
Томас посмотрел вниз на деревушку. Из загона, где забивали скот, доносились рев, пронзительные крики и блеянье. Лучшие куски кровоточащего свежего мяса будут привязаны к седлам и отвезены в замок для соления и копчения, а вилланам останутся рога, копыта, потроха и шкуры.
– Люди всюду рассказывают сказки, – сказал он, как бы поставив точку.
Но Женевьева будто не слышала этих слов.
– Из всех сокровищ, – тихонько промолвила она, – есть одно, самое драгоценное. Но говорят, что найти его может только Совершенный.
– Значит, найти его может один Бог, – сказал Томас.
– Однако тебя, Томас, это не останавливает и ты продолжаешь поиски?
– Поиски?
– Поиски Грааля.
Итак, слово было сказано. Нелепое, несуразное слово, невозможное слово, название того, чего, как подозревал Томас, вообще не существует на свете, того, за чем он приехал. Отцовские заметки позволяли предположить, что священник владел Граалем, и кузен Томаса, Ги Вексий, уверен, что Томас знает, где находится эта реликвия, и последует за Томасом хоть на край света, да и Томас явился в Астарак, чтобы подманить кузена-убийцу на расстояние прицельного выстрела из нового лука.
Он поднял взгляд на вершину полуобрушенной башни.
– Сэр Гийом знает, зачем мы здесь, – сказал ей лучник, – знает и Робби. Но больше никто, так что держи язык за зубами.
– Не проговорюсь, – пообещала девушка. – А ты веришь, что он существует?
– Нет, – твердо ответил Томас, хотя в душе вовсе не был так уверен.
– Не нет, а да, – сказала Женевьева.
Томас подошел к ней и тоже стал смотреть на юг, где среди лугов и оливковых рощ петляла речушка. Там показались люди, он знал, что это коредоры, их было десятка два. Он подумал, что с этим надо что-то делать, иначе они так и будут рыскать вокруг его отряда, выжидая, когда кто-нибудь отобьется от своих, чтобы его схватить. Томас не боялся коредоров, но лучше заранее припугнуть этих разбойников и отогнать их подальше.
– Он существует, – настойчиво повторила Женевьева.
– Откуда тебе это знать? – спросил Томас, не спуская глаз с оборванцев, которые в свою очередь следили ним.
– Грааль как Бог, – сказала Женевьева. – Он везде, повсюду вокруг нас, Он явлен во всем, но мы отказываемся Его видеть. Люди думают, будто Бога можно увидеть, только когда построишь огромный храм, наполнишь его золотом, серебром и статуями, а на самом деле для этого достаточно только открыть глаза. Грааль существует, Томас, нужно только раскрыть глаза, и увидишь.
Томас достал из мешка старую стрелу и изо всех сил натянул тетиву. Спина его заныла от напряжения: новый лук был непривычно тугим. Он держал стрелу низко, на уровне своего пояса, а левую руку согнул в локте кулаком вверх; спущенная стрела взлетела в небо и понеслась, пока белое оперение не исчезло из виду. Описав дугу, стрела вонзилась в землю у самой речушки за триста ярдов от замка. Коредоры намек поняли и убежали.
– Ну вот, извел попусту хорошую стрелу, – проворчал Томас, взял Женевьеву за руку и отправился искать своих людей.
Робби залюбовался монастырскими угодьями, на которых работали облаченные в белое цистерцианцы. Завидев выехавших из деревни одетых в кольчуги всадников, монахи, подобрав подолы, пустились наутек, бросив прекрасные виноградники, под которые была отдана большая часть земель, хотя были там и грушевый сад, и оливковая роща, и овечье пастбище, и рыбный пруд. Робби поразило изобилие этой земли. Изо дня в день он слышал жалобы на скудный урожай, но по сравнению с тощей каменистой почвой его далекой северной родины южная Гасконь показалась ему раем.
В монастыре ударили в набат.
– Наверняка у них есть ризница, – промолвил лучник по имени Джейк, подъехав к Робби и кивком указав на обитель. – А этого, – он имел в виду одинокого монаха, который вышел из сторожки и спокойно направился навстречу всадникам, – мы прикончим. Тогда остальные не доставят нам никаких хлопот.
– Никого ты не прикончишь, – отрезал Робби.
Жестом шотландец велел своим людям придержать лошадей, спешился, бросил поводья Джейку и пошел навстречу очень высокому, очень худому и очень старому монаху. У него были редкие, росшие венчиком вокруг тонзуры седые волосы, узкое, смуглое лицо и глаза, лучившиеся мудростью и добротой. Одетый в кольчугу Робби со щитом за спиной и длинным мечом у пояса невольно смутился, почувствовав неуместность своего появления в громоздких военных доспехах.
Правый рукав белого монаха был запачкан чернилами. Робби в первый миг решил, что это писец. Старого монаха, очевидно, послали для переговоров с налетчиками, чтобы он предложил им выкуп или убедил проявить уважение к дому Господню. Глядя на него, Робби вспомнил, как принимал участие в разграблении знаменитого английского приората черных каноников в Гексэме, на границе с Шотландией. Он вспомнил, как братия умоляла захватчиков, потом грозила им Божьими карами и как шотландцы лишь посмеялись над монахами и разорили монастырь. И неминуемое возмездие постигло шотландцев, Господь попустил англичанам одержать победу у Дарема. Это воспоминание и неожиданно осенившая молодого шотландца догадка, что святотатственное разрушение Гексэма могло стать причиной даремской катастрофы, заставили Робби призадуматься. Он замер на месте и, наморщив лоб, соображал, что скажет высокому монаху, который с улыбкой ждал, когда он заговорит.
– Вы, должно быть, английский отряд, который появился в округе? – спросил монах на очень хорошем английском.
Робби замотал головой.
– Я шотландец, – ответил он.
– Шотландец! Шотландец, и в одном отряде с англичанами! Мне довелось как-то провести два года в цистерцианской обители Йоркшира, и от тамошних братьев я ни разу не слыхал ни одного доброго слова о шотландцах. Но ты явился сюда вместе с англичанами, и я начинаю думать, что мне выпало стать свидетелем одного из редчайших чудес, какие только может предложить наш грешный мир, – сказал монах с улыбкой. – Меня зовут аббат Планшар, и моя обитель в твоем распоряжении. Делай что пожелаешь, молодой человек, мы не окажем сопротивления.
Он сошел с тропинки и жестом указал на монастырь, как бы приглашая Робби обнажить меч и приступить к разграблению.
Робби не шелохнулся. Он вспоминал Гексэм. Вспоминал умиравшего в церкви монаха: его кровь струилась из-под черного одеяния и капала со ступеньки, а пьяные шотландские солдаты переступали через него, волоча добычу: свечи, церковные сосуды и расшитые ризы.
– Но если хочешь, – снова заговорил аббат, – то вино у нас свое, монастырское, но, увы, не самое лучшее. Мы не даем ему созреть, зато у нас есть прекрасный козий сыр, а брат Филипп печет самый лучший хлеб в долине. Мы можем напоить ваших лошадей, а вот сена у нас, к сожалению, мало.
– Нет, – отрывисто произнес Робби и, обернувшись назад, крикнул своим людям: – Поезжайте обратно к сэру Гийому!
– Что ты сказал? – в недоумении переспросил один из ратников.
– Возвращайтесь к сэру Гийому. Живо!
Забрав у Джейка своего коня, он бок о бок с аббатом пошел к монастырю. Робби молчал, но аббат Планшар, по-видимому, понял по его молчанию, что молодой шотландец хочет поговорить. Он велел привратнику приглядеть за конем, а потом попросил гостя оставить свой меч и щит при входе.
– Конечно, ты можешь оставить их у себя, – сказал аббат, – но мне кажется, что без оружия тебе будет удобнее. Добро пожаловать в Сен-Север, обитель Святого Севера.
– Святой Север, он кто? – спросил Робби, отстегивая висевший на шее щит.
– Считается, что он здесь, в долине, вылечил сломанное крыло ангелу. Не скрою, порой мне довольно трудно в это поверить, но Господь любит испытывать нашу веру, и я каждый вечер молюсь святому Северу, и благодарю его за это чудо, и прошу его исправить и меня, как он – то белое крыло.
Робби улыбнулся.
– Ты нуждаешься в исправлении?
– Мы все нуждаемся. Когда мы молоды, у нас чаще всего повреждается дух, а когда становимся стары, то тело.
Аббат Планшар взял Робби под локоть и повел на монастырский двор, где пригласил своего гостя присесть на низенькую ограду между двумя столбами.
– Ты Томас, да? Ведь так, кажется, зовут начальника англичан?
– Нет, я не Томас, – ответил Робби, – но выходит, вы тут о нас наслышаны.
– А то как же? За все время, с тех пор как тут однажды упал ангел, ваше появление – единственное примечательное событие в наших краях, – промолвил аббат с улыбкой, а потом обернулся и попросил подошедшего монаха принести вина, хлеба и сыра. – И, пожалуй, меда! Мы делаем очень хороший мед, – добавил он, обращаясь к Робби. – За ульями ухаживают прокаженные.
– Прокаженные?
– Они живут позади нашего дома, – невозмутимо пояснил аббат, – того самого дома, который ты, молодой человек, собирался разграбить. Я прав?
– Да, – признался Робби.
– А вместо этого ты здесь сидишь и преломляешь со мной хлеб.
Планшар помолчал, его проницательные глаза внимательно вглядывались в лицо юного шотландца.
– Ты что-то хотел сказать мне?
Робби нахмурился.
– Откуда ты знаешь? – озадаченно спросил он.
Планшар рассмеялся.
– Когда ко мне приходит солдат, вооруженный, в доспехах, но с висящим поверх кольчуги распятием, нетрудно понять, что этот человек размышляет о Боге. Ты, сын мой, носишь знак на груди, – он указал на распятие, – а мне хоть и минуло восемьдесят пять лет, но этот знак я все еще различаю.
– Восемьдесят пять! – ахнул в изумлении Робби.
Аббат промолчал. Он просто ждал, и Робби, помявшись, выложил все, что накипело у него на душе. Он рассказал, как они захватили Кастийон-д'Арбизон, как нашли в его застенках нищенствующую и как Томас спас ей жизнь.
– Это беспокоит меня, – сказал Робби, уставясь в траву, – и я думаю, что, пока она жива, нам не приходится ждать ничего хорошего. Ее осудила церковь!
– Да, это так, – промолвил Планшар и погрузился в молчание.
– Она еретичка! Ведьма!
– Я знаю о ней, – мягко сказал Планшар, – и слышал, что она жива.
– Она здесь! – воскликнул Робби, указав на юг, в сторону деревни. – Здесь, в вашей долине!
Планшар глянул на Робби, понял, что видит перед собой бесхитростную, простую, но смятенную душу, и мысленно вздохнул. Потом он налил немного вина и пододвинул к молодому человеку хлеб, сыр и мед.
– Поешь, – мягко сказал он.
– Это неправильно! – горячился Робби.
Аббат не прикоснулся к еде. Правда, он отпил глоток вина, а потом заговорил тихонько, глядя на струйку дыма, поднимавшуюся над разожженным в деревне сигнальным костром.
– Грех нищенствующей не твой грех, сын мой, – промолвил он, – и когда Томас освободил ее, это сделал не ты. Тебя так тревожат чужие грехи?
– Я должен убить ее! – заявил Робби.
– Нет, не должен, – решительно возразил аббат.
– Нет? – удивился Робби.
– Если бы Господь хотел этого, – сказал аббат, – он не послал бы тебя сюда поговорить со мной. Божий промысел понять бывает непросто, но я давно заметил, что Он чаще избирает не окольные, как мы, а прямые пути. Мы же склонны усложнять Бога, потому что не видим простоты добра.
Он помолчал.
– Ты вот сказал, что, пока она жива, вас не ждет ничего хорошего, но скажи, почему ты думаешь, что Господь должен непременно ниспослать вам что-то хорошее? В здешнем краю все было тихо-мирно, разве что шайки разбойников иногда нарушали покой. И что же, если она умрет, Господь сделает вас еще более злобными?
Робби промолчал.
– Ты вот все толкуешь о чужих грехах, – продолжил уже более сурово Планшар, – а о своих собственных помалкиваешь. Для кого ты надел распятие – для других? Или для себя?
– Для себя, – тихо промолвил Робби.
– Ну так и расскажи мне о себе, – предложил аббат.
И Робби рассказал.
Жослен де Безье, сеньор Безье и наследник обширного графства Бера, обрушил свой кулак на столешницу с такой силой, что изо всех щелей поднялась пыль.
Его дядя, граф, нахмурился.
– Незачем стучать по дереву, Жослен, – миролюбиво сказал он. – В столе нет личинок древоточца. По крайней мере, я на это надеюсь. Его протирают скипидаром, чтобы они не заводились.
– Мой отец изводил личинки древоточца с помощью смеси щелока и мочи, – заметил отец Рубер, сидящий напротив графа и разбирающий заплесневелые пергаменты, ни разу никем не потревоженные с той самой поры, как их сто лет назад вывезли из Астарака. Некоторые были обуглены по краям: свидетельство того, что в разоренном замке бушевал пожар.
– Щелок и моча? Надо будет попробовать.
Граф поскреб макушку под своей вязаной шерстяной шапочкой, потом поднял глаза на рассерженного племянника.
– Ты ведь знаешь отца Рубера, Жослен? Конечно знаешь.
Он всмотрелся в очередной документ, представляющий собой просьбу об увеличении численности городской стражи Астарака на два человека, и вздохнул.
– Если бы ты умел читать, Жослен, ты бы мог нам помочь.
– Я помогу тебе, дядя, – пылко заявил Жослен. – Еще как помогу, ты только спусти меня с поводка!
– Это можно передать брату Жерому, – пробормотал граф, добавляя прошение о выделении дополнительной стражи в большой ларец, который предстояло отнести вниз, где молодой монах из Парижа читал пергаменты. – И подмешай еще каких-нибудь документов, – сказал он отцу Руберу, – чтобы совсем заморочить ему голову. Этих старых податных списков из Лемьера ему хватит на месяц!
– Тридцать человек, дядя, – не унимался Жослен. – И это все, о чем я прошу! У тебя восемьдесят семь ратников. Дай мне всего тридцать!
Жослен, сеньор Безье, отличался внушительной статью: рослый, плечистый, грудь колесом, здоровенные руки. Подкачало только лицо – круглое и настолько ничего не выражающее, что дядюшка, глядя на пучеглазого племянника, порой сомневался, есть ли в этой голове хоть немного мозгов. Соломенная шевелюра, почти всегда примятая кожаным подшлемником, венчала голову, которую редко посещали мысли, зато голова эта сидела на широченных, могучих плечах. И если при отменной мускулатуре Жослен не обладал острым умом, у него все же имелись свои достоинства. Так, молодой человек был весьма усерден, даже если его усердие ограничивалось исключительно турнирными площадками, где он слыл одним из лучших бойцов в Европе. Он дважды побеждал в Парижском турнире, посрамил лучших английских рыцарей на большом состязании в Туксбери и прославился даже в германских княжествах. Хотя немецкие рыцари считали себя лучшими на свете, Жослен добыл себе дюжину лучших призов. Он дважды за один поединок уложил на широкую спину самого Вальтера фон Зигенталера; единственным рыцарем, который постоянно побеждал Жослена, был боец в черных латах, выступавший под прозвищем Арлекин. Этот таинственный воин неизменно появлялся на всех турнирах, выколачивая там деньги, но Арлекина никто не видел уже три или четыре года, и Жослен полагал, что в отсутствие этого соперника он может стать первейшим бойцом на всех ристалищах Европы.
Жослен родился близ Парижа, в усадьбе младшего брата графа, который семнадцать лет назад скончался от поноса. Мальчик рос в нужде, ибо унаследовал от отца одни долги, а его дядюшка, граф де Бера, был знаменитым скупердяем и не раскошеливался на помощь бедствующей вдове. Впрочем, Жослен достаточно скоро научился добывать деньги копьем и мечом, каковое умение граф, бесспорно, ставил ему в заслугу. Равно как и то, что племянник привел с собой к дядюшке двух собственных ратников, которым платил из своего кошелька. По мнению графа, это свидетельствовало о способности Жослена к управлению людьми.
– Но тебе все-таки непременно нужно выучиться грамоте, – закончил он свою мысль вслух. – Грамотность делает человека цивилизованным, Жослен.
– Вся грамотность и грамотеи не стоят кучи дерьма! – взвился Жослен. – В Кастийон-д'Арбизоне хозяйничают английские бандиты, а мы ничего не делаем! Ничего!
– Нельзя сказать, что мы так уж ничего не делаем, – возразил граф, снова почесав макушку под шерстяной шапочкой.
Он задумался о том, не является ли этот назойливый зуд предвестником какого-то более серьезного заболевания, и мысленно велел себе свериться со списками Галена, Плиния и Гиппократа.
– Мы послали сообщения в Тулузу и Париж, – объяснил он Жослену, – и я принесу протест сенешалю в Бордо. Я буду протестовать весьма решительно!
Сенешаль был регентом английского короля в Гаскони, и граф еще не решил, что пошлет ему свой протест, ведь это вполне могло подтолкнуть и других английских авантюристов к захвату земель в Бера.
– К черту протесты, – возразил Жослен. – Перебить ублюдков, и все дела. Они нарушают перемирие!
– Они англичане, – согласился граф. – Англичане всегда нарушают перемирие. Недаром говорят: «Лучше довериться дьяволу, чем англичанину».
– Так надо их убить, – не унимался Жослен.
– Мы, несомненно, так и поступим, – ответил граф.
Он трудился, разбирая ужасный почерк давно покойного писца, составившего договор с человеком по имени Сестье о прокладке дренажных канав замка Астарак древесиной вяза.
– В свое время, – добавил он рассеянно.
– Дай мне тридцать человек, дядюшка, и я выкурю их за неделю!
Граф отложил договор и взялся за другой документ. Чернила от времени стали бурыми и сильно выцвели, но он сумел разобрать, что это контракт с каменщиком.
– Жослен, – обратился он к племяннику, не отрываясь от контракта, – как же ты собираешься выкурить их за неделю?
Жослен воззрился на графа, как на сумасшедшего.
– Отправлюсь в Кастийон-д'Арбизон и всех их перебью.
– Понятно. Понятно, – отозвался граф таким тоном, словно был благодарен за полученное объяснение. – Но в прошлый раз, когда я побывал в Кастийон-д'Арбизоне, мне, хоть и было это много лет тому назад, после того как ушли англичане, все же помнится, что крепость там была каменная. Как же ты собираешься одолеть ее мечом и копьем?
Он улыбнулся племяннику.
– О господи! Они будут драться.
– О, ничуть в этом не сомневаюсь. Что-что, а подраться англичане любят не меньше тебя. Но у этих англичан есть лучники, Жослен, лучники! Ты когда-нибудь сражался с английским лучником на турнирном поле?
Жослен пропустил этот вопрос мимо ушей.
– Подумаешь, лучники! Их всего-то двадцать!
– Солдаты гарнизона докладывают, что их двадцать четыре, – педантично поправил граф.
Уцелевшие воины из гарнизона Кастийон-д'Арбизона были отпущены англичанами и убежали в Бера. Двоих граф в назидание остальным повесил, а прочих дотошно допросил. Эти сидели сейчас в графской темнице, дожидаясь отправки на юг, где их должны были продать на галеры. При мысли о верной прибыли от продажи этих бездельников граф невольно ухмыльнулся. Он совсем уж было собрался отправить контракт каменщика в корзину, когда его взгляд зацепился за одно слово, и какой-то инстинкт побудил его придержать документ.
– Позволь, Жослен, рассказать тебе об английском боевом луке, – терпеливо начал он, обращаясь к племяннику. – Он сделан из тиса – немудреная вещь, мужицкое оружие. Мой ловчий умеет пользоваться этой штуковиной, но в Бера он единственный человек, умеющий обращаться с этим оружием. И как ты думаешь: почему?
Он подождал, но его племянник не ответил.
– А я скажу тебе почему, – продолжил граф. – Потому, Жослен, что на это требуются годы, многие годы. Не так-то просто овладеть мастерством стрельбы из тисового лука. Десять лет? Быть может, все десять, но зато через десять лет лучник может пробить кольчугу с расстояния в двести шагов. – Старик улыбнулся. – Шпок, и готово! Простой мужицкий лук, а человека в доспехах за тысячу экю как не бывало. И это не случайное везение, Жослен. Мой ловчий может послать стрелу сквозь браслет со ста шагов. Кольчугу пробьет с двухсот. Я сам видел, как он насквозь прошил стрелой дубовую дверь со ста пятидесяти, а дверь была толщиной в три дюйма!
– У меня стальные латы, – угрюмо проворчал Жослен.
– Латы – это хорошо. А на расстоянии пятидесяти шагов англичане разглядят в твоем забрале прорези для глаз и засадят несколько стрел в твои мозги. Хотя ты, Жослен, может, и выживешь.
Жослен насмешки не понял.
– Арбалеты, – сказал он.
– У нас тридцать арбалетчиков, – сказал граф, – но все они уже далеко не молоды, а некоторые к тому же больны, и я сомневаюсь, чтобы они смогли управиться с этим молодым человеком… как там бишь его имя?
– Томас из Хуктона, – вставил отец Рубер.
– Странное имя, – сказал граф, – но имя именем, а дело свое этот малый, похоже, знает. Я бы сказал, что это человек, с которым надо держать ухо востро.
– Пушки! – предложил Жослен.
– А! Пушки! – воскликнул граф, словно до сего момента не догадывался об их существовании. – Да, мы, конечно, могли бы доставить пушки в Кастийон-д'Арбизон. Я даже рискну предположить, что эти штуковины способны вышибить ворота замка и вообще устроить ужасный разгром, да только вот где их возьмешь? Говорят, есть одна в Тулузе, но чтобы ее притащить, требуется восемнадцать лошадей. Можно, конечно, послать за пушками в Италию, но наем этих штуковин очень дорог, пушкари с механиками обойдутся и того дороже, и я очень сомневаюсь, что они сумеют доставить их сюда до весны. А до той поры нам остается только уповать на Господа.
– Но нельзя же сидеть сложа руки! – возмутился Жослен.
– Верно, Жослен, верно, – искренне согласился граф.
Дождь барабанил по вставленным в оконный переплет роговым пластинкам, занавешивая серой пеленой весь город; вода струилась по сточным канавам, затопляя выгребные ямы, просачиваясь сквозь соломенные кровли, и бурным, хоть и неглубоким ручьем выливалась из нижних ворот города. Погода для боев неподходящая, подумал граф, но, с другой стороны, если не предоставить племяннику некоторую свободу, молодой балбес, пожалуй, ввяжется очертя голову в схватку и погибнет ни за грош.
– Мы, конечно, могли бы попробовать откупиться, – предложил он.
– Откупиться? – возмутился Жослен.
– Это вполне в порядке вещей, Жослен. Они обыкновенные разбойники, и им нужны только деньги, так что я предложу им звонкую монету, чтобы вернуть замок. Довольно часто такие сделки проходят удачно.
Жослен сплюнул.
– Они возьмут денежки, а сами останутся и потребуют еще.
– Молодец! – Граф Бера, глядя на племянника, одобрительно улыбнулся. – Точно так же подумал и я. Умница, Жослен! Поэтому я и пробовать не стану от них откупаться. А вот в Тулузу насчет пушки я уже написал. Несомненно, она обойдется чертовски дорого, но, если не останется другого выхода, придется пугнуть англичан дымом и громом. Надеюсь, что до этого не дойдет. Ты уже поговорил с шевалье Анри? – спросил он.
Шевалье Анри де Куртуа, командир графского воинства, был опытным воякой. Жослен действительно с ним поговорил и получил тот же совет, какой только что дал ему дядя, – остерегаться английских лучников.
– Старая баба, вот он кто, этот шевалье Анри, – заявил Жослен.
– С его-то бородой? Сомневаюсь, – сказал граф, – хотя один раз мне довелось видеть бородатую женщину в Тарбе, на пасхальной ярмарке. Давно это было, я в ту пору был очень молод, но по сей день отчетливо ее помню. Здоровенная у нее была бородища, длиннющая. Мы заплатили пару монет, чтобы посмотреть на нее. А если ты платил больше, то разрешалось подергать за эту бороду, что я и сделал, и она была настоящая. А если ты платил еще больше, то тебе давали посмотреть на ее грудь, после чего отпадали все подозрения и ты сам убеждался, что перед тобой не переодетый мужчина. Грудь была, помнится, очень даже пышная.
Он снова глянул на контракт каменщика и на латинское слово, которое привлекло его внимание. Calix.[2] На задворках памяти заворошилось смутное воспоминание из детства, но очертаний так и не обрело.
– Тридцать человек! – умолял Жослен.
Граф отложил документ.
– Вот как мы поступим, Жослен: сделаем то, что предлагает шевалье Анри. Будем надеяться на то, что нам удастся перехватить англичан, когда они окажутся вдалеке от своего логова. Мы будем вести переговоры насчет той пушки в Тулузе. Мы уже объявили вознаграждение за каждого английского лучника, захваченного живым. Вознаграждение назначено щедрое, и я не сомневаюсь, что все рутьеры и коредоры в Гаскони присоединятся к охоте и англичане окажутся в окружении врагов. Им придется несладко.
– Почему живыми? – удивился Жослен. – Почему не мертвыми?
Граф вздохнул.
– Потому, мой дорогой Жослен, что коредоры будут притаскивать нам по дюжине трупов в день, уверяя, будто это англичане. Ты можешь отличить гасконского покойника от английского? То-то и оно! Прикончить лучника мы сможем и сами, но сначала надо поговорить с ним и удостовериться, что он настоящий. Мы должны, так сказать, пощупать грудь, чтобы убедиться в подлинности.
Он снова уставился на слово calix, изо всех сил напрягая память.
– Я сомневаюсь, что нам удастся захватить много лучников, – продолжил граф, – они рыщут стаями и очень опасны, так что действовать придется так же, как против чересчур обнаглевших коредоров. Устраивать засады, заманивать их в ловушки и терпеливо ждать, когда они допустят ошибку. А они непременно ее допустят, хотя сами-то наверняка думают, что первыми ошибемся мы. Они хотят, чтобы ты напал на них, Жослен, потому что рассчитывают уложить всех твоих людей стрелами, а надо сразиться с ними тогда, когда они этого не ожидают, и навязать им ближний бой. Так что отправляйся с людьми шевалье Анри и проверь, чтобы все костры были приготовлены. А уж когда придет время, я спущу тебя с поводка. Обещаю.
Сигнальные костры было приказано сложить в каждой деревне и городке графства. Они представляли собой огромные груды дров, над которыми, если их поджечь, поднимутся видные издалека столбы дыма. Сигнальные дымы предупредят другие близлежащие населенные пункты о приближении грабителей-англичан, а также сообщат часовым на башне замка Бера о том, где находятся англичане. В один прекрасный день, полагал граф, англичане или подберутся слишком близко к Бера, или окажутся в таком месте, где его люди смогут поймать их в ловушку. Нужно просто проявить терпение и дождаться, когда они допустят ошибку. А они допустят ее. Здешние коредоры всегда ошибаются, а эти англичане, хоть и прикрываются гербом графа Нортгемптона, ничем не лучше обычных разбойников.
– Так что иди, Жослен, упражняться со своим оружием, – сказал граф племяннику, – потому что достаточно скоро ты пустишь его в ход. И не забудь свой нагрудник.
Жослен ушел. Граф посмотрел, как брат Рубер подбросил в костер новые поленья, потом снова глянул на документ. Граф де Астарак нанял каменщика, чтобы высечь «Calix meus inebrians» над воротами замка Астарак, и особо указал, что дата заключения соглашения должна быть добавлена к девизу. Почему? С чего бы это человеку вдруг захотелось украсить свой замок словами: «Чаша моя меня опьяняет»? А, отец Рубер?
– Жослен добьется того, что его убьют, – проворчал доминиканец.
– У меня есть и другие племянники, – указал в ответ на это замечание граф.
– Но в одном Жослен прав, – сказал отец Рубер. – С ними нужно вступить в бой, и чем скорее, тем лучше. У них там еретичка, которую необходимо сжечь.
Отец Рубер от злости лишился сна. Как смели они пощадить еретичку? Ночами, ворочаясь на узкой койке, он воображал, как пронзительно завопит девица, когда языки пламени станут пожирать ее платье. Ткань сгорит, и она останется обнаженной, как обнаженной была привязана к его пыточному столу. Это бледное тело заставило его познать искушение, отчего он исполнился к нему еще большей ненавистью и подносил раскаленное железо к нежной коже ее бедер с еще большим наслаждением.
– Отец! Спишь ты, что ли? – с укоризной промолвил граф. – Взгляни на это!
Он подвинул контракт каменщика через стол.
Доминиканец сдвинул брови, пытаясь разобрать поблекшие буквы, потом кивнул, узнав фразу.
– Это из псалма Давида, – сказал он.
– Конечно! Как глупо с моей стороны. Но зачем было человеку высекать «Calix meus inebrians» над своими воротами?
– Отцы церкви, – сказал священник, – сомневаются, что блаженный псалмопевец имел в виду опьянение в том смысле, в каком употребляем мы это слово. Преисполненный радостью, может быть? «Чаша моя меня радует»? А?
– Но какая чаша? – многозначительно спросил граф.
Повисло молчание, слышались лишь звуки дождя да потрескивание поленьев. Потом монах снова посмотрел на контракт, задвинул кресло и направился к книжным полкам графа. Он снял толстенный том, бережно поместил на подставку, расстегнул застежку и развернул огромные негнущиеся страницы.
– Что это за книга? – поинтересовался граф.
– Анналы монастыря Святого Иосифа, – ответил отец Рубер, листая страницы в поисках нужной записи. – Нам известно, – продолжил он, – что последний граф де Астарак заразился катарской ересью. По слухам, в юности отец отправил его оруженосцем к одному рыцарю в Каркассон, где он и нахватался греховных мыслей. Впоследствии, унаследовав Астарак, он оказывал поддержку еретикам и, как мы знаем, был одним из последних сеньоров, исповедовавших катарскую ересь.
Священник помолчал, потом перевернул очередную страницу.
– Ага! Вот это. Монсегюр пал в День святого Жовена, на двадцать втором году правления Раймунда VII. Раймунд был последним великим графом Тулузским и скончался почти сто лет тому назад. – Отец Рубер подумал с секунду. – Это значит, что Монсегюр пал в тысяча двести сорок четвертом году.
Граф протянул руку, взял со стола контракт, всмотрелся в него и нашел то, что хотел.
– Этот документ датирован кануном Дня святого Назария того же самого года. Праздник святого Назария приходится на конец июля, верно?
– Верно, – подтвердил отец Рубер.
– А День святого Жовена в марте, – сказал граф, – и это доказывает, что граф де Астарак не умер в Монсегюре.
– Кто-то распорядился о том, чтобы высечь это изречение на латыни, – предположил доминиканец. – Может быть, его сын?
Он переворачивал большие страницы анналов, морщась от вида грубо выписанных заглавных букв, пока не нашел нужную запись.
– «И в год смерти нашего графа, в год великого нашествия жаб и гадюк, – прочел он вслух, – граф Бера захватил Астарак и убил всех, кто там находился».
– Но ведь в анналах ни слова не говорится о кончине сеньора.
– Нет.
– А что, если он остался жив? – Граф пришел в возбуждение и, встав с кресла, принялся расхаживать из угла в угол. – И почему он бросил своих товарищей в Монсегюре?
– Навряд ли, – с сомнением промолвил отец Рубер.
– Но ведь кто-то же выжил. Тот, кто своей властью нанял каменщика. Тот, кто хотел оставить послание в камне. Тот, кто… – Неожиданно граф осекся. – Постой! А почему эта дата обозначена как канун праздника святого Назария?
– А почему бы и нет?
– Потому что это День святого Панталеона, почему его так и не назвать?
– Потому что…
Отец Рубер собирался объяснить, что святой Назарий гораздо лучше известен, чем святой Панталеон, но граф прервал его:
– Потому что это день семерых спящих отроков! Их было семеро, Рубер! Семеро уцелевших! И они пожелали высечь эту надпись, чтобы все так и поняли!
Священник подумал, что граф слишком вольно истолковывает свидетельства, но перечить не стал.
– Ты вспомни эту историю! – настаивал граф. – Семерым юношам грозит опасность, да? Они бегут из города… какого города… да, конечно из Эфеса. Бегут из Эфеса и находят убежище в пещере! При императоре Деции, так ведь? Да, точно, при Деции! Итак, император Деций повелел замуровать все пещеры до единой. А много лет спустя, сто лет спустя, если память мне не изменяет, семеро молодых людей были найдены в одной из них. Они так и остались отроками, не состарившись ни на день. Значит, Рубер, семеро человек бежали из Монсегюра!
Отец Рубер вернул анналы на место.
– Но год спустя, – указал он, – твой предок их победил.
– Победил, да, но это не значит, что он их убил, – упорствовал граф, – и всем известно, что какие-то члены семьи Вексиев спаслись. Конечно, они спаслись! Но подумай, Рубер, – нечаянно он обратился к доминиканцу, назвав его просто по имени, – зачем было катарскому сеньору покидать свой последний оплот, если не для того, чтобы спасти сокровища еретиков? Ни для кого не секрет, что катары обладали великими сокровищами!
Отец Рубер постарался сохранить рассудительность и не поддаться охватившему графа возбуждению.
– Семья забрала бы сокровища с собой, – указал он.
– Так ли это? – не согласился граф. – Подумай! Их семеро. Они разъезжаются в разные стороны, по разным странам. Некоторые в Испанию, другие в северную Францию, по крайней мере один – в Англию. Допустим, за тобой идет охота, тебя ищет и церковь, и каждый могущественный магнат. Стал бы ты брать с собой великое сокровище? Стал бы ты рисковать тем, что оно попадет в руки твоих врагов? Не лучше ли спрятать его в надежде на то, что в один прекрасный день тот из семерых, кому посчастливиться уцелеть, сможет вернуться и забрать его?
Теперь предположение представлялось уже совсем шатким, и отец Рубер покачал головой.
– Если бы в Астараке было сокровище, – сказал он, – его бы давным-давно нашли.
– Но ведь кардинал-архиепископ ищет его, – указал граф. – Зачем еще ему потребовалось бы просматривать наши архивы?
Он взял со стола контракт каменщика и подержал над свечой, пока на месте трех латинских слов и требования высечь в камне дату не образовалась дырка с обожженными краями. Тогда он прихлопнул тлеющий огонь и отправил пергамент в ларь с документами, предназначенными для брата Жерома.
– Что мне следует сделать, – заявил он, – так это отправиться в Астарак.
– Это ведь глухие места, они кишат коредорами, – предостерег графа встревоженный подобной поспешностью священник. – Оттуда рукой подать до занятого англичанами Кастийон-д'Арбизона.
– В таком случае я возьму с собой сколько-нибудь ратников.
Граф загорелся этой идеей. Ведь если Грааль находится в его владениях, тогда понятно, почему Господь поразил бесплодием его жен. Это наказание за то, что он не ищет сокровище. А теперь он все исправит.
– Можешь ехать со мной, – сказал он отцу Руберу, – а для охраны города я оставлю шевалье Анри, стрелков и большую часть ратников.
– А Жослен?
– О, Жослена я возьму с собой. Пусть командует моим эскортом и воображает, будто и от него есть какой-то толк.
Граф нахмурился.
– Постой, а ведь обитель Святого Севера недалеко от Астарака?
– Очень близко.
– Я уверен, что аббат Планшар предоставит нам кров, – сказал граф, – да и вообще он может оказать нам существенную помощь.
Отец Рубер подумал, что аббат Планшар, скорее всего, сочтет графа старым дураком, однако оставил эту мысль при себе. Он видел, что граф воспылал энтузиазмом, уверовав, что, если ему удастся найти Грааль, Бог вознаградит его сыном. И не исключено, что эта вера оправданна. Не говоря уж о том, что Грааль необходимо найти ради искоренения мирового зла.
При этой мысли доминиканец преклонил колени прямо посреди холла и стал молить Господа, дабы Он благословил графа, покарал еретичку и позволил им найти Грааль в Астараке.
 |
Томас и его люди покинули Астарак после полудня, верхом на лошадях, нагруженных свежим мясом, шкурами и всевозможной утварью: увезли с собой все, что только можно было продать на рынке Кастийон-д'Арбизона. Томас то и дело оглядывался назад, спрашивая себя, почему это место так и не пробудило в нем никаких чувств. Однако он твердо знал, что еще сюда вернется. Астарак хранил тайны, и ему предстояло их раскрыть.
Один только Робби не вез никакой поклажи. Он присоединился к отряду последним, выехав из монастыря налегке, но со странно умиротворенным выражением лица. Он не стал объяснять, почему задержался и почему пощадил цистерцианскую обитель; просто кивнул Томасу и примкнул к двигавшейся на запад колонне.
Вернуться им предстояло поздно. Может быть, затемно, но Томаса это не тревожило. Коредоры нападать не станут, а если граф Бера выслал отряд, чтобы перехватить их на обратном пути, то они увидят этих воинов с гребня. Поэтому он ехал спокойно, оставив позади огонь и дым разграбленной деревни.
– Так ты нашел то, что искал? – спросил сэр Гийом.
– Нет.
Сэр Гийом рассмеялся.
– Нечего сказать, хорош паладин! – Он глянул на добычу, свисавшую с седла Томаса, и добавил: – Отправляешься за Святым Граалем, а возвращаешься с кучей козьих шкур и бараньей ляжкой.
– Ее я вымочу в уксусе и зажарю, – пообещал Томас.
Сэр Гийом оглянулся назад и увидел дюжину коредоров, которые вслед за ними поднялись на вершину к кряжу.
– Надо бы проучить этих мерзавцев.
– Обязательно, – согласился Томас. – Обязательно.
Никакие ратники их на обратном пути не подстерегали, никакой засады на них никто не устраивал. Единственная задержка произошла, когда одна лошадь охромела, но причиной тому был всего лишь попавший в копыто камешек. Коредоры с приближением сумерек исчезли. Робби снова ехал в дозоре, но когда они проехали полпути и небо впереди озарилось пламенем заката, шотландец повернул назад и пристроился рядом с Томасом. Женевьева ехала рядом и при его приближении отъехала в сторонку, но Робби если и заметил это, ничего не сказал.
– У моего отца был когда-то плащ из лошадиной шкуры, – сказал он, скользнув взглядом по козьим шкурам позади седла Томаса, похоже, лишь для того, чтобы прервать затянувшееся молчание. Не присовокупив более ничего по поводу странностей своего отца, одевавшегося так необычно, он смущенно пробормотал: – Я тут подумал…
– Чертовски опасное занятие, – шутливо заметил Томас.
– Вот о чем я подумал, – продолжил Робби. – Лорд Аутуэйт разрешил мне отправиться с тобой, но будет ли он недоволен, если я тебя покину?
– Покинешь меня? – удивился Томас.
– Я, конечно, вернусь к нему, – сказал Робби, – как-нибудь потом.
– Как-нибудь? – с подозрением переспросил Томас.
Робби был пленником, и его долг, если он не находился с Томасом, состоял в том, чтобы вернуться в северную Англию, к лорду Аутуэйту, и ждать там, когда будет выплачен его выкуп.
– Мне нужно кое-что сделать, чтобы очистить душу.
– А! – только и смог сказать Томас, теперь и сам смущенный.
Он бросил взгляд на серебряное распятие на груди друга.
Робби следил глазами за канюком, кружившим внизу над невысоким холмом, высматривая в угасающем свете мелкую добычу.
– Я ведь к религии всегда относится так себе, – негромко промолвил он. – Впрочем, как и все мужчины в нашей семье. Женщины, конечно, другое дело, а вот мужчины – нет. Мы, Дугласы, неплохие солдаты и плохие христиане.
Он в смущении умолк, потом кинул быстрый взгляд на Томаса.
– Ты помнишь священника, которого мы убили в Бретани?
– Конечно помню, – сказал Томас.
Бернар де Тайлебур был тот самый священник, доминиканский монах и инквизитор, который пытал Томаса. Этот священник также помог Ги Вексию убить брата Робби, и Томас с Робби зарубили его перед алтарем.
– Я хотел убить его, – сказал Робби.
– Ты сказал, – напомнил ему Томас, – что нет такого греха, который не может отпустить какой-нибудь священник, а это, как я полагаю, включает и убийство священников.
– Я ошибался, – сказал Робби. – Он был священником, мы не должны были его убивать.
– Ублюдок он был, дерьмо чертово! – мстительно возразил Томас.
– Он был человеком, которому нужно было то же, что хотел получить ты, – сказал Робби. – Ради этого он убивал, но мы, Томас, поступаем точно так же.
Томас осенил себя крестным знамением.
– Ты о моей душе печешься, – спросил он язвительно, – или о своей?
– Я разговаривал с аббатом в Астараке, – сказал Робби, не отвечая на вопрос Томаса, – и рассказал ему о том доминиканце. Он сказал, что я совершил ужасную вещь и что теперь мое имя в списке дьявола.
Робби и впрямь покаялся аббату именно в этом грехе, а мудрый Планшар хоть и догадывался, что молодого шотландца мучает что-то другое, скорее всего нищенствующая еретичка, поймал его на слове и не преминул наложить на него епитимью.
– Он велел мне совершить паломничество, – продолжил Робби. – Сказал, что я должен отправиться в Болонью и помолиться у гробницы благословенного Доминика, а уж там святой Доминик даст знак, прощает ли он мне это убийство.
Томас после своего предыдущего разговора с сэром Гийомом уже решил, что лучше всего отослать Робби подальше, отпустить на все четыре стороны, поэтому то, что предлагал шотландец, пришлось очень кстати. Однако он сделал вид, что соглашается неохотно.
– Может, хоть на зиму задержишься?
– Нет, – стоял на своем Робби. – Я буду проклят, Томас, если не заслужу прощения.
Томас вспомнил смерть доминиканца, огонь, мелькавший по стенам палатки, два меча, рубящих и колющих корчившегося в смертных судорогах, истекающего кровью монаха.
– Тогда выходит, что и я проклят, а?
– Твоя душа – твоя забота, – ответил Робби. – Не мне давать тебе советы, как поступить. Зато как поступить мне, я знаю от аббата.
– Ладно, иди в Болонью, – сказал Томас, скрывая облегчение.
То, что Робби сам решил уйти, было лучшим выходом из сложившейся ситуации.
Чтобы разузнать дорогу в Болонью, потребовалось два дня, но после разговора с бывалым пилигримом, который пришел поклониться гробнице Святого Сардоса в верхней церкви, они решили, что Робби нужно вернуться в Астарак и оттуда направиться на юг. В Сент-Годане начинается оживленный торговый тракт. Купцы, предпочитающие путешествовать не в одиночку, будут рады принять в свою компанию молодого, крепкого воина, который может пригодиться для защиты каравана. «Из Сент-Годана, – сказал паломник, – тебе предстоит двинуться на север, в Тулузу. Обязательно помолись у усыпальницы Святого Сернена, чтобы он тебя защитил. В той церкви хранится одна из плетей, коими бичевали нашего Господа, и за должную плату тебе позволят ее коснуться. После этого тебя уже никогда не поразит слепота. Дальше твой путь будет лежать в Авиньон. Тамошние дороги хорошо патрулируются, так что ты будешь в безопасности. В Авиньоне получи благословение Его Святейшества и расспроси кого-нибудь, как добраться до Болоньи».
Опаснее всего была первая часть пути, и Томас, чтобы на Робби не напали коредоры, обещал проводить его до дальних окрестностей Астарака. Кроме того, из стоявшего в холле большого сундука он выдал ему кошель с монетами.
– Тут больше денег, чем причитается на твою долю, – сказал ему Томас.
– Тут слишком много, – попытался возразить Робби, взвесив мешочек с золотом в ладони.
– Бог с тобой, парень, тебе придется платить в тавернах. Бери что дают. Только смотри не продуй все деньги в кости.
– Не продую, – твердо пообещал Робби. – Я дал аббату Планшару слово бросить азартные игры, и он взял с меня в этом клятву. В монастырской церкви.
– И зажег свечку, я надеюсь? – спросил Томас.
– Целых три, – ответил Робби и сотворил крестное знамение. – Я должен забыть обо всех грешных утехах, пока не помолюсь святому Доминику. Так сказал Планшар. – Он помолчал, а потом печально улыбнулся. – Прости, Томас.
– Простить? За что? Робби пожал плечами.
– Я был тебе не самым лучшим товарищем.
Он снова смутился и больше ничего не сказал, но в тот вечер, когда все собрались в зале, чтобы попрощаться с Робби, шотландец очень старался держаться с Женевьевой как можно вежливее. Он отдал ей со своего блюда самый сочный кусок баранины, уговорив девушку принять угощение. Сэр Гийом от удивления выпучил единственный глаз. Женевьева рассыпалась в учтивых благодарностях.
А наутро, борясь с порывами холодного северного ветра, они выехали провожать Робби.
Граф Бера побывал в Астараке лишь однажды, да и то много лет тому назад, и, увидев эту деревушку снова, он едва узнал ее. Она всегда была маленькой, грязной, вонючей и бедной, но теперь оказалась еще и разоренной. Почти все соломенные крыши сгорели, от домов остались закопченные каменные стены. Домашний скот и птицу селян захватчики забили, оставив в память об этом лужи крови, кости, перья и потроха. В момент прибытия графа три цистерцианских монаха раздавали погорельцам еду, доставленную из обители на ручной тележке, но при виде сеньора многие оборванные крестьяне окружили его, пали на колени и протянули руки, прося подаяния.
– Кто это сделал? – властно спросил граф.
– Англичане, монсеньор, – ответил один из монахов. – Они побывали здесь вчера.
– Богом клянусь, они сторицей поплатятся за это своими жизнями, – пообещал граф.
– И я своей рукой убью их, – яростно подхватил Жослен.
– Господь свидетель, я бы и сам был рад развязать тебе руки, – промолвил граф, – да только что мы можем сделать, когда у них замок?
– Пушки! – воскликнул Жослен.
– Я уже послал за пушкой в Тулузу, – сердито буркнул граф.
Он кинул вилланам горстку мелких монет и поскакал мимо них. Потом немного постоял, разглядывая видневшиеся на вершине утеса развалины, но ближе не подъехал – время было уже позднее, а погода холодная.
Граф устал, натер седалище седлом, плечи его ныли от непривычной тяжести доспехов, поэтому он не стал взбираться по длинной, крутой тропе к разрушенной крепости, отдав предпочтение относительным удобствам цистерцианского аббатства Святого Севера.
Монахи в белых одеяниях брели домой после работы. Один тащил здоровенную вязанку растопки, другие несли мотыги и лопаты. Они только что закончили сбор последнего винограда, и двое братьев вели быка, впряженного в подводу с полными корзинами сочных темно-красных ягод. Монахи посторонились, пропустив графскую кавалькаду к простым, непритязательным монастырским постройкам. Гости явились нежданно, но монахи приняли и обустроили прибывших радушно и без лишней суеты. В конюшнях нашлись места для лошадей, ратникам выдали тюфяки, чтобы они могли устроиться на ночлег в давильнях, среди винных прессов. В гостевых кельях, предназначенных для графа, Жослена и отца Рубера, развели огонь.
– Отец аббат явится приветствовать благородного гостя после вечерни, – сказали графу, подавая ему хлеб, бобы, вино и копченую рыбу.
Вино у монахов было свое, из виноделен аббатства, и оказалось кислым на вкус.
Граф отпустил Жослена и отца Рубера в отведенные им комнаты, велел своему оруженосцу раздобыть постельные принадлежности и, оставшись один, сел у огня. Он размышлял о том, за что Бог наслал на него эту английскую напасть? Неужели это еще одно наказание за то, что он не позаботился о Граале? Ему это представлялось вполне вероятным, ибо он уже убедил себя в том, что избран Богом для особого служения и, совершив последнее великое деяние, будет за это вознагражден.
– Грааль! – шептал он в молитвенном экстазе. – Святой Грааль! Величайшая святыня, и я избран, чтобы ее отыскать!
Преклонив колени у открытого окна, в которое доносилось пение монахов из церкви, граф истово молился о том, чтобы его поиски оказались успешными. Он продолжал молиться еще долго после того, как пение закончилось, и когда в келью явился аббат Планшар, он застал графа еще на коленях.
– Я не помешаю? – кротко осведомился аббат.
– Нет-нет.
Морщась от боли в затекших коленях, граф поднялся на ноги. Доспехи он снял и встретил аббата в долгополом, отороченном мехом одеянии и в обычной своей вязаной шапочке.
– Право же, Планшар, мне неловко оттого, что я свалился тебе на голову. Вот так, без предупреждения. Понимаю, что я доставил вам много лишних хлопот.
– Лишние хлопоты мне доставляет один лишь дьявол, – возразил Планшар, – а я знаю, что ты послан не им.
– Хвала Всевышнему, нет, – отозвался граф, сел, но тут же встал снова.
Высокий титул давал ему право занять единственное в келье кресло, но аббат был так стар, что граф почел своим долгом уступить место ему. Аббат покачал головой и вместо этого присел на подоконник.
– Отец Рубер был у вечерни, – сказал он, – а после этого поговорил со мной.
Граф тревожно вздрогнул. Неужели Рубер успел выложить Планшару, зачем они приехали? Он хотел объяснить это сам.
– Он очень расстроен, – сообщил Планшар.
Цистерцианец говорил по-французски, как аристократ, на чистом, изысканном языке.
– Рубер всегда расстраивается, когда испытывает неловкость, – отозвался граф. – А тут еще долгий путь верхом, он не привык. Такой уж уродился неловкий. Сидит на лошади, как калека.
Граф умолк, уставился на аббата, выкатив глаза, а потом оглушительно чихнул.
– Господи, – пробормотал он. На глазах у него выступили слезы. Он утер рукавом нос, смахнул слезы и продолжил: – Рубер сидит в седле, как мешок, а от этого устаешь еще больше. Уж сколько я ему ни твердил, чтобы выпрямил спину, все без толку.
Граф снова чихнул.
– Надеюсь, что ты не подхватил лихорадку, – сказал аббат. – Что же до отца Рубера, то он, по-моему, расстроен не от усталости, а из-за нищенствующей.
– Ах да, конечно! Эта девка! – Граф пожал плечами. – Сдается мне, ему не терпелось увидеть, как она будет корчиться в огне. Для него это была бы лучшая награда, он ведь так трудился, не жалея себя. Ты знаешь, что он ее сам допрашивал?
– Кажется, с помощью каленого железа, – заметил План-шар и нахмурился. – Странно, что нищенствующую занесло так далеко на юг: эта ересь больше распространена на севере. Но я полагаю, он уверен в ее виновности.
– Полностью. Да эта несчастная сама во всем созналась.
– Под пытками я бы тоже сознался, – язвительно заметил аббат. – Ты знаешь, что она прибилась к английскому отряду?
– Слышал об этом, – ответил граф. – Скверное дело, План-шар! Скверное.
– Нашу обитель они все-таки пощадили. А ты, монсеньор, затем и прибыл? Чтобы защитить нас от еретички и от англичан?
– Как же иначе, – подтвердил граф и тотчас же повернул разговор к истинной причине своей поездки. – Однако это не единственная моя цель. Была и другая, Планшар, совсем другая.
Он ожидал, что Планшар начнет расспрашивать, какая именно, но аббат молчал, и почему-то граф почувствовал неловкость. Он подумал, не станет ли Планшар насмехаться над ним.
– А отец Рубер ничего тебе не сказал? – осторожно спросил граф.
– Он не говорил ни о чем, кроме еретички.
– А, – сказал граф.
Он не знал, как ловчее приступить к сути дела, и решил начать с ключевой фразы, чтобы посмотреть, поймет ли План-шар, о чем он собирался поведать.
– «Calix meus inebrians», – произнес граф и снова чихнул.
Планшар подождал, пока граф отдышится.
– Псалмы Давида. Я люблю именно этот, особенно его изумительное начало: «Господь – Пастырь мой: я ни в чем не буду нуждаться».[3]
– «Calix meus inebrians», – повторил граф, как бы не заметив слов аббата. – Это было высечено над воротами здешнего замка.
– Правда?
– Ты не слышал об этом?
– В нашей маленькой долине, монсеньор, столько всего наслышишься, что тут нужно внимательно следить, чтобы не перепутать страхи, мечты и надежды с действительностью.
– «Calix meus inebrians», – упрямо повторил граф, заподозрив, что аббат точно знает, о чем идет речь, но не хочет вступать в обсуждение.
Некоторое время Планшар молча смотрел на графа, потом кивнул.
– Эта история для меня не нова. Для тебя, как я понимаю, тоже?
– Я верю, – несколько невпопад отозвался граф, – что Господь призвал меня сюда не случайно.
– Значит, тебе повезло, монсеньор, – откликнулся Планшар, на которого, похоже, эти слова произвели впечатление.—
Столько народу приходит ко мне, чтобы понять, в чем воля Господня, и единственное, что я могу посоветовать, так это терпеливо трудиться, молиться, ждать и надеяться, что в свое время Он им это откроет, но только редко это открывается так ясно. Я тебе завидую.
– Тебе-то ведь было открыто, – возразил граф.
– Нет, монсеньор, – серьезно сказал аббат. – Господь лишь открыл врата в поле, полное камней, чертополоха да сорной травы, и оставил меня возделывать его. Это нелегкая работа, монсеньор, и я приближаюсь к моему концу с сознанием того, что большая ее часть остается незавершенной.
– Расскажи мне эту историю, – попросил граф.
– Историю моей жизни?
– Историю о той чаше, которая опьяняет, – решительно заявил граф.
Планшар вздохнул и на какой-то момент показался еще более старым, чем был. Потом он встал.
– Я могу не просто рассказать, монсеньор. Я могу показать.
– Показать мне?
Граф был изумлен и окрылен.
Планшар подошел к шкафу, достал слюдяной фонарь, зажег фитиль головешкой из очага и повел взволнованного, возбужденного графа по темным монастырским переходам в церковь, где маленькая свеча горела перед гипсовой статуэткой святого Бенедикта, единственным украшением этого строгого храма.
Планшар вынул из складок своего одеяния ключ и поманил графа к маленькой дверке в полускрытой боковым алтарем нише в северной стене церкви. Замок оказался тугим, но наконец он поддался, и дверь со скрипом отворилась.
– Будь осторожен, – предупредил аббат, – ступеньки стерлись и очень коварны.
Лестница была крутая, и лампа вздрагивала в руках аббата при каждом шаге, затем она круто свернула вправо, и они очутились в крипте, где между большими колоннами белела груда человеческих костей, почти достигавшая сводчатого потолка. Кости ног, рук и ребра были сложены штабелями, как дрова, а между ними, как булыжники, лежали черепа с пустыми глазницами.
– Это монахи? – спросил граф.
– Покоятся здесь, пока не настанет день воскресения плоти, – ответил Планшар.
Он направился в дальний конец крипты. Для того чтобы проникнуть под низкий свод в маленькую каморку, где находилась старинная скамья и деревянный, окованный железом сундук, ему пришлось пригнуться. В небольшой нише он нашел несколько огарков свечей и зажег их, в маленьком помещении замерцал свет.
– Твой прапрадед, хвала Господу, обеспечил благоденствие нашей обители, – сказал аббат, доставая из кошелька под черным одеянием еще один ключ. – Монастырь существовал и до этого, но был крохотным и очень бедным, а твой предок, в благодарность за падение дома Вексиев, пожаловал нам наши нынешние земли. На этой земле мы можем прокормиться, но не можем разбогатеть. Это правильно и хорошо. Кроме земель у нас есть еще кое-какие ценности, и они хранятся здесь, в этой сокровищнице.
Он склонился к сундуку, повернул массивный ключ и поднял крышку.
Поначалу граф был разочарован, ему показалось, что внутри пусто, но, когда аббат поднес одну из свечей поближе, граф увидел, что в сундуке находится потускневший серебряный дискос,[4] кожаный мешочек и подсвечник.
– Вот это, – аббат указал на мешочек, – нам подарил один рыцарь в благодарность за то, что мы вылечили его в нашем лазарете. Он поклялся нам, что в нем находится пояс святой Агнесы, но я, признаться, никогда в мешок не заглядывал.
Помнится, мне довелось видеть ее пояс в Базеле, хотя, конечно, у нее могло быть и два. У моей матушки их было несколько, правда она, увы, не была святой.
Не обращая внимания на серебряный подсвечник и блюдо, аббат извлек из глубины сундука предмет, которого граф сначала даже не заметил в темноте. То была шкатулка, которую Планшар, извлекши, поставил на скамью.
– Приглядись к ней повнимательнее. Она старая, и краска давно выцвела. Странно, что ее вообще давным-давно не сожгли, но по какой-то причине она сохранилась.
Граф сел на скамью и взял шкатулку. Она была квадратная, но неглубокая и вряд ли могла бы вместить в себя нечто большее по размеру, чем мужская перчатка. Железные петли проржавели, а подняв крышку, он увидел, что шкатулка пуста.
– И это все? – не сумел скрыть своего разочарования граф.
– Посмотри внимательнее, монсеньор, – терпеливо повторил Планшар.
Граф посмотрел снова. Изнутри шкатулка была окрашена в желтый цвет, и эта краска сохранилась лучше, чем сильно выцветшая наружная поверхность, но граф увидел, что раньше шкатулка была черной и на ее крышке красовался герб, вроде бы незнакомый. Разглядеть детали было трудно, но ему показалось, что это лев или какой-то другой зверь, стоящий на задних лапах, зажав в передних какой-то предмет.
– Йал, держащий чашу, – пояснил аббат.
– Чашу? Это, конечно, Грааль?
– Герб семьи Вексиев. – Планшар проигнорировал вопрос графа. – Местная легенда гласит, что чаша была добавлена к гербу незадолго до падения Астарака.
– Зачем было добавлять чашу? – спросил граф, ощутив нарастающее возбуждение.
И снова аббат оставил его вопрос без ответа.
– Монсеньор, присмотрись к шкатулке как следует. Посмотри спереди.
Граф повертел шкатулку перед свечой, и вдруг на ней блеснула надпись. Буквы были неразборчивы, некоторые совсем стерлись, но слова еще можно было разобрать. Дивные, чудесные слова: Calix meus inebrians.
Граф так и впился в них взглядом, и при мысли о том, что это могло значить, голова его пошла кругом, он не мог вымолвить ни слова. Из носа у него текло, так что он нетерпеливо вытер его обшлагом.
– Когда эту шкатулку обнаружили, она была пуста, – сказал Планшар. – По крайней мере, так мне сказал покойный аббат Луа, царствие ему небесное. Говорят, что эта шкатулка находилась в ковчеге из золота и серебра, найденном на алтаре замковой часовни. Ковчег, я уверен, увезли в Бера, а шкатулку подарили монастырю. Полагаю, как вещь, не имеющую никакой ценности.
Граф снова открыл шкатулку и попытался принюхаться, но нос у него был заложен. В крипте возились и гремели костями крысы, но он ничего не слышал и не видел вокруг, кроме шкатулки, погрузившись в грезы о Граале, о наследнике, обо всем, что она для него значила. Его немного смущало, что шкатулка слишком мала, чтобы в ней мог поместиться Грааль. А вдруг? Кто его знает, каков на самом деле Грааль?
Аббат протянул руку, чтобы спрятать шкатулку в сундук, но не тут-то было. Граф вцепился в нее и не отдавал.
– Монсеньор, – строго сказал аббат, – в Астараке ничего не нашли. Я привел тебя затем, чтобы ты в этом убедился. Там ничего не нашли.
– Но ведь шкатулку нашли! – пылко возразил граф. – И это доказывает, что Грааль здесь был.
– Доказывает ли? – печально спросил аббат.
Граф указал на выцветшую надпись на боку шкатулки.
– А что еще это может означать?
– Грааль есть в Генуе, – сказал Планшар, – а некогда бенедиктинцы в Лионе утверждали, будто владеют им. Правда, потом пошли слухи, что их чаша, по попущению Господню, не подлинная, истинный же Грааль хранится в Константинополе, в сокровищнице императора. Потом вдруг заговорили, что он в Риме, потом в Палермо, хотя в Палермо, я думаю, была Сарацинская чаша, захваченная на венецианском корабле. Некоторые говорят, что с небес за ним спустились архангелы и забрали с собой, хотя иные настаивают, что он по-прежнему находится в Иерусалиме, под защитой огненного меча, который некогда был дан Господом стражу Эдема. Его видели в Кордове, монсеньор, в Ниме, в Вероне и еще в двух десятках городов. Венецианцы считают, что он хранится на острове, который показывается только тем, кто чист сердцем, а послушать других, так его и вовсе увезли в Шотландию. Монсеньор, рассказами о Граале я мог бы наполнить целую книгу.
– Он был здесь! – твердил граф, оставив последние слова Планшара без внимания. – Он был здесь и, возможно, по сей день находится где-то тут.
– Я бы тоже очень этого хотел, – признался Планшар. – Это предел мечтаний, но можем ли мы надеяться на успех там, где потерпели неудачу Парсифаль и Гавейн?
– Это весть от Бога! – настаивал на своем граф, судорожно вцепившись в шкатулку.
– Я думаю, монсеньор, – рассудительно сказал План-шар, – что это весточка от семьи Вексиев. По моему разумению, кто-то из них повелел изготовить и расписать эту шкатулку для того, чтобы сбить нас с толку и посмеяться над нами. А сами, спасаясь бегством, забрали Грааль с собой. Мне кажется, что шкатулка – это их месть. Наверное, ее следует сжечь.
– Сжечь? Но в ней пребывал Грааль! – упорствовал граф, не желавший выпускать шкатулку из рук.
Поняв, что шкатулки он все равно назад не получит, аббат закрыл сундук и запер его на замок.
– Обитель наша невелика, монсеньор, но это не значит, что у нас вовсе нет связи с остальной церковью. Я получаю письма от моих братьев и узнаю различные новости.
– Например?
– Кардинал Бессьер занимается поисками некой великой реликвии, – ответил аббат.
– И он ищет эту реликвию здесь! – торжествующе заявил граф. – Он послал своего монаха рыться в моих архивах.
– Но если Бессьер взялся за поиски, – предостерегающе сказал Планшар, – можно сказать с уверенностью, что он будет железной рукой устранять все препоны, какие встретит на стезе служения Господу.
На графа предупреждение не подействовало.
– На меня возложен великий долг, – заявил он.
Планшар поднял светильник.
– Больше мне нечего сказать, сеньор. Добавлю лишь, что из всего слышанного мною ничто не говорит о том, что Грааль спрятан в Астараке, но одно я знаю точно, так же точно, как то, что мои кости в скором времени упокоятся в этом склепе. Поиски Грааля, монсеньор, сводят людей с ума. Они ослепляют их, отнимают рассудок и превращают в одержимых. Это опасное занятие, монсеньор, и лучше всего предоставить его трубадурам. Пусть они поют о Граале и слагают о нем стихи, но, ради Христа, не губи свою душу, пустившись на его поиски!
Но граф не слушал предостережений Планшара, он не внял бы даже ангельскому хору с небес.
У него была шкатулка, и она служила ему доказательством того, во что он хотел верить.
Грааль существует, а он, граф де Бера, призван его найти. Значит, поиск будет продолжен.
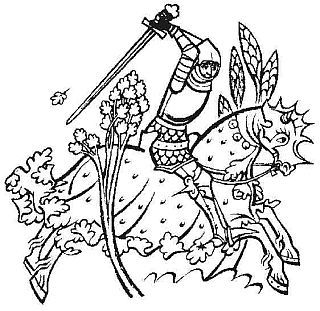 |
Провожать Робби до самого Астарака Томас не собирался. Долина, в которой находилась эта бедная деревушка, уже была разграблена, и он собирался наведаться в соседнюю, где вдоль дороги, ведущей из Массюба на юг, словно бусинки, нанизанные на нитку, одна за другой подобно горошинкам располагалось несколько деревень. Там его люди займутся своим нехорошим делом, он с небольшим эскортом поднимется с Робби на холмы, нависающие над Астараком. Если там, на виду, не окажется коредоров или других врагов, шотландец поедет дальше один.
Томас снова взял на вылазку весь свой отряд, оставив дюжину людей охранять Кастийон-д'Ар-бизон. Доехав до маленькой деревушки близ реки Жер, покинул там свой отряд и с другой дюжиной лучников и дюжиной латников отправился провожать Робби. Женевьева осталась с сэром Гийомом, который обнаружил в деревне большущий курган из тех, в каких, как он клялся, древние, жившие еще до Рождества Христова язычники прятали свое золото. Реквизировав у селян дюжину лопат, он принялся разрывать холм, а Томас и Робби, оставив его и его людей за поисками клада, двинулись по тропе, петлявшей через рощи каштанов, где крестьяне заготовляли палки на подпорки для виноградных лоз. За все утро им не встретилось ни коредоров, ни кого-либо еще, кто мог бы их побеспокоить, хотя, по прикидкам Томаса, враги не могли не заметить столб дыма, поднявшийся над сигнальным костром, который успели разжечь в той самой деревне, где сейчас сэр Гийом копал землю, пытаясь осуществить мечту кладоискателя.
Робби заметно нервничал и, пытаясь скрыть свое состояние, развлекал своего спутника болтовней о пустяках.
– Помнишь того малого, в Лондоне, который плясал на ходулях да еще и жонглировал. Ловкач, ничего не скажешь! Славное было местечко, веселое. Кстати, сколько стоило остановиться в той лондонской таверне?
Томас попытался, но так и не вспомнил.
– Несколько пенни, наверное.
– Я вот что хочу сказать, они ведь непременно надуют, верно? – спросил Робби с беспокойством.
– Кто?
– Содержатели трактиров.
– Ясное дело, они блюдут свою выгоду, но чтобы обирали путников, этого я не думаю. Запросишь лишку, никто у тебя не заночует. Лучше получить с путника пенни, чем ничего. Кроме того, раз ты паломник, то почему бы тебе не останавливаться на ночлег в монастырях?
– Ага. Но ведь и там надо что-нибудь дать, верно?
– Хватит и одной монетки, – ответил Томас.
Они поднялись на голую вершину кряжа, и лучник огляделся по сторонам, нет ли врагов. Никого не было. Странные вопросы, которые задавал Робби, несколько озадачили его, но потом он смекнул, что бесстрашному воину-шотландцу становится не по себе при мысли о дальнем одиноком путешествии. Одно дело – странствовать в родных краях, где народ говорит на твоем языке, и совсем другое – проделать сотни миль пути по землям, где ты встретишь десяток незнакомых наречий.
– Главное, – посоветовал Томас, – это найти попутчиков. Наверняка таких людей будет много, и всем им нужна компания.
– Ты тоже так поступал? Когда шел пешком из Бретани в Нормандию?
Томас усмехнулся.
– Я-то шел, обрядившись доминиканцем. Вряд ли кто-нибудь захочет доминиканца в попутчики, но и грабить его тоже никому не охота. А у тебя, Робби, все будет хорошо. Любой купец будет рад путешествовать в компании молодого парня с острым мечом. Да они наперебой дочек под тебя будут подкладывать, лишь бы ты ехал с ними.
– Я дал обет, – мрачно промолвил Робби, а потом, секунду подумав, спросил: – Эта Болонья, она недалеко от Рима?
– Не знаю.
– Уж больно мне охота посмотреть Рим! Как думаешь, Папа туда когда-нибудь вернется?
– Бог его знает.
– А мне все равно хочется посмотреть, – мечтательно промолвил Робби, потом ухмыльнулся Томасу: – Я там и за тебя помолюсь, будь уверен.
– Помолись за двоих, – попросил Томас, – за меня и Женевьеву.
Шотландец погрузился в молчание. Пришла пора прощаться, и у него просто не находилось слов. Они остановили своих лошадей, хотя Джейк и Сэм поехали дальше, пока перед ними не открылся вид на долину, где в холодном воздухе все еще курился дым над спаленными соломенными кровлями Астарака.
– Мы еще встретимся, Робби, – сказал Томас, снимая перчатку и протягивая ему правую руку.
– Ага, я знаю.
– И мы всегда будем друзьями, – сказал Томас, – даже если в сражении окажемся по разные стороны.
Робби ухмыльнулся.
– В следующий раз, Томас, шотландцы победят. Господи, как это мы не отлупили вас еще при Дареме! Ведь победа была так близка.
– Знаешь, Робби, у лучников есть поговорка: «Близко – не значит в цель». Береги себя.
– Обязательно.
Они обменялись рукопожатием, и как раз в этот момент Джейк и Сэм, повернув своих лошадей, поскакали к ним.
– Ратники! – крикнул Джейк.
Томас направил коня вперед и придержал его, лишь увидев дорогу на Астарак, а на ней, менее чем в миле, всадников. Конных воинов, в кольчугах, с мечами и щитами. Знамя отряда висело складками, и он не мог разглядеть герба, конников сопровождали оруженосцы, которые вели в поводу вьючных коней, нагруженных длинными, громоздкими копьями. Чужой отряд ехал им навстречу, а может быть, в сторону столба дыма, поднимавшегося над деревней, которую разоряли его люди в соседней долине. Томас смотрел на всадников, просто смотрел. Надо же, все начиналось так спокойно, день казался таким мирным, и вот нежданно-негаданно нагрянул враг. Наверное, этого следовало ждать, ведь они хозяйничали здесь уже долго, а их самих никто не тревожил.
До нынешнего дня.
Стало очевидно, что паломничество шотландца отменяется. Во всяком случае, откладывается.
Ибо предстоит бой.
Они повернули и поскакали назад, на запад.
Жослен, сеньор Безье, считал, что его дядюшка старый дурень, и хуже того, богатый старый дурень. Конечно, поделись граф де Бера своим богатством с ним, Жосленом, это было бы совсем другое дело, но, увы, во всем, что касалось помощи родственникам, граф славился отвратительным скупердяйством. Иное дело, если речь заходила о пожертвованиях на нужды церкви или о покупке реликвий вроде той горстки грязной соломы, за которую папский двор в Авиньоне получил целый сундук золота. Жослену, например, хватило одного взгляда на эту истлевшую солому, чтобы понять, что она взята не иначе как из папских конюшен, но старый остолоп вбил себе в упрямую башку, что это и впрямь первая постель Иисуса. А теперь старика понесло в эту жалкую долину охотиться за другими реликвиями. За какими именно, Жослен не знал, ибо ни граф, ни отец Рубер так и не соблаговолили поставить его в известность, но в том, что затея эта пустая и вздорная, у него сомнений не было.
Правда, в качестве компенсации он получил под начало отряд в тридцать ратников, но даже тут не обошлось без ложки дегтя, ибо граф строго-настрого запретил им удаляться от Астарака более чем на милю.
– Ты здесь, чтобы охранять меня, – сказал он Жослену.
Но тот в толк не мог взять, от кого тут требуется охрана. Не от горстки же коредоров, которые ни за что не осмелятся напасть на настоящих солдат? От нечего делать Жослен попытался устроить на деревенском поле турнир, но дядюшкины ратники были в основном людьми немолодыми, в походах давно не участвовали и, привыкнув к спокойной жизни, явно не пылали боевым рвением. Нанимать новых солдат граф и не думал, а держал свое золотишко в пыльных сундуках. О том, чтобы кто-то из его ратников мог помериться силами с самим Жосленом, не могло быть и речи, да и друг с другом они состязались без малейшего воодушевления. Только двое ратников, которых он привел с собой в Бера, еще сохраняли боевой дух; он так часто с ними упражнялся, что наизусть изучил все их приемы, а они изучили его, так что состязаться ему с ними или им между собой не имело смысла. Жослену оставалось лишь выть от тоски, теряя попусту время, да страстно молиться о скорейшей кончине графа. Единственная причина, которая удерживала Жослена в Бера, при дядюшкиной особе, заключалась в том, что он готовился, как только наступит час, немедленно завладеть наследством, хранившимся, как поговаривали, под сводами подвалов, в замке старого жмота. Ему бы только получить наследство, уж он сумеет его потратить! И какой же славный костер сложит он из дядюшкиных пергаментов, старых книг и свитков. Пламя этого костра увидят аж в самой Тулузе! Ну а что касается графини, пятой жены его дяди, которую тот держал в южной башне замка под уважительным, но строгим присмотром, ибо старый пень хотел быть уверен в том, что ребенок, которого она родит, будет зачат от него, то он, Жослен, покажет ей, как делают детей, а потом вышвырнет эту пухленькую сучку пинком под зад из замка обратно в сточную канаву, откуда она и взялась.
Порой он мечтал о том, чтобы прикончить осточертевшего дядюшку, но понимал, что это чревато серьезными неприятностями, и потому просто ждал, надеясь, что старик и сам умрет достаточно скоро. И пока Жослен предавался мечтаниям о наследстве, граф мечтал о Граале. Он решил обшарить то, что осталось от замка, а поскольку шкатулка была найдена в замковой часовне, приказал дюжине монастырских крепостных, чье положение почти не отличалось от положения рабов, выломать древние плиты пола и исследовать подвалы. В подвалах, как он и предполагал, оказались захоронения. Тяжелые тройные гробы вытащили из ниш и вскрыли. Внутри внешнего гроба чаще всего находился свинцовый, который проходилось разрубать топорами.
Свинец складывали на повозку, чтобы отвезти в Бера, но всякий раз, как разламывали внутренний гроб, каковой обычно был сделан из вяза, сердце графа замирало в ожидании куда более ценной добычи. Внутри находились высохшие и пожелтевшие скелеты, они лежали, молитвенно сложив истлевшие до костей руки. Нашлись и кое-какие ценности: некоторые женщины были похоронены со множеством украшений. Граф срывал истлевшие саваны, не забывая обобрать с них кольца, бусы и ожерелья, но вот Грааля ни в одном из гробов не было. Были только черепа и обрывки кожи, темные, как древние пергаменты. У одной покойницы сохранились длинные золотистые волосы, и граф ими залюбовался.
– Наверное, была хорошенькая, – заметил он, обращаясь к брату Руберу.
Граф гундосил, хрипел и чихал каждые несколько минут.
– Она ожидает Судного дня, – сердито отозвался клирик, неодобрительно смотревший на разграбление могил.
– Должно быть, она была молода, – сказал граф, глядя на волосы мертвой женщины, но как только останки попытались вынуть из гроба, тонкие пряди рассыпались в прах.
В одном детском гробике находилась старая складная, на петлях, шахматная доска. Клетки, которые на шахматных досках графа в замке Бера были черными, здесь отличались от белых, гладких, наличием мелких ямочек. Граф был заинтригован этим, но гораздо больше его заинтересовала горсть старинных монет, заменявших шахматные фигуры. На них был изображен профиль Фердинанда, первого короля Кастилии, и граф подивился качеству чеканки.
– Им триста лет! – восторженно сообщил он отцу Руберу, после чего прибрал монеты и велел сервам долбить молотками очередной саркофаг.
Останки после обыска возвращали в деревянные гробы, гробы укладывали в саркофаги дожидаться Судного дня. Над каждым потревоженным и захороненным вторично покойником отец Рубер читал молитву, и тон его графу не понравился. Было ясно, что священник не одобряет его действий.
На третий день, когда все гробы были обшарены и ни в одном из них так и не нашлось исчезнувшего Грааля, граф приказал своим сервам копать под апсидой, на том самом месте, где некогда находился алтарь. Сперва казалось, что в твердом слое земли, покрывавшей скалу, на которой был возведен замок, ничего нет, и граф уже начал впадать в уныние, но тут один из сервов извлек из ямы серебряную шкатулку. Граф, которого пробирал озноб, одолевала усталость и донимала простуда, при виде потемневшего ларчика мигом забыл обо всех недугах. Выхватив у крепостного находку, он торопливо вынес ее на дневной свет и с помощью ножа сломал замочек.
Внутри лежало перо. Всего лишь перо. Пожелтевшее, оно, надо думать, когда-то было белым, и граф решил, что это наверняка перо из гусиного крыла.
– И зачем кому-то могло понадобиться хоронить перо? – с недоумением спросил он отца Рубера.
– Считается, что святой Север исцелил здесь крыло ангела, – объяснил доминиканец, вглядываясь в перо.
– Конечно! – воскликнул граф и подумал, что это объясняет желтоватую окраску, ибо перо, скорее всего, первоначально имело цвет золота. – Перо ангела! – произнес он с благоговением.
– Больше похоже на перо лебедя, – лаконично заметил отец Рубер.
Граф тщательно осмотрел почерневшую от пребывания в земле серебряную шкатулку.
– Вот это может быть ангел, – сказал он, указывая пальцем на тускло проступавшие завитки.
– Может быть, да, а может быть, и нет.
– Не много от тебя помощи, Рубер.
– Я еженощно молюсь за твой успех, – сдержанно промолвил брат, – но я также беспокоюсь о твоем здоровье.
– У меня просто заложен нос, – сказал граф, хотя и подозревал нечто более серьезное.
У него шумело в голове, болели суставы, но он твердо знал, что стоит ему найти Грааль, и от всех этих мелких неприятностей не останется и следа.
– Перо ангела! – с изумлением повторял граф. – Это чудо! Не иначе как знамение!
А потом произошло и еще одно чудо, ибо человек, откопавший серебряную шкатулку, наткнулся под слоем слежавшейся земли на каменную кладку. Услышав о находке, граф сунул серебряную шкатулку Руберу, побежал к алтарю и с трудом вскарабкался на земляной отвал, чтобы осмотреть стену собственными глазами. Виден был лишь небольшой кусок, сложенный из обтесанных камней, и когда граф, выхватив у серва лопату, постучал по кладке, по звуку стало понятно, что за стеной находится пустое пространство.
– Сломать! – возбужденно приказал он, указывая на стену. – Сделать пролом! Оно там! – Граф с торжеством взглянул на отца Рубера. – Я знаю! Сокровище там!
Однако отец Рубер не спешил разделить радость своего покровителя: его внимание привлек подъехавший к месту раскопок закованный в стальные турнирные латы графский племянник.
– В соседней долине зажгли сигнальный костер, – доложил Жослен.
Граф, хотя ему до смерти не хотелось отрываться от находки, кряхтя, взобрался по лестнице и устремил взгляд на запад, туда, где по блеклому небу медленно ползло на юг облако грязноватого дыма. Казалось, оно выплыло из-за ближайшего кряжа.
– Англичане? – вопросительно произнес граф.
– А кто же еще? – ответил Жослен.
Его ратники, уже в доспехах, готовые выступить, ждали у подножия тропы, ведущей к замку.
– Мы доскачем туда через час и застанем их врасплох, – сказал Жослен.
– Лучники… – предостерегающе начал граф, но оглушительно чихнул и долго не мог восстановить дыхание.
Отец Рубер посмотрел на графа с опаской. Похоже, старик подцепил лихорадку, причем виноват в этом был сам: вольно же ему было устраивать раскопки в этакую холодину.
– Лучники, – повторил граф, его глаза слезились. – Будь осторожен! С лучниками шутки плохи.
Раздраженный Жослен не сразу нашелся с ответом, но тут неожиданно на помощь ему пришел отец Рубер.
– Монсеньор, мы знаем, что они выезжают маленькими группами и оставляют часть лучников охранять свою крепость. Думаю, этих мерзавцев там не больше дюжины.
– А другого такого случая нам может и не представиться, – встрял Жослен.
– У нас не так много людей, – с сомнением сказал граф.
«А кто в этом виноват?» – подумал Жослен. Он советовал дядюшке взять с собой побольше воинов, но старый дурень решил, что хватит и тридцати. А сейчас он сверлил глазами очищенный от земли участок погребенной стены и, похоже, от слез вообще плохо понимал, что происходит.
– Если врагов немного, тридцати ратников будет более чем достаточно, – настаивал Жослен.
Отец Рубер смотрел на столб дыма.
– Разве не для этого разжигали костры, монсеньор? – осведомился он. – Не для того, чтобы узнать, когда появится враг, и нанести удар?
Возразить было трудно, ибо костры и впрямь предназначались именно для этой и ни для какой другой цели, и граф сильно пожалел, что с ним нет шевалье Анри Куртуа, его военного командира, который мог бы дать дельный совет.
– А если отряд врага невелик, – продолжил отец Рубер, – то хватит и тридцати ратников.
Граф понял, что, пока разрешение не будет получено, племянник от него не отвяжется и он не сможет исследовать таинственную стену.
– Отправляйся, но будь осторожен, – напутствовал он. – Сперва проведи разведку! Помни совет Вегеция!
Жослену, отроду не слыхавшему ни о каком Вегеции, было бы мудрено вспомнить совет этого человека. Граф, вероятно, догадался об этом, и ему пришла в голову новая мысль:
– Вот что, возьми-ка ты с собой отца Рубера, а он скажет тебе, можно нападать или нет. Ты понял меня, Жослен? Отец Рубер даст тебе совет, и ты сделаешь так, как он скажет!
Такое решение имело целых два преимущества. Первое состояло в том, что бенедиктинец, как человек здравомыслящий и осмотрительный, не позволит сумасбродному Жослену наделать глупостей, второе же (а пожалуй, и главное) в том, что оно позволяло графу избавиться от гнетущего присутствия угрюмого монаха.
– Возвращайся к ночи, – велел граф, – и не забывай про Вегеция!
Последние слова были выкрикнуты второпях, когда он вновь неуклюже спускался по лестнице.
Жослен хмуро глянул на священника. Он не любил церковников, а отца Рубера и того меньше, но если за возможность отколошматить англичан придется потерпеть рядом с собой постную рожу клирика, так тому и быть.
– У тебя есть лошадь, святой отец?
– Есть, ваша милость.
– Тогда седлай ее и присоединяйся ко мне, – бросил священнику Жослен, повернул коня и поскакал назад, к своим людям.
– Лучников брать живьем! – приказал он воинам. – Живьем, чтобы получить обещанную награду.
А получив денежки, можно будет поотрубать сукиным сынам пальцы, выколоть глаза, а потом отправить их всех на костер. Именно об этом мечтал Жослен, когда вел всадников на запад. Он был бы рад скакать побыстрее, ибо ему не терпелось попасть в соседнюю долину, пока англичане не успели оттуда убраться, но ратники не могли двигаться к месту сражения вскачь. У некоторых, как и у Жослена, кони были защищены кольчужными доспехами, вес которых, не говоря уж о весе доспехов всадников, был таков, что коней, чтобы сохранить их свежими для атаки, требовалось вести шагом. Некоторых воинов сопровождали оруженосцы, которые вели вьючных коней, нагруженных связками длинных, тяжелых копий. Тяжеловооруженные всадники не мчатся на войну галопом, они тащатся шагом, как быки.
– Надеюсь, ты будешь придерживаться указаний своего дяди, монсеньор, – пробормотал отец Рубер.
Заговорил он исключительно для того, чтобы скрыть нервозность. Вообще-то доминиканец отличался сдержанностью и ревниво оберегал свое с таким трудом обретенное достоинство, но сейчас, в непривычной, пугающей обстановке, чувствовал себя весьма неуверенно.
– Дядя велел мне прислушиваться к твоим советам, – съязвил Жослен. – Так скажи мне, священник, что ты знаешь о битвах?
– Я читал Вегеция, – натянуто ответил отец Рубер.
– И кто это такой, черт возьми?
– Римлянин, монсеньор, и он до сих пор считается непререкаемым авторитетом в военных вопросах. Его труд называется «Epitoma Rei Militaris» – «Суть военного дела».
– И в чем эта суть? – поинтересовался Жослен.
– Главным образом, насколько я помню, в том, чтобы выбрать момент, когда можно атаковать противника с фланга, и главное, ни в коем случае не иди в атаку, не проведя тщательной разведки.
Жослен, чей турнирный шлем свисал с луки седла, посмотрел сверху вниз на низкорослую кобылу монаха.
– У тебя самая легкая лошадь в отряде, отец, так что прямой резон тебе и скакать в разведку, – промолвил он, потешаясь.
Отец Рубер был потрясен.
– Мне?
– Поезжай вперед, посмотри, что делают эти ублюдки, потом вернешься и расскажешь. Мне ведь наказано слушаться твоих советов, не так ли? Как, черт возьми, ты можешь что-то мне посоветовать, если не провел разведку? Разве не это советует твой Вегетал, или как его там? Эй, погоди, дурень!
Эти последние слова ему пришлось выкрикнуть, потому что отец Рубер послушно пришпорил свою кобылу.
– Здесь их нет, – сказал Жослен, – они в соседней долине.
Кивком головы он указал на дым, который, казалось, становился все гуще.
– Подожди, пока мы не окажемся в роще по ту сторону этого холма.
На голой вершине кряжа как раз показалось несколько всадников, однако они были далеко и при виде людей Жослена обратились в бегство. Жослен решил, что это коредоры: все знали, что разбойники выслеживают англичан в расчете на назначенную графом за любого плененного лучника щедрую награду. По мнению же самого Жослена, единственной наградой, действительно полагавшейся любому коредору, была виселица.
К тому времени, когда Жослен добрался до гребня, коредоры исчезли. Сверху была хорошо видна почти вся долина: на севере город Массюб и ведущая на юг, к высоким Пиренеям, дорога. Столб дыма был уже совсем рядом, но деревню, в которую ворвались англичане, заслоняли деревья, и Жослен велел отцу Руберу ехать вперед. Правда, не одному, а под защитой двоих ратников.
Жослен и остальные его люди уже почти спустились на дно долины к тому времени, когда доминиканец наконец вернулся. Отец Рубер был взволнован.
– Они не видели нас, – сообщил он, – и не могут знать, что мы здесь.
– Ты уверен в этом? – требовательно спросил Жослен.
Монах кивнул. Его сдержанность вдруг уступила место невесть откуда взявшемуся боевому воодушевлению.
– Дорога в деревню проходит через рощу, монсеньор, и с обеих сторон ее закрывают деревья. Они расступаются только в ста шагах от реки, около брода. Там мелко. Мы видели, как несколько человек несли в деревню каштановые колья.
– Англичане не мешали им?
– Англичане, монсеньор, раскапывают в деревне старый могильник. Их, по всей видимости, не более дюжины. Деревня расположена в ста шагах за бродом.
Отец Рубер был горд этим обстоятельным, точным донесением, которого не постыдился бы и сам Вегеций.
– Ты можешь подойти к деревне на расстояние в пределах двух сотен шагов, спокойно вооружиться и атаковать, – заключил он.
Это был на самом деле впечатляющий доклад, и Жослен посмотрел вопросительно на двоих своих ратников, которые кивнули в знак подтверждения. Один из них, парижанин по имени Виллесиль, ухмыльнулся.
– Они просто напрашиваются, чтобы их перерезали, – сказал он.
– Лучники? – спросил Жослен.
– Мы видели двоих, – ответил Виллесиль.
Но самую важную новость отец Рубер приберег напоследок.
– С ними там нищенствующая.
– Та девка-еретичка?
– Сам Бог привел нас сюда! – возликовал доминиканец.
– Итак, отец Рубер? – Жослен улыбнулся. – Что ты нам посоветуешь?
– Атаковать! – заявил монах. – Атаковать! Господь дарует нам победу!
Хотя священник был по натуре человеком осторожным, но ненависть к ускользнувшей от справедливой кары еретичке пробудила в нем воинственное настроение.
Подъехав к опушке леса на краю долины, Жослен убедился, что все обстоит так, как сказал доминиканец. Находившиеся за рекой англичане, явно не подозревая о присутствии врага, не выставили на спускавшейся с кряжа дороге ни единого караульного и все вместе занимались раскопкой холма; в центре деревни Жослен заметил не более десяти бойцов, не считая девицы.
Он быстро спешился, дал оруженосцу проверить и закрепить все застежки доспехов, после чего снова сел в седло и надел свой большой турнирный шлем с пышным желто-красным плюмажем, кожаным подшлемником и крестообразными прорезями для глаз. Продев левую руку в петли щита, Жослен проверил, легко ли выходит меч из ножен, и наклонился за копьем. Сделанное из ясеня, оно достигало шестнадцати футов в длину и было выкрашено по спирали желтой и красной краской в цвета его ленного владения Безье. Такими копьями он выбивал из седла лучших турнирных бойцов Европы, а ныне его копье послужит Божьему делу. Люди Жослена разобрали из связок собственные копья, по большей части раскрашенные в цвета Бера, оранжевый и белый. Копья эти имели длину от тринадцати до четырнадцати футов, ибо мало кто обладал силой, позволяющей использовать столь длинное и тяжелое оружие, как турнирное копье графского племянника. Оруженосцы обнажили мечи и опустили забрала, уменьшив мир до ярких прорезей солнечного света. Конь Жослена, предчувствуя битву, нетерпеливо бил копытом. Все было готово. Беззаботные, самоуверенные англичане так и не заподозрили угрозы, а Жослен наконец-то был спущен дядюшкой с поводка.
Ратники плотно сгруппировались по обе стороны от него, и молодой рыцарь, в голове которого еще звучала молитва отца Рубера, подал сигнал к атаке.
Гаспар вполне серьезно решил, что сам Господь направляет его руку, ибо когда он, без особой надежды, попытался получить золотую отливку по тончайшей восковой модели, первая же попытка увенчалась успехом. А ведь он говорил своей Иветте, что если что и получится, то не раньше чем с десятого раза. По правде сказать, у него имелись сильные сомнения в том, что удача вообще достижима, слишком уж тонкими были детали, чтобы расплавленное золото сразу заполнило все уголки формы. Но, расколов с бьющимся сердцем глиняную форму, Гаспар увидел, что его восковая модель воплотилась в золоте почти идеально. Всего лишь одна-две детали получились скомканными, да кое-где не хватало листочка или шипа. Но это легко поправить. Он убрал напильником лишние натеки на краях и отполировал чашу до блеска. На это ушла неделя, однако, закончив работу, Гаспар ничего не сказал об этом Шарлю Бессьеру, а, напротив, заявил, что еще многое нужно доделать. На самом же деле он просто не хотел расставаться с чашей, это было лучшее произведение из всех, какие ему довелось сделать, и он даже думал, что ему удалось создать лучшую ювелирную работу на свете.
Чтобы отстрочить расставание с прекрасной чашей, золотых дел мастер вдобавок изготовил для нее коническую, как у купели, увенчанную крестом крышку. Ободок украсил жемчужинами, а по бокам поместил символы четырех Евангелистов: льва св. Марка, быка св. Луки, ангела св. Матфея и орла св. Иоанна. Отливка крышки, хоть и не такой совершенной, удалась на славу. Наконец он подогнал и отполировал все детали, поместил сосуд из зеленого стекла в золотой футляр и накрыл отделанной жемчугами крышкой.
– Объясни кардиналу, – сказал мастер Шарлю Бессьеру, отдавая ему упакованную в солому и уложенную в шкатулку чашу, – что жемчуга – это слезы Богородицы.
Шарлю Бессьеру было все равно, что они означают, но и он не мог не признать, что чаша очень хороша.
– Если мой брат будет доволен, – сказал он, – ты получишь деньги и свободу.
– Мы сможем вернуться в Париж? – с воодушевлением спросил Гаспар.
– Куда вам заблагорассудится, – солгал Шарль, – но не раньше чем получите мое разрешение.
Он дал своим людям указание хорошенько стеречь Гаспара и Иветту в его отсутствие, а сам, забрав чашу, отправился к брату в Париж.
Когда чаша была извлечена из ларца, развернута и три отдельные части изделия соединены вместе, кардинал взглянул на нее и, сложив ладони, любовался, не в силах отвести глаза. Долгое время он молчал, потом нагнулся, всматриваясь в старинное стекло.
– Тебе не кажется, Шарль, – спросил он брата, – что даже стекло приобрело золотистый оттенок?
– Я не присматривался, – пренебрежительно буркнул Шарль.
Бережно сняв крышку, кардинал осторожно извлек стеклянный сосуд из золотого футляра, поднес его к свету и понял, что Гаспар в порыве гениального вдохновения нанес на стекло тончайший, почти невидимый слой позолоты и простое стекло обрело небесное свечение.
– Считается, – сказал он брату, – что истинный Грааль должен обращаться в золото, когда в него падает вино Христовой крови. Это свечение, пожалуй, сойдет за подобное превращение.
– Так она тебе нравится?
Кардинал вновь собрал чашу.
– Она великолепна, – промолвил прелат, глядя на чашу с искренним восхищением. – Это чудо Господне!
Он не ожидал, что его пленник изготовит такую прекрасную вещь, даже не мечтал о такой красоте. Восторг его был таков, что на какой-то миг кардинал даже забыл о своих честолюбивых замыслах завладеть папским престолом.
– Может быть, Шарль, – теперь в его голосе звучал благоговейный трепет, – может быть, это настоящий Грааль! Может быть, чаша, которую я купил, и была истинной реликвией. Может быть, Господь вел меня, когда совершалась эта покупка.
– Значит ли это, – спросил Шарль, ничуть не тронутый красотой сосуда, – что мне пора убить Гаспара?
– И его девку тоже, – сказал кардинал, не отводя глаз от шедевра. – Да, доверши свое дело. Потом ты отправишься на юг. В Бера, это к югу от Тулузы.
– Что это за дыра? – переспросил Шарль, никогда не слышавший об этом месте.
Кардинал улыбнулся.
– Там объявился английский лучник. Я знал, что он появится! Этот несчастный во главе маленького отряда пришел в Кастийон-д'Арбизон, городишко, как я слышал, находящийся поблизости от Бера. Ну что ж, Шарль, плод созрел, пора его и сорвать. С лучником расправится по моему поручению Ги Вексий, но я хочу, чтобы ты, Шарль, был там рядом.
– Ты ему не доверяешь?
– Конечно не доверяю! Как бы он ни изображал преданность, я знаю, он не из тех людей, которые терпят над собой господина.
Кардинал снова поднял чашу, устремил на нее благоговейный взгляд, а потом бережно поместил сосуд в тот самый, устланный соломой ларец, в котором он был доставлен.
– Чашу ты возьмешь с собой.
– Чашу? – Шарль растерялся. – Зачем? Ей-богу, не понимаю. Зачем она мне!
– Это огромная ответственность, – сказал кардинал, вручая брату ларец. – Ведь согласно легенде Граалем владели катары, так где еще она могла обнаружиться, как не поблизости от последнего оплота еретиков?
Шарль изумился:
– Ты что, хочешь, чтобы эту штуковину «нашел» я?
Кардинал подошел к prie-deue, скамье для коленопреклонения, и опустился там на колени.
– Папа Римский немолод, – сказал он ханжески.
На самом деле Клименту было всего пятьдесят шесть, он был лишь на восемь лет старше кардинала, однако Луи Бессьера терзала тревога, как бы Папа Климент не умер слишком рано и нового преемника не успели избрать прежде, чем он сможет предъявить Грааль.
– Время не ждет, поэтому мне позарез нужен Грааль. – Он помолчал. – Грааль мне нужен немедленно! Но если Вексий узнает о существовании изделия Гаспара, он наверняка попытается отобрать его у тебя. Поэтому ты должен убить Вексия, как только он выполнит свою задачу. Его задача – найти своего кузена, английского лучника. Таким образом, Шарль, тебе предстоит сначала убить Вексия, а потом заставить лучника говорить. Сдери с него кожу, дюйм за дюймом, а потом посоли плоть. Он заговорит, а когда он расскажет тебе все, что он знает о Граале, убей и его.
– Но у нас уже есть Грааль, – сказал Шарль, подняв ларец.
– Шарль, – стал терпеливо втолковывать брату кардинал, – есть еще настоящий Грааль, и если англичанин его найдет, тот, что ты держишь сейчас в руках, тебе не понадобится. Понимаешь? Но если из англичанина ничего вытянуть не удастся, ты объявишь, что получил от него этот Грааль. Доставишь его в Париж, мы отслужим мессу, и через год-другой я буду жить в Авиньоне. А потом, в свое время, мы перенесем папский престол в Париж, и весь мир будет преклоняться перед нами.
Обдумав полученные распоряжения, Шарль решил, что в них много излишних сложностей.
– А почему не взять да и не предъявить Грааль прямо здесь?
– Если Грааль будет найден в Париже, никто не поверит в его подлинность, – ответил кардинал, не сводя глаз с висящего на стене распятия из слоновой кости. – Меня заподозрят в честолюбивых происках. Нет уж, Грааль должен прибыть издалека, из тех мест, где он, как признают все, находился в прежние времена, чтобы слух об обретении святыни опережал ее появление. Люди должны выстраиваться вдоль дороги и падать на колени, чтобы приветствовать чашу.
Шарль понял, что кардинал прав.
– А почему не убить Вексия прямо сейчас?
– Потому что он ревностно ведет поиски истинного Грааля, а если таковой существует, я хочу его получить. Кроме того, его имя Вексий, и многим известно, что его семья некогда обладала Граалем, и если он окажется причастен к обнаружению реликвии, это придаст всей истории убедительность. Еще причина? Он человек знатного рода. Он может командовать воинами, а без воинской силы этого англичанина из его логовища не выковырять. Или ты всерьез думаешь, что сорок семь рыцарей и ратников последуют за тобой?
Отряд, которым командовал Вексий, был набран кардиналом из вассалов церкви, сеньоров, завещавших свои земли церкви во искупление своих грехов, и этот поход обходился кардиналу недешево. Участвующие в нем вассалы на весь год освобождались от уплаты годовой ренты.
– Мы с тобой, Шарль, вышли из грязи, – сказал кардинал. – Ратники отнеслись бы к нам с презрением.
– Наверняка найдется сотня могущественных сеньоров, которые готовы искать Грааль, – предположил Шарль.
– Тысяча найдется, – мягко согласился кардинал, – но стоит им заполучить святыню, они тут же отвезут находку своему королю, а этот глупец, чего доброго, потеряет его, как уже потерял многие владения, уступив их англичанам. Вексий, в отличие от них, служит мне, как согласился бы служить любому другому, но это лишь до поры до времени. Я знаю, что он сделает, если раздобудет Грааль: присвоит его. Поэтому ты убьешь его прежде, чем ему представится такая возможность.
– Похоже, он не из тех, кто легко позволит себя убить, – высказал беспокойство Шарль.
– Вот потому, брат, я и хочу поручить это тебе. Тебе и твоим головорезам. Не подведи меня.
В ту ночь Шарль изготовил новое вместилище для поддельного Грааля. Это был кожаный футляр вроде тех, в каких арбалетчики носят свои толстые короткие стрелы. Он обернул стеклянную чашу и золотую оправу в полотно, уложил их в опилки и запечатал кожаный короб воском.
И на следующий день Гаспар получил свободу. Нож вспорол ему живот и грудь, так что умирал он долго и мучительно, в луже крови. Иветта кричала так громко, что сорвала голос, и когда тот же нож разрезал на ней платье, она не сопротивлялась. Десять минут спустя, в знак благодарности за полученное удовольствие, Шарль убил ее быстро.
Потом башня была заперта.
И Шарль Бессьер, надежно закрепив кожаный колчан на бедре, повел своих молодцов на юг.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.
Томас негромко произнес эти слова вслух и перекрестился.
Почему-то ему показалось, что этой молитвы недостаточно, и он, обнажив меч, вонзил его острием в землю, поставив его рукоять как крест, и, опустившись на одно колено, повторил то же самое по латыни:
– In nomine patris et filii, et spiritus sancti, amen.
«Господи, помилуй меня», – подумал лучник и попытался вспомнить, когда последний раз был на исповеди.
Сэра Гийома столь неожиданный приступ набожности удивил.
– Ты вроде бы говорил, что их немного.
– Так и есть, – сказал Томас, встав и засунув меч в ножны. – Но перед боем не мешает помолиться.
Сэр Гийом небрежно перекрестился, потом сплюнул.
– Если их там немного, мы их прикончим.
Томас не знал ни кто эти люди, ни откуда они, ни движутся ли в прежнем направлении или повернули? Они появились не со стороны Бера, ибо графский замок находился на севере, а отряд ехал с востока. Одно было хорошо: он знал, что численное превосходство на его стороне. У него и сэра Гийома под рукой имелось двадцать лучников и сорок два ратника, тогда как в чужом отряде вдвое меньше всадников. Многие из новых ратников Томаса недавно были рутьерами и поступили на службу ради возможности пограбить. Предстоящая стычка их радовала, потому что давала возможность разжиться лошадьми, оружием и доспехами, а возможно, и пленниками, за которых можно получить выкуп.
– Ты уверен, что это были не коредоры? – спросил его сэр Гийом.
– Никакие не коредоры, – уверенно ответил Томас.
Для разбойников те люди имели слишком хорошее вооружение, слишком хорошие доспехи и слишком хороших лошадей.
– Они ехали под знаменем, – добавил он. – Правда, оно обвисло, и я не смог разглядеть герб.
– Так может быть, все же рутьеры? – предположил сэр Гийом.
Томас покачал головой. Трудно было бы объяснить, зачем шайка рутьеров забрела в такие глухие места, а если и забрела, то зачем ей понадобилось выступать под каким-то знаменем. Всадники, которых он видел, более всего походили на военный патруль, не говоря уж о том, что перед тем, как развернуть коня и галопом ускакать обратно в деревню, Томас отчетливо разглядел на спинах вьючных лошадей связки копий. Рутьеры, найдись у них вьючные животные, скорее нагрузили бы их не оружием, а узлами с пожитками и припасами.
– Думаю, – предположил он, – этих людей послали из Вера в Астарак после того, как мы там побывали. Может быть, решили, что мы вернемся ощипать эту деревню во второй раз?
– Стало быть, это враги?
– А разве у нас тут есть друзья? – спросил Томас.
Сэр Гийом ухмыльнулся.
– Говоришь, два десятка?
– Может быть, чуть больше, – сказал Томас, – но не более тридцати.
– Может быть, ты не всех увидел?
– Поглядим и узнаем, так ведь? – отозвался Томас. – Если они прискачут.
– Арбалеты?
– Ни одного не заметил.
– Тогда будем надеяться, что прискачут, – алчно произнес сэр Гийом.
Он, как и любой солдат, мечтал разжиться богатой добычей. Ему позарез требовались деньги, и немалые, чтобы, действуя где силой, где подкупом, вернуть свои ленные владения в Нормандии.
– Может быть, это твой кузен? – предположил рыцарь.
– Боже правый! – воскликнул Томас. – О нем-то я и не подумал.
Он непроизвольно потянулся назад и постучал по своему тисовому луку, потому что любое упоминание о кузене предполагало зло. И лишь потом на него накатило возбуждение: а вдруг это и правда Ги Вексий, лезущий, ничего не подозревая, прямо в западню.
– Если это Вексий, – сказал сэр Гийом, прикоснувшись пальцем к страшному шраму на своем лице, – значит, он мой. Я сам его убью.
– Он мой, – возразил Томас. – И он нужен мне живым. Живым.
– Ты это Робби скажи, – угрюмо усмехнулся сэр Гийом. – Он ведь тоже поклялся прикончить твоего родича.
Шотландец хотел отомстить Вексию за смерть брата.
– Может быть, это вовсе и не он, – отозвался Томас, хотя, конечно, очень хотел, чтобы нынешним врагом оказался его ненавистный кузен, ведь предстояла не битва, а избиение.
Попасть в деревню чужие всадники могли только одним путем – через брод, если, конечно, не решат поискать другую переправу, выше или ниже по течению. Однако местный крестьянин, которого припугнули, приставив меч к горлу его новорожденной дочери, поклялся, что до ближайшей переправы не менее пяти миль, так что пришельцам предстояло проехать от брода по деревенской улице. И по дороге к следующей деревне, на пастбище, их ждала смерть.
Пятнадцать ратников приготовились защищать деревенскую улицу. Они расположились в засаде, на задворках самого большого дома, с тем чтобы, как только со стороны брода появится враг, мигом преградить ему путь. Для этой цели сэр Гийом реквизировал крестьянскую телегу, которую предстояло внезапно выкатить поперек улицы, чтобы задержать всадников. Впрочем, Томас сильно сомневался, что его конникам вообще придется вступить в бой, ибо по обе стороны дороги, за живыми изгородями пастбищ, были расставлены лучники. Им предстояло стрелять первыми по ничего не подозревающему врагу с близкого расстояния. Пользуясь тем, что было достаточно времени, они хорошо подготовились, повтыкав побольше стрел наконечниками вниз в землю.
Ближе всего под рукой были воткнуты стрелы с широкими, плоскими, клиновидными наконечниками, снабженными зазубринами, чтобы стрелы невозможно было извлечь из раны. Лучники всегда имели при себе точильные камни и оттачивали эти наконечники до остроты бритвы.
– Подпустите их поближе, – наставлял Томас. – Не стреляйте, пока они не доскачут до межевого камня.
У дороги стоял белый межевой камень, обозначавший конец одного выпаса и начало другого. Как только первые всадники поравняются с ним, в их коней полетят стрелы с широкими наконечниками, предназначенные для того, чтобы наносить животным страшные раны. От невыносимой боли кони начнут беситься. Часть коней падет, часть начнет метаться, но уцелевшие продолжат атаку, и когда они окажутся близко, лучники сменят стрелы, перейдя на пробойники.
Стрелы-пробойники предназначались для пробивания доспехов, самые лучшие изготавливались из древесины двух видов. Хвостовая часть стрелы, несущая оперение, изготавливалась из того же ясеня или тополя, но спереди, с помощью копытного клея, к ней крепился шести– или восьмидюймовый отрезок более тяжелого дуба, на который и насаживался остро отточенный наконечник длиной в средний палец взрослого мужчины, но тонкий, как женский мизинец. Это похожее на иглу или шило острие, укрепленное на тяжелом дубовом древке, не имело никаких зазубрин. То был острый, прочный стальной шип, пробивавший кольчугу, а при удачном попадании под прямым углом – даже стальные латы. Стрелы с широкими наконечниками предназначались для лошадей, а стрелы с узкими пробойниками – для облаченных в доспехи воинов. И если всадникам требовалась минута, чтобы домчаться от межи до края деревни, то лучники Томаса могли за это время выпустить триста стрел, имея вдвое больше в запасе.
Томас уже проделывал это раньше, много раз. Он освоил это ремесло в Бретани, стреляя из-за таких же живых изгородей и участвуя в истреблении множества врагов. Французы, узнав на собственной шкуре, что такое боевой лук, взяли за обычай высылать вперед арбалетчиков, но английские стрелы убивали их прежде, чем они успевали перезарядить свое мощное, но не скорострельное оружие, и всадникам оставалось только либо бросаться в атаку, либо отступать. Как бы то ни было, английские лучники господствовали на полях сражений Европы, ибо другие народы не овладели стрельбой из тисового лука.
Лучники, как и люди сэра Гийома, находились в укрытии, а ратники под началом Робби задержались на виду как приманка на возвышавшемся с севера от деревенской улицы кургане. Кто-то копал, остальные сидели на земле, как будто отдыхая. Двое следили за костром, дым которого приманивал врага. Томас с Женевьевой подошли к кургану, и, пока девушка ждала у подножия, лучник, поднявшись наверх, заглянул в яму, выкопанную сэром Гийомом.
– Пусто?
– Камешков уйма, – усмехнулся Робби, – но золотых самородков не видно.
– Ты знаешь, что делать?
Робби весело кивнул.
– Дождаться, когда их наступление расстроится, и атаковать.
– Только не ударь раньше времени.
– Мы не ударим раньше времени, – ответил за шотландца англичанин по имени Джон Фэрклот.
Ратник был старше Робби и годами, и опытом, и, хотя знатное происхождение давало шотландцу право командовать всадниками, у него хватало ума прислушиваться к советам бывалых, видавших виды воинов.
– Мы тебя не подведем, – весело заверил Томаса шотландец.
Лошади его ратников стояли наготове за курганом. При появлении врага ратники должны были быстро сбежать вниз и сесть в седла, а когда неприятельская атака захлебнется под стрелами, зайти в тыл противнику, поймав его таким образом в ловушку.
– Не исключено, что к нам в гости спешит мой кузен, – сказал Томас. – Ручаться не стану, но это вполне возможно.
– Мы с ним в ссоре, – промолвил Робби, вспомнив убитого брата.
– Робби, он нужен мне живым. У меня есть к нему вопросы, на которые я хочу получить ответы.
– Ладно, получишь свои ответы, а мне потом нужна его глотка.
– Сперва ответы, глотка потом, – отозвался Томас и обернулся. Женевьева позвала его от подножия кургана.
– Я что-то заметила, – сказала она, – там, под каштанами.
– Не смотреть в ту сторону! – крикнул Томас тем людям Робби, которые слышали эти слова, а сам, лениво потягиваясь, словно нехотя повернулся и устремил взгляд за речушку.
Сперва он увидел только двух крестьян, которые несли через брод связки кольев, и подумал было, что Женевьева их и заметила, но, посмотрев на другой берег, разглядел трех спрятавшихся за деревьями всадников. Очевидно, они считали себя надежно укрытыми, но в Бретани Томас научился замечать опасность в чащах и зарослях.
– Это их разведка, – сказал он шотландцу. – Теперь ждать недолго, а?
Томас натянул лук.
Робби вгляделся повнимательней.
– Один из них, кажется, священник, – сказал он без особой уверенности.
– Просто на нем черный плащ, – предположил Томас, вглядевшись в том же направлении.
Трое всадников повернули и скоро скрылись за деревьями.
– А что, если это граф Бера? – спросил Робби.
– Допустим, это так. Ну и что?
Чувствовалось, что Томаса такая возможность не воодушевила. Очень уж ему хотелось схватиться с кузеном.
– Вот будет выкуп так выкуп!
– Это точно.
– Так ты не будешь против, если я останусь, пока он не будет выплачен?
Этот вопрос неприятно поразил Томаса. Он уже привык к мысли, что Робби уйдет из отряда и не будет больше баламутить людей своей ревностью.
– Ты хочешь остаться?
– Чтобы получить мою долю выкупа, – вскинулся Робби. – А что в этом такого?
– Нет-нет, – поспешил успокоить друга Томас. – Ты получишь свою долю, как же иначе.
Он подумал, что, пожалуй, уж лучше выплатить Робби его долю вперед из своего кармана и таким образом ускорить продвижение шотландца по его покаянной стезе, но сейчас было не время делать это предложение.
– Смотри не бросайся в бой слишком рано! – снова остерег он молодого человека. – Ну, с Богом, Робби!
– Нам давно пора как следует подраться, – сказал Робби, воспрянув духом. – Не давай своим лучникам убивать богатых всадников. Оставь нескольких и для нас.
Усмехнувшись, Томас спустился с кургана, нацепил тетиву на лук Женевьевы и направился с ней туда, где скрывался со своими людьми сэр Гийом.
– Ждать уже недолго, ребята, – сказал он, взобравшись на телегу, чтобы выглянуть через забор на дорогу.
Его лучники, затаившиеся за живой изгородью, уже наложили на луки первые стрелы с широкими наконечниками.
Томас присоединился к ним и принялся ждать. Ожидание затягивалось. Время, казалось, замедлилось, оно еле ползло, чуть ли не замерло на месте. Ожидание показалось Томасу столь долгим, что у него появилось опасение: а что, если враги догадались о засаде и двинулись в обход, чтобы ударить с тыла или с фланга. Кроме того, могло статься, что из городка Массюб, находившегося не так далеко, послали людей выяснить, с чего это в деревне разожгли сигнальный костер.
Сэр Гийом разделял его беспокойство.
– Ну где же они, черт возьми? – спросил он, когда Томас вернулся во двор и снова взобрался на повозку, чтобы посмотреть, что делается за рекой.
– Кто их знает.
Томас всматривался в даль, но не видел в каштановой роще ничего, что бы могло его насторожить. Листья уже начали желтеть. Две свиньи рылись среди стволов.
На сэре Гийоме был хоберк – длинная, до лодыжек, кольчуга, покрытый вмятинами от ударов нагрудник, подвязанный веревкой, и только один наруч на правой руке. Голову его защищал обыкновенный салад, что-то вроде железной шляпы с широкими, наклонными полями, отводившими нанесенный сверху удар. Это была простая, дешевая разновидность шлема, защищавшая не так надежно, как более сложные и дорогие. Конники Томаса в большинстве были одеты в такие же доспехи, состоящие из разрозненных частей, случайно собранных на полях сражений. Полного комплекта стальных лат не было ни у кого, кольчуги зачастую были продырявленные и зачиненные вместо железных колец кожаными заплатами, и далеко не каждый мог похвастаться щитом. Щит сэра Гийома был сделан из ивовых планок, покрытых кожей; нарисованный на нем герб с тремя желтыми ястребами на голубом поле выцвел почти до неузнаваемости. Еще один щит с эмблемой в виде черного топора на белом фоне был только у одного воина, но он знать не знал, кому принадлежит этот символ. Ратник снял этот щит с мертвого врага в стычке под Агийоном, одним из главных опорных пунктов англичан в Гаскони.
– Наверняка щит английский, – рассудил боец.
Он был бургундским наемником, сражался против англичан и остался не у дел, когда после падения Кале было заключено перемирие. Он был очень рад, что пристроился на одной стороне с тисовыми луками.
– Не знаешь, чей это герб? – спросил наемник.
– Никогда не видел, – ответил Томас. – Откуда у тебя этот щит?
– Засадил его прежнему хозяину меч в хребтину. Под спинную пластину. У него отлетела пряжка, и спинная пластина болталась, как подбитое крыло. Грех было не воспользоваться. Господи, как же он заорал!
Сэр Гийом издал смешок. Он вытащил из-под нагрудника полкаравая темного хлеба, отломил кусок, надкусил и выругался, выплюнув осколок гранита, отломившийся, должно быть, от жернова, когда мололи зерно. Потом он потрогал языком сломанный зуб и выругался еще раз.
Томас посмотрел взглянул на небо и увидел, что солнце стоит уже низко.
– Сегодня нам придется возвращаться домой поздно, – проворчал он. – Засветло не успеть.
– Найдем реку и пойдем вдоль берега, – сказал сэр Гийом, морщась от боли. – Иисус, – пробормотал он. – Проклятый зуб!
– Зубчик чеснока! – посоветовал бургундец. – Положи на зуб дольку чеснока, боль и уймется.
Внезапно свиньи, что паслись в каштановой роще, задрали рыла, принюхались, а потом быстро потрусили на юг. Их что-то спугнуло. Томас предостерегающе поднял руку, чтобы громкие голоса не насторожили приближающихся всадников, и тотчас же поймал за рекой мелькнувший среди деревьев солнечный блик. Он понял, что солнечный луч отразился от вражеских доспехов.
– А вот и гости явились, – сообщил Томас, соскочил с телеги и бегом вернулся к дожидающимся за живой изгородью лучникам. – Просыпайтесь, ребята. Овечки идут на бойню.
Он занял место позади изгороди; рядом, держа лук наготове, встала Женевьева. Томас не верил, что она в кого-нибудь попадет, но улыбнулся ей.
– Смотри не высовывайся и не стреляй, пока они не доедут до межи, – напомнил он девушке, а сам осторожно выглянул поверх живой изгороди.
Вот они! Едва враги показались, Томас понял, что ненавистного кузена среди них нет. На развернутом стяге, с которым выехал знаменосец, был изображен не йал, а оранжевый леопард Бера.
– Не высовываться! – предупредил Томас своих людей, пытаясь сосчитать врагов.
Двадцать? Двадцать пять? Не много, и только у первой дюжины были копья. На каждом щите красовался оранжевый леопард на белом поле, что подтверждало принадлежность отряда к силам графа Вера. Лишь у одного всадника, ехавшего верхом на огромном, покрытом кольчужной попоной вороном скакуне, желтый щит был с незнакомой Томасу эмблемой в виде красного кулака в кольчужной перчатке. Этот боец был закован в стальные латы, шлем его венчал пышный желто-красный плюмаж. Всего Томас насчитал тридцать одного всадника. Предстояла не схватка, а избиение.
И тут, странное дело, его охватило ощущение нереальности происходящего. Он ожидал, что будет испытывать возбуждение, слегка разбавленное страхом, но вместо этого следил за всадниками так, будто они не имели к нему никакого отношения. Томас заметил, что наступающие не держат строй. Хотя они выехали из рощи ровной шеренгой, стремя в стремя, но она быстро рассыпалась. Копья были в вертикальном положении: опустить их воины собирались, лишь когда окажутся в непосредственной близости от врага. На одном копье трепыхался черный флажок. Хлопали конские попоны, позвякивали на скаку кольчуги и латы. Из-под копыт летели большие комья земли, забрало одного бойца болталось вверх-вниз, в такт аллюру его коня. Затем всадники сбились теснее, чтобы кучно пересечь узкий брод, вода из-под копыт взлетела брызгами, обдавая колени всадников.
Когда первые кони добрались до берега, люди Робби скрылись, и всадники, решив, что начинается азартная погоня за бегущим в панике врагом, пришпорили лошадей. Боевые скакуны с громким топотом устремились вперед по дороге, отряд растянулся в колонну, и, когда ее голова достигла межевого камня, Томас услышал скрип и грохот колес. Это люди сэра Гийома выкатили повозку, перегородив дорогу.
Непроизвольно, повинуясь инстинкту, Томас взял вместо стрелы с широким наконечником другую, предназначенную для пробивания брони. Конь всадника с желто-красным щитом был надежно прикрыт кольчужной, нашитой на толстую кожаную подкладку попоной, и было ясно, что простая стрела эту защиту не возьмет. Англичанин оттянул тетиву к уху, и оперенная стрела вонзилась в грудь вороному. Томас, не мешкая, выпустил вторую, за ней третью, отстраненно дивясь тому, как невелик урон, нанесенный врагу тучей стрел. Ни одна лошадь не упала, ни один всадник даже не замедлил хода, хотя из толстых защитных попон торчали оперенные древки. Он снова натянул лук, выпустил стрелу, почувствовал, как тетива щелкнула по наручу, прикрывающему его левое запястье, выхватил новую стрелу, и только тут две передние лошади под лязг металла с глухим стуком рухнули на землю. Выпущенная Томасом стрела-пробойник пронзила кольчужную попону огромного вороного скакуна. Животное вскинулось и замотало головой, изо рта пошла кровавая пена. Томас послал следующую стрелу во всадника и увидел, что она глухо ударилась о щит, отбросив всадника назад, к высокой задней луке седла.
Две лошади бились в агонии на земле, вынуждая остальных всадников огибать это препятствие, в то время как их продолжали осыпать стрелами. Дрогнуло поднятое копье и, выпав из руки воина, пронзенного в грудь сразу тремя стрелами, покатилось по земле. Его конь испуганно прянул в сторону и понесся перед нападающей шеренгой, атака сбилась.
Том выстрелил снова, использовав стрелу с широким наконечником, чтобы поразить лошадь в тылу вражеского отряда. Взвилась стрела из лука Женевьевы, девушка усмехнулась. Сэм выругался: у него лопнула тетива, и он отступил на шаг, чтобы нацепить на лук новую. Рослый вороной конь, уже раненный, сбился на шаг, и Томас поразил его в бок второй стрелой, на сей раз с узким наконечником. Она вонзилась под левым коленом всадника.
– По коням! – выкрикнул сэр Гийом.
Томас понял: нормандец прикинул, что до его засады враг не доскачет, и решил сам броситься ему навстречу.
Где же Робби? В рядах нападавших некоторые начали поворачивать назад к реке. Томас выпустил вдогонку малодушным четыре быстрые стрелы с широкими наконечниками, а пятую, пробойник, нацелил во всадника на вороном коне. Стрела отскочила от великолепного стального нагрудника, но боевой скакун споткнулся и припал на передние колени. Знаменосец, державший стяг Бера, бросился на помощь рыцарю, но Томас всадил ему стрелу в шею. Почти одновременно в него угодили еще две стрелы. Он выронил знамя, опрокинулся навзничь, но ноги его застряли в стременах, и тело, из которого торчали три оперенных древка, так и осталось в седле. Люди сэра Гийома вскакивали в седла, обнажали мечи, выстраивались колено к колену, и в этот момент с севера появился отряд Робби. Атака была произведена как раз вовремя, когда противник находился в смятении, и у шотландца хватило ума зайти со стороны реки, отрезав тем самым врагу путь к отступлению.
– Опустить луки! – приказал Томас. – Не стрелять!
Он не хотел, чтобы стрелы задели кого-нибудь из людей Робби. Пора было добывать врага в рукопашной.
Люди Робби врезались во всадников Бера со страшной силой. В отличие от противников они шли в атаку как положено, колено к колену. Сила столкновения была такова, что три вражеские лошади оказались сбитыми наземь. Ратники, выбрав себе противников, схватились за мечи, а Робби, горяча коня, ринулся на вражеского предводителя в великолепных доспехах.
– Дуглас! Дуглас! – кричал Робби.
Жослен пытался удержаться в седле смертельно раненного, подогнувшего колени, но еще не рухнувшего коня, когда позади него раздался этот клич. Он развернулся и яростно рубанул мечом, но Робби принял этот удар на щит и продолжал наседать, пока не ухитрился двинуть своим тяжелым щитом, украшенным алым сердцем Дугласов, по вражескому шлему. Жослен по турнирной привычке не пристегивал шлем ремешком, там это было выгодно, потому что в конце поединка позволяло легко снять прочный стальной горшок, чтобы, улучшив обзор, эффектным ударом завершить бой с полуоглушенным соперником. Теперь эта привычка обернулась против него: незакрепленный шлем перевернулся задом наперед, крестообразные прорези для глаз переместились на затылок, и рыцарь внезапно оказался в темноте. Он наугад размахивал мечом в воздухе, пока не почувствовал, что конь под ним падает. И тут на его шлем снова обрушился удар, на сей раз Робби нанес его мечом. Стальной звон оглушил ослепленного Жослена, а Робби продолжал наносить ему удар за ударом.
Многие из уцелевших ратников бросали мечи и торопливо протягивали перчатки противникам в знак того, что сдаются. Лучники, выскочившие из укрытия, стаскивали их с седел, а всадники сэра Гийома с грохотом пронеслись мимо, преследуя горстку врагов, галопом мчавшихся к броду, чтобы спастись от преследователей. Сэр Гийом догнал всадника и одним взмахом меча сбил с его головы шлем, а скакавший за нормандцем ратник вслед за шлемом срубил и голову. Она, подпрыгивая, покатилась в реку, а обезглавленное тело еще продолжало скакать.
– Я сдаюсь! Сдаюсь! – орал наполовину оглушенный Жослен, не скрывая ужаса. – За меня дадут выкуп!
Это волшебное слово спасало на полях сражений многих знатных людей, и Жослен выкрикнул его несколько раз, громко и отчетливо.
– Выкуп! Выкуп!
Его правая нога была придавлена конем, он по-прежнему ничего не видел из-за сбившегося набок шлема, а если что-то и слышал, то лишь удары, крики и вопли своих товарищей, которых добивали лучники. А потом в глаза ему резко ударил свет: с него стащили шлем, и над ним склонился человек с мечом.
– Я сдаюсь, – торопливо заявил Жослен и только затем, вспомнив о своем звании, торопливо уточнил: – Надеюсь, ты благородного происхождения?
– Я Дуглас из дома Дугласов, – отозвался Робби, – и мой род не уступит ни одному другому во всей Шотландии.
– Тогда я твой пленник, – с сокрушенным сердцем промолвил Жослен.
Ему впору было плакать, ибо смертоносные стрелы англичан, а затем ужас кровавой резни в один миг развеяли все его горделивые мечты.
– Ты кто такой? – спросил Робби.
– Я сеньор Безье, – ответил Жослен, – и наследник графа Бера.
Шотландец, не сдержавшись, издал радостный вопль.
Он стал богачом.
Граф Бера уже начал жалеть, что не оставил при себе трех-четырех ратников. Не то чтобы он считал, будто ему может понадобиться защита, просто такому знатному сеньору положено иметь свиту, а после отъезда Жослена с отцом Рубером и всех конников при его особе остались лишь оруженосец, слуга да сервы, расчищавшие от земли таинственную стену, которой, как ему хотелось верить, был замурован тайник в алтаре старой часовни.
Он снова чихнул, а потом, почувствовав головокружение, присел на упавший камень.
– Подойди к костру, монсеньор, – предложил его оруженосец.
Этот флегматичный семнадцатилетний парнишка, сын вассала из северной части графских владений, не стремился к приключениям и не выказал ни малейшего желания отправиться добывать себе славу в компании с Жосленом.
– К костру?
Граф прищурился, непонимающе глядя на паренька, которого звали Мишель.
– Мы развели костер, монсеньор, – пояснил Мишель, указывая на дальний конец склепа, где из щепок, оставшихся от разломанных гробов, сложили небольшой костерок.
– Костер, – рассеянно пробормотал граф, которому почему-то никак не удавалось сосредоточиться.
Он чихнул и не сразу смог восстановить дыхание.
– День нынче холодный, монсеньор, – терпеливо промолвил парнишка, – а у огня ты согреешься, и тебе станет лучше.
– Костер, – повторил граф, все еще силясь собраться с мыслями, и тут его осенило. – Ну конечно! Огонь! Молодец, Мишель! Раздобудь факел! Раздобудь и принеси мне.
Оруженосец поспешил к костру и, вытащив из него длинную, горевшую с одного конца ветку вяза, отнес ее графу. Тот нетерпеливо отпихнул сервов от только что обнаруженного в стене отверстия. Это была крошечная дырочка, сквозь которую пролез бы разве что воробей. Заглянув в нее, граф понял, что за ней находится ниша, но, как ни напрягал зрение во тьме, нельзя было ничего разглядеть. Он обернулся к Мишелю, державшему факел.
– Дай мне, дай сюда, – нетерпеливо потребовал граф и, выхватив у оруженосца горящую палку, помахал ею в воздухе, чтобы огонь разгорелся поярче.
Когда палка заполыхала, рассыпая искры, он сунул факел в отверстие и, к своему восторгу, не встретил преграды. Это подтверждало, что за стеной есть свободное пространство. Граф засунул факел еще глубже и бросил на дно, затем наклонился и приложил правый глаз к отверстию, силясь рассмотреть, что находится за стеной.
В спертом воздухе замурованной камеры пламя быстро слабело, но этого света хватило, чтобы разглядеть пространство за стеной. Граф посмотрел, и у него перехватило дыхание.
– Мишель! – натужно выкрикнул он. – Мишель! Я вижу… И тут пламя потухло.
А граф лишился чувств.
Он скатился с земляного отвала. Увидев белое лицо и открытый рот графа, Мишель в первый миг подумал, что его господин мертв, но тут граф, не приходя в сознание, издал слабый вздох. Сервы, разинув рты, таращились на оруженосца, который в свою очередь так же оцепенело таращился на своего господина. Наконец Мишель кое-как собрался с мыслями и приказал вынести графа из склепа. Это оказалось непросто, ибо огрузневшее тело пришлось вытаскивать наверх по приставной лестнице, но, когда это было сделано, кто-то догадался не тащить бесчувственного старика в монастырь на руках, а взять в деревне ручную тележку. Графа погрузили на нее и покатили в обитель Святого Севера. Путь занял почти час. За это время граф два или три раза застонал и по его телу иногда пробегала дрожь, но во всяком случае, когда монахи перенесли его в лазарет и поместили в маленькую выбеленную келью, в которой жарко горел очаг, он был жив.
Осмотрев больного, брат Рамон, испанец, который состоял при монастыре лекарем, явился к аббату с докладом.
– У графа лихорадка и избыток желчи, – сообщил целитель.
– Он умрет? – спросил Планшар.
– Только если так будет угодно Богу, – ответил брат Рамон, который всегда отвечал на этот вопрос именно такими словами. – Мы поставим ему пиявки, это отведет дурную кровь, затем попробуем изгнать лихорадку, заставив его пропотеть.
– И ты будешь молиться за него, – напомнил Рамону Планшар.
Потом он вернулся к Мишелю и узнал, что ратники графа отправились за реку, в набег на англичан.
– Встреть их по возвращении, – велел аббат Мишелю, – и скажи им, что их господина хватил удар. Напомни сеньору Жослену, что нужно послать сообщение в Бера.
– Слушаюсь, ваша милость, – отозвался Мишель, похоже, весьма обеспокоенный свалившейся на него ответственностью.
– А чем занимался граф, перед тем как упал в обморок? – осведомился аббат и таким образом узнал о таинственной стене.
– Может быть, мне вернуться и выяснить, что же все-таки находится за этой стеной? – нервно спросил Мишель.
– Предоставь это мне, Мишель, – строго ответил Планшар. – Твое дело служить своему господину и его племяннику. Езжай, найди сеньора Жослена.
Мишель поехал к реке, чтобы перехватить на обратном пути Жослена, а Планшар направился на поиски сервов, которые доставили графа в монастырь. Они стояли у ворот, ожидая вознаграждения, и, завидев Планшара, опустились на колени. Аббат заговорил первым, обратившись к самому старшему:
– Верик, как дела у твоей жены?
– Страдает, ваша милость, мучается.
– Скажи ей, что я молюсь за нее, – искренне заверил старика аббат, после чего возвысил голос, обращаясь ко всем: – Послушайте меня, все вы. Слушайте хорошенько. – Он выдержал паузу и, когда все взоры обратились к нему, строго и повелительно продолжил: – Слушайте, что вам следует сделать. Сейчас, не откладывая, вы вернетесь в замок и снова забросаете эту стену землей. Так, чтобы ее невозможно было увидеть, чтобы никто ее не нашел. Ни в коем случае не копайте дальше! Верик, ты знаешь, кто такие энкантада?
– Конечно, господин, – отозвался Верик, боязливо перекрестившись.
Аббат подался поближе к серву.
– Верик, если вы не забросаете землей эту стену, вас ждет нашествие энкантада. Они изойдут из подземелья, приманят ваших детей пением и танцами и увлекут их за собой прямо в ад. Поэтому идите и забросайте стену землей. А когда это будет сделано, возвращайтесь ко мне за наградой.
В монастырской кружке для подаяний лежало несколько монет, и Планшар решил отдать их сервам.
– Я доверяю тебе, Верик! – заключил он. – Не копайте дальше. Просто забросайте стену землей.
Сервы поспешно отправились исполнять приказание, а аббат, проводив их взглядом, пробормотал короткую молитву, прося Господа простить ему эту маленькую ложь. Разумеется, он вовсе не считал, будто под старой часовней Астарака замурованы демоны, зато понимал, что находка графа должна быть скрыта, а страх перед энкантадами позволял надеяться, что работа будет исполнена как следует. Покончив с этим делом, Планшар вернулся в свою келью. Неожиданное появление в монастыре графа оторвало аббата от чтения письма, доставленного час назад. Письмо прислали из цистерцианской обители в Ломбардии, и теперь Планшар перечитывал его, размышляя, нужно ли сообщить братии его ужасное содержание. Решив, что лучше этого не делать, он преклонил колени в молитве.
Ему подумалось, что он живет в мире зла.
И вот на эту юдоль греха обрушилась кара Господня. Смысл письма был именно таков, и Планшару оставалось только молиться. «Fiat voluntas tua, – повторял он снова и снова. – Да будет воля Твоя».
И весь ужас в том, подумал аббат, что Господня воля вершится.
 |
Первым делом нужно было собрать как можно больше выпущенных стрел. В Англии или в тех землях Франции, где давно установилась власть английского короля, всегда можно было разжиться новыми стрелами, но здесь, в Гаскони, стрел днем с огнем не найдешь. Стрелы для боевых луков изготавливали в английских графствах и отсылали туда, где размещались отряды лучников, но здесь, вдалеке от ближайшего английского гарнизона, пополнить запасы было негде и каждая стрела была на вес золота. Поэтому Томас и ходил от трупа к трупу, собирая стрелы. Большая часть стрел с широкими наконечниками так плотно засела в конской плоти, что извлечь можно было одни лишь древки, но и они могли пригодиться. Запас наконечников имелся у каждого стрелка, хотя, если была такая возможность, люди старались вырезать наконечники из трупов. Стрелы-пробойники извлекались без труда. Если находили стрелу, пролетевшую мимо цели и просто валявшуюся на земле, она становилась предметом шуток.
– Эй, Сэм! – крикнул Джейк. – Я тут стрелу подобрал, никак твоя. Ты промахнулся на целую чертову милю.
– Это не моя. Это Женни промазала, кто же еще?
– Том! – Джейк еще раньше приметил за рекой двух свиней. – Можно я смотаюсь на тот берег за ужином?
– Сперва стрелы, Джейк, – сказал Томас, – а ужин потом.
Он склонился над мертвой лошадью и воткнул в нее нож в попытке извлечь широкий зазубренный наконечник. Сэр Гийом собирал части доспехов, отстегивал с мертвецов наголенники, наплечники и латные рукавицы. Какой-то ратник стаскивал с покойника кольчугу, лучники охапками уносили мечи. Десять вражеских лошадей достались англичанам либо целыми и невредимыми, либо отделались легкими, поддающимися лечению ранами. Остальные либо погибли, либо так мучились, что Сэм добил их боевым топором.
Англичане одержали полную, безоговорочную победу. Лучшего нельзя и желать, тем паче что пленник, которого захватил Робби, очевидно был предводителем вражеского отряда. Круглолицый, здоровенный, взмокший от пота детина смотрел очень сердито.
– Это наследник графа Бера, – сообщил Робби подошедшему Томасу. – Его племянник. А самого графа здесь не было.
Жослен скользнул взглядом по Томасу и, увидев его обагренные кровью руки, лук и мешок со стрелами, решил, что тот человек незначительный и повернулся поэтому к сэру Гийому.
– Ты здесь командуешь? – требовательно спросил Жослен.
Сэр Гийом жестом указал на Томаса.
– Он.
Жослен обомлел. Он в ужасе смотрел, как обирают его раненых воинов. Хорошо еще, что двое его собственных ратников, Виллесиль с товарищем, остались в живых. Но они не могли сражаться в полную силу, когда лошади под ними были убиты. Один из дядюшкиных людей лишился правой руки, еще один умирал, раненный стрелой в живот. Жослен попытался подсчитать погибших и уцелевших: выходило, что удрать за реку удалось лишь шестерым или семерым.
Еретичка занималась мародерством вместе с солдатами. Поняв, кто она такая, Жослен плюнул, потом осенил себя крестным знамением, однако продолжал пялиться на девушку в серебристой кольчуге, как зачарованный. Такой красавицы он еще никогда не встречал.
– Она заговоренная, – сухо обронил сэр Гийом, заметив, куда смотрит пленник.
– Итак, сколько же ты стоишь? – спросил Томас Жослена.
– Мой дядя отсыплет вам за меня полной мерой, – натянуто ответил Жослен.
Он все еще сомневался, что Томас – начальник отряда. Еще больше он сомневался, что дядюшка согласится заплатить за него щедрый выкуп, однако не собирался сообщать о таких подозрениях победителям; умолчал он также о том, что в его собственном ленном владении Безье можно наскрести разве что пригоршню экю, да и то при большом везении. Безье представляло собой убогую деревеньку в Пикардии, и, продав ее с потрохами, удалось бы в лучшем случае выкупить пленную козу.
Он снова глянул на Женевьеву, дивясь ее длинным ногам и светящимся волосам.
– Вы разбили нас, потому что заручились помощью дьявола, – с горечью заметил он.
– В бою никогда не мешает иметь могущественных союзников, – отозвался Томас и повернулся туда, где возились среди трупов его бойцы. – Поспешайте, ребята! – крикнул он. – Нам нужно вернуться домой до полуночи.
Люди его были довольны. Они знали, что каждому достанется часть денег за Жослена, хотя львиная часть выкупа принадлежала Робби, да и за менее ценных пленников тоже немного перепадет. Вдобавок они разжились шлемами, оружием, щитами, мечами и лошадьми, не понесли потерь, и лишь двое ратников получили незначительные царапины. Дело удалось на славу, и они смеялись, забирая своих лошадей, нагружая захваченных животных добычей и готовясь к отъезду.
И в этот момент, переехав брод, к ним направился одинокий всадник.
Сэр Гийом, заметивший его первым, окликнул Томаса, и тот, обернувшись, по черно-белому одеянию признал в приближавшемся всаднике доминиканца.
– Не стрелять! – крикнул Томас своим людям. – Опустить луки!
Он направился к сидящему на низкорослой кобыле священнику. Женевьева уже успела сесть в седло, но спрыгнула и, нагнав Томаса, шепнула:
– Его зовут отец Рубер.
Лицо ее было бледным, в голосе звучала обида.
– Человек, который пытал тебя? – спросил Томас.
– Мерзавец! – сказала девушка.
Томасу показалось, что она с трудом сдерживает слезы; он понимал, какие чувства она испытывает, ибо сам пережил подобное унижение от рук палача. Он вспомнил, как умолял своего мучителя, вспомнил свое бессилие, свой страх и постыдную благодарность, переполнявшую его в те мгновения, когда муки прекращались.
Отец Рубер осадил лошадь шагах в двадцати от Томаса и окинул взглядом мертвые тела.
– Исповедались ли они? – спросил он.
– Нет, – сказал Томас, – но если ты хочешь, то можешь отпустить им грехи. А потом возвращайся в Бера и скажи графу, что его племянник у нас и мы намерены договориться с ним о выкупе.
Больше ему говорить с доминиканцем было не о чем, поэтому он взял Женевьеву за локоть и повернулся, чтобы уйти.
– Ты Томас из Хуктона? – спросил отец Рубер.
Томас обернулся.
– А тебе что до этого?
– Ты лишил ад одной души, – ответил священник, – и, если ты не отдашь ее, я потребую и твою.
Женевьева сняла с плеча лук.
– Ты окажешься в аду раньше меня, – сказала она Руберу.
Однако монах даже не посмотрел на нее, продолжая обращаться к Томасу:
– Она отродье дьявола, англичанин, и она околдовала тебя. – Его кобыла дернулась, и он раздраженно шлепнул ее по шее. – Церковь приняла относительно ее решение, которому ты должен подчиниться.
– Я принял свое решение, – сказал Томас.
Отец Рубер возвысил голос, чтобы люди, находившиеся позади Томаса, могли его слышать.
– Она нищенствующая! – крикнул он. – Она еретичка! Она отлучена от церкви, отринута от стада Христова и обречена на вечные муки! Нет и не может быть спасения ни для нее, ни для того, кто станет ей помогать. Слышите меня? Моими устами с вами говорит сама церковь, вершащая на земле волю Всевышнего! Ваши бессмертные души, бессмертные души всех вас, подвергаются страшной опасности из-за этой греховной твари!
Он снова посмотрел на Женевьеву и не удержался от злобной усмешки.
– Ты умрешь в огне, гадина, – прошипел доминиканец, – но костер, который пожрет твою плоть, будет лишь преддверием к поджидающему тебя пламени, вечному пламени геенны!
Женевьева подняла свой маленький лук. На тетиву была наложена стрела с широким наконечником.
– Не надо, – предостерег ее Томас.
– Он истязал меня, – сказала Женевьева.
Щеки ее были мокры от слез.
Отец Рубер глумливо усмехнулся, глядя на ее лук.
– Ты чертова шлюха, – крикнул он ей, – и черви будут обитать в твоем чреве, и грудь твоя будет источать гной, и ты будешь служить потехой бесам!
Женевьева выпустила стрелу.
Она не целилась. Ярость придала ей сил, позволив оттянуть тетиву далеко назад, но глаза были переполнены слезами, и девушка вряд ли ясно видела своего врага и мучителя. Даже стреляя по мишеням, когда Женевьева целилась старательно и спокойно, стрелы ее в большинстве случаев летели куда попало, но тут, в самый последний момент, когда девушка собиралась спустить тетиву, Томас попытался отбить ее руку. Он едва коснулся ее, только задел, но стрела, вздрогнув, слетела с тетивы.
Отец Рубер открыл было рот, чтобы отпустить оскорбительную шутку насчет игрушечного лука, но не успел: в кои-то веки стрела Женевьевы полетела в цель. Широкий зазубренный наконечник пробил священнику кадык, и стрела осталась торчать из его горла. Кровь полилась по древку, и белые перья окрасились кровью. Несколько мгновений доминиканец оставался в седле с изумленным выражением на лице. Потом кровь хлынула сильнее, пролившись на гриву его лошади. У него вырвался хриплый, булькающий звук, и он тяжело свалился на землю.
К тому времени, когда Томас подскочил к нему, священник был уже мертв.
– Говорила же я, что ты отправишься в ад первым, – промолвила Женевьева и плюнула на труп.
Томас осенил себя крестным знамением.
После столь легкой и славной победы можно было ожидать праздничного настроения, но по возвращении в Кастийон-д'Арбизон гарнизоном овладело прежнее уныние. Люди прекрасно показали себя в бою, но смерть священника повергла солдат Томаса в ужас. Надо заметить, что все они поголовно были закоренелыми грешниками, а иным и самим доводилось обагрять руки кровью служителей церкви, однако эти люди были до крайности суеверны и смерть доминиканца сочли дурным предзнаменованием. Отец Рубер выехал к ним безоружным, он явился на переговоры, а его застрелили как собаку. Правда, некоторые отнеслись к поступку Женевьевы с одобрением, заявляя, что как раз такая женщина и годится для солдата и к черту, мол, всех святош. Однако такие вольнодумцы составляли меньшинство. Многим запали в душу слова доминиканца о том, что всяк, потворствующий еретичке, обрекает себя на вечные муки, и эта угроза воскресила былые страхи, терзавшие их еще с той поры, как Томас избавил девушку от костра. Робби упорно стоял на такой точке зрения, а когда Томас выразил свое несогласие и спросил, не пора ли ему отбыть в Болонью, шотландец наотрез отказался.
– Я остаюсь здесь, – сказал он, – пока не узнаю, какой получу выкуп. Еще не хватало уезжать прочь от его денежек!
Он ткнул пальцем в Жослена, который, едва узнав, что среди защитников крепости существуют разногласия, стал всячески их разжигать, предрекая страшные небесные кары, если проклятая еретичка не будет предана сожжению. Пленный рыцарь демонстративно отказывался есть за одним столом с Женевьевой. Как человек знатный, Жослен имел право на все удобства, какие мог предоставить замок: он спал в башне в отдельной комнате, но трапезничать предпочитал не в холле, а отдельно. Чаще всего Жослен проводил время с Робби и его ратниками, развлекая их рассказами о турнирах и пугая тем, какие злосчастия ожидают всех врагов Святой Церкви.
Томас предложил Робби почти все деньги, имеющиеся у него в наличии, как долю выкупа за Жослена, точный размер которого еще предстояло определить в ходе переговоров, но Робби отказался.
– Может статься, что моя доля окажется гораздо больше, и почем мне знать, что ты отдашь разницу? И потом: как ты узнаешь, где я нахожусь?
– Я отошлю деньги твоим родным, – пообещал Томас. – Или ты мне не доверяешь?
– А с какой стати мне доверять тому, кому не доверяет церковь? – последовал горький ответ.
Сэр Гийом попытался разрядить обстановку, но чувствовал, что в гарнизоне назревает раскол. Дошло до того, что как-то вечером в холле сторонники Робби подрались с защитниками Женевьевы, да так, что один англичанин погиб, другому, гасконцу, выкололи кинжалом глаз. Сэр Гийом привел драчунов в чувство, но он понимал, что других стычек не миновать.
– Что ты собираешься с этим делать? – спросил он Томаса спустя неделю после схватки у реки Жер.
Погода была холодная, дул северный ветер, который, по мнению многих, вызывает у людей тоску и раздражительность. Сэр Гийом и Томас стояли на вершине башни, где развевалось выцветшее красно-зеленое знамя графа Нортгемптона, а под ним, перевернутый вверх ногами в знак того, что он захвачен в бою, штандарт Бера с оранжевым леопардом. Женевьева тоже была там, но, не желая слышать того, что скажет сэр Гийом, отошла на другой конец площадки.
– Я собираюсь ждать, – ответил Томас.
– Потому что явится твой кузен?
– Для этого я сюда пришел, – сказал Томас.
– А допустим, у тебя не останется людей? – спросил сэр Гийом.
Некоторое время Томас молчал. Потом, после затянувшейся паузы, спросил:
– И тебя тоже?
– Я с тобой, – ответил сэр Гийом, – хоть ты и чертов дурень. Но если сюда заявится твой драгоценный кузен, он придет не один.
– Я знаю.
– Он-то не сваляет такого дурака, как этот Жослен. Он не подарит тебе победу.
– Я знаю, – угрюмо повторил Томас.
– Тебе нужно больше людей, – сказал сэр Гийом. – У нас есть гарнизон. А нужна небольшая армия.
– Было бы неплохо, – согласился Томас.
– Но пока она, – сэр Гийом покосился на Женевьеву, – будет здесь, пополнения ждать не приходится. Никто к нам не придет, а многие нас покинут. Трое гасконцев вчера уже ушли.
Три ратника даже не стали дожидаться своей доли выкупа за Жослена. Они просто сели на лошадей и уехали на запад искать другого командира.
– Трусы мне не нужны, – проворчал Томас.
– О, не будь таким непроходимым глупцом! – рявкнул сэр Гийом. – Твои люди не трусы. Они готовы сражаться с другими бойцами, но не поднимут оружия против церкви. Они не осмелятся сражаться с Богом.
Он замолчал; очевидно, ему не хотелось произносить то, что было у него на уме. Решившись, он сказал:
– Тебе нужно отослать ее, Томас. Она должна уйти.
Томас устремил взгляд на южные холмы. Он молчал.
– Она должна уйти, – повторил сэр Гийом. – Отошли ее в По. В Бордо. Куда угодно.
– Если я это сделаю, – сказал Томас, – она погибнет. Церковники отыщут ее и сожгут.
Сэр Гийом посмотрел на него в упор.
– Ты влюблен, верно?
– Да, – признал Томас.
– Господи боже мой, черт возьми! – воскликнул в отчаянии сэр Гийом. – Чертова любовь! Вечно от нее одни неприятности.
– Человек рожден для любви, – отозвался Томас, – как искры пламени рождены, чтобы лететь вверх.
– Может быть, – хмуро сказал сэр Гийом, – только вот проклятое топливо в него подбрасывают женщины.
– Всадники! – неожиданно крикнула Женевьева, прервав их разговор.
Томас подбежал к восточному парапету и увидел на восточной дороге появившийся из леса отряд в шестьдесят или семьдесят ратников. Они были одеты в оранжево-белые цвета графства Бера, и Томас сперва подумал, что это явился со свитой человек, чтобы вести переговоры о выкупе за Жослена, но потом увидел, что над их головами реет не леопард Бера, а церковная хоругвь из тех, какие носят в процессиях по святым праздникам. Она свисала с поперечины, и изображен на ней был голубой покров Девы Марии. А за хоругвью, на маленьких лошаденках, рысили десятка два клириков.
Сэр Гийом перекрестился.
– Плохо дело, – отрывисто произнес он, потом повернулся к Женевьеве. – Никаких стрел! Ты слышишь меня, девчонка? Никаких чертовых стрел!
Сэр Гийом сбежал по ступенькам, а Женевьева посмотрела на Томаса.
– Прости меня, – сказала она.
– За то, что прикончила святошу? Плевать мне на этого сукина сына!
– Сдается мне, они явились, чтобы проклясть нас, – сказала Женевьева и вместе с Томасом подошла к той стороне крепостной стены, которая выходила на главную улицу Кастийон-д'Арбизона, западные ворота и мост через реку.
Вооруженные всадники остались за городской стеной, тогда как духовенство спешилось и, выстроившись за хоругвью торжественной процессией, направилось по главной улице к замку. Большинство клириков были в черном, но один, увенчанный митрой, в белоснежных ризах. В руках он держал белый, с крючковатой золотой рукоятью посох. Это был по меньшей мере епископ. Грузный старец с выбивавшимися из-под золотого обода митры длинными седыми волосами, не обращая внимания на преклонивших колени горожан, поднял взор к стенам замка и воззвал:
– Томас! Томас!
– Что ты будешь делать? – спросила Женевьева.
– Послушаю его, – ответил Томас.
Взяв ее за руку, он спустился с ней на маленький бастион, уже заполненный лучниками и ратниками. Робби был уже там, и, когда появился Томас, шотландец указал на него и крикнул вниз, епископу:
– Вот он – Томас.
Епископ ударил посохом о землю.
– Во имя Господа, – во всеуслышание возгласил он, – всемогущего Отца, и во имя Сына, и во имя Духа Святого, и во имя всех святых, и во имя нашего Его Святейшества Климента, и во имя власти, дарованной нам, дабы вязать и разрешать узы, как на земле, так и на небесах, я вызываю тебя, Томас. Я вызываю тебя!
У епископа был звучный голос. Его было далеко слышно. Единственным другим звуком, кроме ветра, был приглушенный говор горстки людей Томаса, переводивших речь прелата для не знающих французского языка лучников на английский. Томас надеялся, что епископ будет говорить по-латыни и один он сможет понять, о чем речь, но хитрый прелат предпочел, чтобы содержание его речи стало ведомо всем.
– Известно, что ты, Томас, – продолжил епископ, – некогда крещенный во имя Отца, Сына и Духа Святого, отпал от тела Христова, совершив грех предоставления убежища и крова осужденной еретичке и убийце. Имея в виду сие богопротивное деяние, мы, скорбя душою, лишаем тебя, Томас, и всех твоих соучастников и приспешников причастия тела и крови Господа нашего Иисуса Христа.
Он снова ударил посохом о землю, и один из священников позвенел в маленький ручной колокольчик.
– Мы отделяем тебя, – продолжил епископ, его голос отдавался эхом от высокой главной башни замка, – от сообщества верующих христиан и отлучаем от священных пределов церкви.
И вновь посох ударил о камни мостовой и прозвенел колокольчик.
– Мы отнимаем тебя от груди нашей святой матери церкви на небесах и на земле.
Звонкий тон колокольчика эхом отдался от камней главной башни.
– Мы объявляем тебя, Томас, отлученным и осуждаем тебя на предание геенне огненной с Сатаной и всеми ангелами его и нечестивыми присными его. За содеянное тобою зло мы предаем тебя проклятию и призываем всех любящих Господа нашего Иисуса Христа и верных Ему задержать тебя для предания надлежащей каре.
Он в последний раз глухо ударил посохом, бросил на Томаса грозный взгляд, а потом повернулся и пошел прочь в сопровождении сонма клириков и священной хоругви.
А Томас стоял в оцепенении. Его охватил мертвенный холод и ощущение пустоты. Как будто почва ушла из-под его ног и разверзлась бездна над пламенеющим жерлом ада. Ушло все, на чем зиждется земная жизнь; надежда на милосердие Божие, на спасение души – все было сметено, и сметено, как опавшие листья в сточную канаву. В один миг он превратился в настоящего изгоя, отлученного от Божьей благодати, милости и любви.
– Вы слышали епископа! – нарушил Робби воцарившееся на стене молчание. – Нам велено взять Томаса под стражу или разделить с ним проклятие.
Он положил руку на меч и обнажил бы его, не вмешайся сэр Гийом.
– Довольно! – крикнул нормандец. – Довольно! Я здесь второй по чину. Если Томас отстранен, командую я. Или кто-то хочет возразить?
Желающих не нашлось. Лучник и ратники отшатнулись от Томаса и Женевьевы, как от прокаженных, но никто не выступил в поддержку Робби. Изуродованное шрамом лицо сэра Гийома было мрачным как смерть.
– Часовые останутся на дежурстве, – приказал он, – остальные отправятся по своим койкам. Живо!
– Но мы обязаны… – начал было Робби, но непроизвольно попятился, когда сэр Гийом в ярости обернулся к нему.
Шотландец не был трусом, но в тот момент яростный вид сэра Гийома устрашил бы кого угодно.
Солдаты неохотно, но повиновались, и сэр Гийом задвинул в ножны свой полуобнаженный меч.
– Он, конечно, прав, – угрюмо буркнул рыцарь, глядя вслед спускающемуся по ступенькам Робби.
– Он был моим другом! – возразил Томас, пытаясь удержаться в этом вывернутом наизнанку мире хоть за что-то устойчивое.
– И он хочет Женевьеву, – сказал сэр Гийом, – а поскольку заполучить ее не может, то убедил себя в том, что его душа обречена. Почему, по-твоему, епископ не отлучил нас всех вместе? Да потому, что тогда мы все оказались бы в одинаковом положении и всем нам нечего было бы терять. А он нас разделил на чистых и нечистых, благословенных и проклятых, и Робби хочет спасти свою душу. Можно ли винить его за это?
– А как же ты? – спросила Женевьева.
– Моя душа сгорела много лет тому назад, – угрюмо ответил сэр Гийом, потом он повернулся и устремил взгляд на главную улицу. – Они собираются оставить снаружи, за городской стеной ратников, чтобы схватить вас, как только выйдете. Но вы можете выбраться через маленькие воротца за домом отца Медоуза. Там стражи не будет, и вы сможете перебраться через реку у мельницы. Ну а добравшись до леса, окажетесь в относительной безопасности.
Томас не сразу уразумел смысл сказанного, и лишь потом на него, как удар, обрушилось понимание того, что сэр Гийом велит ему покинуть замок. Бежать. Скрываться. Стать изгоем. Бросить отряд, о командовании которым он так мечтал, оставить свое новоприобретенное богатство, лишиться всего. Всего!
Он воззрился на сэра Гийома, тот только покачал головой.
– Тебе нельзя оставаться, Томас, – мягко сказал его старший боевой товарищ. – Иначе Робби или кто-нибудь из его приятелей тебя убьет. Среди остальных найдутся десятка два, кто станет на твою сторону, но если ты останешься, начнется бой, и они нас победят.
– А ты? Ты останешься здесь?
Сэр Гийом смутился, потом кивнул.
– Я знаю, зачем ты пришел сюда, – сказал он. – Я не верю, что эта проклятая штуковина существует, а если она существует, то не думаю, что у нас есть хоть малейшая надежда ее найти. Но мы можем заработать здесь деньги, а деньги мне нужны позарез. Так что я остаюсь. Но ты, Томас, уйдешь. Отправляйся на запад. Найди какой-нибудь английский гарнизон. Отправляйся домой.
Видя, что Томас еще сомневается, он спросил:
– Ну что, скажи мне, ради бога, тебе еще остается?
Томас промолчал, и сэр Гийом скользнул взглядом по ратникам, ждавшим за городскими воротами.
– Конечно, есть и другой выход. Ты можешь отдать им еретичку и передать ее на сожжение. Тогда клирики снимут с тебя отлучение.
– Этого я не сделаю! – гневно воскликнул Томас.
– Отведи ее солдатам, – сказал сэр Гийом, – и преклони колени перед епископом.
– Нет!
– Почему нет?
– Ты знаешь почему.
– Потому что ты любишь ее?
– Да, – ответил Томас и почувствовал, как Женевьева дотронулась до его руки.
Она понимала, что он страдает точно так же, как страдала она, когда церковь ее отринула, но она уже свыклась с этим ужасом, а Томас нет. И девушка понимала, что на это потребуется время.
– Мы не пропадем, – сказала она сэру Гийому.
– Но вы должны уйти, – настойчиво повторил нормандец.
– Знаю, – ответил Томас дрогнувшим голосом.
– Завтра я доставлю вам припасы, – пообещал сэр Гийом. – Лошадей, еду, плащи. Что еще вам нужно?
– Стрелы, – живо откликнулась Женевьева и обернулась к Томасу, как бы ожидая, что он добавит что-нибудь.
Но он все еще не пришел в себя от потрясения и плохо соображал.
– Тебе, наверное, нужны записки твоего отца, верно? – мягко подсказала она.
Томас кивнул.
– Заверни книгу в кожу, – попросил он сэра Гийома.
– Итак, завтра утром, – сказал рыцарь. – У дуплистого каштана, на холме.
Сэр Гийом проводил их из замка через улочку за домом священника к дверце в городской стене, за которой начиналась тропа, ведущая к водяной мельнице на реке. Рыцарь поднял засовы, с опаской приоткрыл воротца и, лишь убедившись, что снаружи никто не караулит, проводил беглецов вниз, к мельнице. А потом проследил за тем, как Томас и Женевьева пересекли каменную мельничную запруду и поднялись к кромке леса.
Добиться успеха Томасу не удалось. И он был проклят.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |