"Брюсов" - читать интересную книгу автора (Николай Ашукин, Рем Щербаков )
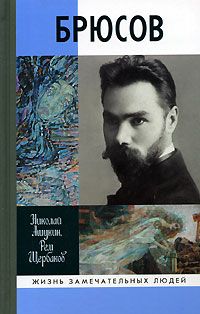 |
Николай Ашукин, Рем Щербаков БРЮСОВ
Евгения Иванова ПРЕДИСЛОВИЕ
Разнообразие творческих достижений Валерия Яковлевича Брюсова, писавшего стихи, прозу, одного из самых талантливых и влиятельных критиков начала XX века, переводчика, редактора лучшего символистского журнал «Весы», издателя, историка литературы и стиховеда, казалось бы, должно вызывать восхищение уже одним этим далеко не полным перечнем амплуа, в которых он выступал разной степенью успешности. Непостижимо, как могла все это вместить одна человеческая жизнь! Тем не менее именно восхищения на долю Брюсова приходится не так уж и много, особенно во всем, что касалось его стихотворного творчества, которое он считал главным делом своей жизни Даже самый пристрастный недоброжелатель Брюсова признает, что среди русских поэтов XX века он занимает далеко не последнее место, особенно если забыть про его поздние «Опыты» по метрике и ритмике и стихи на темы коммунистических лозунгов, каковые заполняли его последние сборники. Но даже самые совершенные его стихи начала и середины 1900-х годов далеко не у всех ценителей поэзии находили и находят отклик: между Брюсовым-поэтом и его читателями всегда сохраняется некоторая дистанция, даже наиболее совершенные брюсовские произведения воспринимаются с изрядной долей отчуждения. В этих стихах очень непросто отыскать путь к личности поэта. Его собственный голос почти неразличим в хоре его героев, каждый из которых рассказывает о себе, но не о своем создателе, а ведь традиционно поэзия всегда открывала кратчайший путь к его личности. Читая русских поэтов от Пушкина до Блока и Маяковского, мы неизменно получаем ощущение если не причастности, то приближения к тому, чем жил поэт, к его судьбе и внутреннему миру. У читателя Брюсова подобное чувство возникает редко, его читатель всегда вынужден задумываться, кто стоит за этими стихами — победительный Ассаргаддон, Тезей, покидающий Ариадну во имя долга, или Орфей, тщетно пытающийся удержать ускользающую тень Эвридики?
Чем мучился и страдал, как жил поэт, всерьез писавший в предисловии к своему первому сборнику стихов «Chefs d'oeuvre» («Шедевры», 1895): «…не современникам и даже не человечеству завещаю я книгу, а вечности и искусству». И это была не просто эпатажная выходка. Позднее в его стихах настойчиво повторялась мысль, что он хочет подчинить свою жизнь зовам вечности:
Так писал о себе человек, не знавший равных по силе неверия «ни в сон, ни в чох, ни в смертный рай», абсолютно безрелигиозный, который тем не менее на этот властный зов шел всю свою жизнь, не давая ни себе, ни другим никаких поблажек, переступая через свои и чужие желания и судьбы, а иногда и жизни. Ходасевич в своих воспоминаниях привел слова Брюсова, сказанные в день своего тридцатилетия: «Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут» [1]. Выходит, что вечность олицетворял для него учебник по истории литературы, заменивший и Новый и Ветхий Завет этому завзятому атеисту!
Существует несколько расхожих характеристик Брюсова. Самая запоминающаяся из них, несомненно, принадлежала Владиславу Ходасевичу. Это был мемуарный очерк «Брюсов» в книге «Некрополь». Она была и самой несправедливой и пристрастной, но все, кто однажды прочитал ее, запомнили в Брюсова именно таким: властолюбивым литературным вождем, домашним тираном, озабоченным собственной славой.
Оспаривать эту характеристику тем труднее, что, в отличие от нас, Ходасевич опирался на многолетний опыт довольно близкого общения с Брюсовым, да и критик он был квалифицированный. Однако про многое, что написал о Брюсове Ходасевич, можно сказать: «Все правда, но не вся правда». За его характеристикой Брюсова стояли совсем непростые отношения, связывавшие их на протяжении многих лет.
Наиболее отталкивающей чертой в Брюсове Ходасевичу казалась его вождистская наклонность, несовместимая, по его представлениям, со званием поэта. Действительно, возглавляя литературные отделы ряда журналов, Брюсов обладал огромным влиянием, а Ходасевич не жалел сарказма, описывая его: «…Он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью». Однако и он не мог не признавать: «К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна» [2].
Еще один распространенный упрек в адрес Брюсова восходит к «Силуэтам русских писателей» Юлия Айхенвальда. Марина Цветаева сумела уложить этот упрек в краткую формулу: «герой труда». «Брюсов — далеко не тот раб лукавый, — писал Айхенвальд, — который зарыл в землю талант своего господина; напротив, от господина, от Господа, он никакого таланта не получил и сам вырыл его себе из земли заступом своей работы» [3]. Заключительные строки его статьи звучали и вовсе как приговор: «…если Брюсову с его поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно — величие преодоленной бездарности» [4]. Главный упрек в адрес Брюсова-поэта состоял здесь в том, что он всего-навсего труженик литературы, а не избранник небес, к которому запросто слетает муза.
Наконец, современники любили отмечать несоответствие между усвоенной Брюсовым маской европейца, просвещенного деятеля искусства, и его происхождением.
Бунин и во внешнем облике Брюсова подчеркивал «третьей гильдии купеческие черты»: «Я увидел молодого человека, с довольно толстой и тугой гостиннодворческой (и широкоскуло-азиатской) физиономией. Говорил этот гостиннодворец, однако, очень изысканно и высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным и не допускающим возражений» [5]. «Гостиннрдворческой» внешностью укорял Брюсова не только отпрыск старинного дворянского рода Бунин, но и Ходасевич, куда более демократического происхождения.
Однако своего происхождения Брюсов не стыдился. Во–первых, купцы в начале XX века были далеко не теми «тит-титычами», «дикими» и «кабанихами», они имели большие заслуги перед русским искусством. Достаточно вспомнить имена Щукина, Третьякова, Морозова, Рябушинского. Во-вторых, Брюсов многим обязан семье, из которой вышел: хотя родители Брюсова и не были высокообразованными, но благодаря им он получил прекрасное по тем временам образование сначала в классической гимназии, потом в университете. Семья обеспечила Брюсову и определенную финансовую независимость — после получения наследства деда ему была выделена часть капитала, благодаря которой поэту никогда не приходилось опускаться до литературной поденщины, этим объяснялось отсутствие к писательской психологии Брюсова черт литературного разночинства. Так что среда, из которой он вышел, дала ему большую жизненную устойчивость.
Таким же источником душевного комфорта стала для Брюсова и собственная его семья. «Маленькая, незаметная женщина», какой обычно описывали его жену Иоанну Матвеевну, при всех сокрушительных романах мужа оставалась самым близким человеком, хранительницей домашнего очага, секретарем и верной помощницей в делах. Язвительная Зинаида Гиппиус называла ее за это «вечной» женой – «так тихо она покоилась на уверенности, что уж как там ни будь, а уж это незыблемо: она и Брюсов вместе. Миры могут рушиться, но Брюсов останется в конце концов с ней» [6].
Властолюбивый литературный вождь с «самодержавными» замашками, рассудочный поэт, который трудолюбием заменил вдохновение, третьей гильдии купец, тщившийся выдать себя за европейца, — вот, по существу, все «отрицательные» черты Брюсова в воспоминаниях современников. Но все эти «разоблачения» нельзя воспринимать однозначно. Так, вождизм Брюсова при ближайшем рассмотрении оказывается не столько реализацией стремления властвовать, сколько крестом, добровольно принятым на себя.
Андрей Белый вспоминал, как в редакции «Весов» впервые ему «открылась остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; …Брюсов — трудился до пота. сносяся с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типографии и принимал в "Скорпионе", чтоб… Блок мог печататься. Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт».
Разумеется, было бы явным преувеличением видеть в этом проявление брюсовского альтруизма, роль эта отвечала природному стремлению руководить делом. «Брюсову хотелось создать "движение" и стать во главе его, — справедливо подчеркивал Ходасевич. – Поэтому создание “фаланги” и предводительство ею, тяжесть работы с противниками, организационная и тактическая работа – все это ложилось преимущественно на Брюсова» [7].
Только при полном непонимании писательской психологии Брюсова его руководящим мотивом может показаться властолюбие, двигала им тщательно таимая пламенная любовь к литературе и к поэзии. Ради них он готов был идти на жертвы. 10 июня 1906 года Брюсов писал Н. И. Петровской: «Ты знаешь меня и знаешь, что я много лицемерю: жизнь приучила меня притворяться. И в жизни, среди людей, я притворяюсь, что для меня не много значат стихи, поэзия, искусство. Я боюсь показаться смешным, высказываясь до конца. Но перед тобой я не боюсь показаться смешным, тебе я могу сказать, что и говорил уже: поэзия для меня —
Приносить подобные жертвы ему приходилось на протяжении всей жизни, и любая его победа давалась нелегкой ценой. Читатель настоящего жизнеописания обратит внимание на его запись в дневнике от 4 марта 1893 года, в которой гимназист Брюсов размышлял о своей литературной будущности: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я!» Через год появятся первый и второй выпуски его альманаха «Русские символисты», в 1895-м — третий. Брюсов сделает свой первый шаг на литературную арену, а символизм станет фактом литературной жизни. Позже он действительно станет одним из признанных вождей нового течения.
Но что пришлось пережить ему тогда в десятилетнем промежутке между записью 1893 года и началом 1900-х годов, когда, наконец, пришло признание? Прежде чем удивляться удачному выбору «путеводной звезды в тумане», задумаемся над тем, какой шквал журнальной и газетной брани ему пришлось вынести на своих плечах. Сам Брюсов в автобиографии так вспоминал о том, что последовало за выходом трех выпусков альманаха «Русские символисты»: «Я был всенародно предан «отлучению от литературы», и все журналы оказались для меня закрытыми на много, приблизительно на целый «люстр» (5 лет)».
Правда, задним числом он находил этот урок полезным, временное «отлучение» от литературы считал «весьма приятным для себя», поскольку «оно не только позволило, но заставило меня работать вполне свободно: я не должен был приноравливаться ко вкусам редакторов, ибо все равно ни один из них не принял бы меня в свое издание, а ко вкусам публики мне было приспосабливаться бесполезно, ибо она все равно была уверена, что все, подписанное моим именем, — вздор. Я, так сказать, насильственно был принужден руководиться только своим личным вкусом, а что может быть полезнее для начинающего поэта?». Но эта осознанная позже польза не умаляет тяжести испытаний, через которые прошел он после шумного дебюта.
Хотя Брюсов не любил, как он выражался, «выплакиваться», но все-таки кое-какие признания сохранились на страницах его дневников и писем. «Недавно "Семья", — писал он 13 октября 1895 года, — ухитрилась еще раз предать проклятию Валерия Брюсова — сначала в беллетристическом произведении, а потом в заметке о
Десятилетия имя Брюсова в глазах читающей публики было неотделимо от его однострочного стихотворения «О, закрой свои бледные ноги!», помещенного в третьем выпуск альманаха «Русские символисты», а само это стихотворение являющееся невинным подражанием античным одностишьям, с которыми он успел познакомиться на первом курсе университета, стало своего рода эмблемой декадентства.
Появление первых сочувственных нот в отзывах на сборник «Tertia Vigilia» («Третья стража», 1900) Брюсов встретил даже с некоторым удивлением: к доброжелательству он не привык. Но и по поводу этого сборника критики писали так: «До сих пор г. Брюсов подвизался в сочинительстве всяких бессмысленных виршей, в которых он видел служение декадентству. Теперь, кажется, в первый раз lt;…gt; он пробует писать «как все», чем только наглядным образом выставляет свое литературное убожество и искаженную декадентскими кривляниями здоровую мысль…»
Как видим, найденная «путеводная звезда» доставила начинающему поэту немало огорчений. И едва ли сумел бы он преодолеть предубеждение публики одиночными усилиями, издавая тоненькие сборники за свой счет, если бы перед новым искусством, сторонником которого он себя так шумно заявил, не открылись бы другие возможности, если бы оно не нашло себе мецената в лице богатого и просвещенного московского купца, математика по образованию — Сергея Александровича Полякова, которого к новому искусству сумели привлечь друзья Брюсова — литовский поэт-символист Ю. К. Балтрушайтис и К. Д. Бальмонт.
Появление Полякова стало якорем спасения для нового течения, на его деньги было создано первое символистское издательство «Скорпион», в работе которого Брюсов принял самое деятельное участие. «"Скорпион" сделался быстро центром, — вспоминал он, — который объединил всех, кого можно было считать деятелями "нового искусства", и, в частности, сблизил московскую группу (я, Бальмонт и вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой старших деятелей, петербургскими писателями, объединенными в свое время "Северным вестником" (Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Минский и др.)».
И вот только когда было создано первое символистское издательство, появилась реальная возможность претендовать на роль вождя. И опять следует признать: вождистские наклонности Брюсова оказались как нельзя кстати. Но роль лидера и тогда имела мало общего с лаврами и венками из роз. В работу «Скорпиона» Брюсов вложил прежде всего изрядную долю неукротимой энергии и предприимчивости.
Точно так же начавший издаваться Поляковым с 1904 года журнал «Весы» был во многих отношениях детищем Брюсова, не без оснований признававшегося: «…не было в журнале ни одной строки, которую я не просмотрел бы как редактор и не прочитал бы в корректуре. Мало того, громадное число статей, особенно начинающих сотрудников, было иною самым тщательным образом переработано, и были случаи, когда правильнее было бы поставить мое имя под статьей, подписанной кем-нибудь другим».
Вникая в суть претензий, которые высказывались современниками в адрес Брюсова, зачастую убеждаешься, что почти всегда они повторяли все то, что сказал о себе он сам. Взять хотя бы упрек Айхенвальда в том, что Брюсов – только труженик литературы. Разве они не повторяли то, что сказал о себе сам Брюсов, обращавшийся к своей музе с такими словами:
(«В ответ», 1902)
Айхенвальд только сформулировал «внешность» брюсовской позиции, но понять и осмыслить ее не сумел. Дело ведь заключалось вовсе не в том, что у Брюсова не было таланта от природы, таланта было у него ничуть не меньше, чем у многих из тех, кем восхищались его современники, а в том, что Брюсов всю свою жизнь пытался преодолеть зависимость от порывов вдохновения, и именно об этом написано стихотворение «В ответ».
В 1901 году Брюсов опубликовал в журнале «Русский архив» статью «Моцарт и Сальери». По внешней поверхности речь в ней шла об отношениях Пушкина и Баратынского, которые пытались свести к мифу о завистнике, способном отравить любимца богов. Точка зрения Брюсова на эту легенду имела несомненный автобиографический подтекст «Сущность характера Сальери вовсе не в зависти. Недаром Пушкин зачеркнул первоначальное заглавие lt;«Завистъ»gt; своей драмы. Моцарт и Сальери — типы двух разнородных художественных дарований: одному, кому все досталось в дар, все дается легко, шутя, наитием; другому — который достигает, может быть, не менее значительного, но с усилиями, трудом и сознательно. Один — «гуляка праздный», другой — «поверяет алгеброй гармонию». Если можно разделить художников на два таких типа, то, конечно, Пушкин относится к первому, Баратынский — ко второму. Вот решение вопроса, на котором наш спор должен покончиться» [10].
Илья Эренбург вспоминал признание Брюсова, что «он работает над своими стихами каждый день в определенные часы, правильно и регулярно. Он гордился этим, как победой над темной стихией души» [11]. Это новое отношение к своему ремеслу полемически заострялось Брюсовым, он стремился обуздать творческие порывы, подчинить их порядку и размеренности, и о себе говорил:
(«Люблю я линий верность…», 1898)
Если читатель со времен романтизма привык поклоняться в поэте любимцу небес, то Брюсов пытался разрушить этот стереотип, выдвигая в творческом процессе на первый план мучительный ежедневный труд. Его муза была уже даже не «кнутом иссеченная муза» Некрасова, в которой читатель угадывал жертву общественного произвола, муза Брюсова иссечена самим поэтом в воспитательных целях, дабы поэт не зависел от ее капризов и причуд.
Эта новаторская установка стала главным источником предубеждения против брюсовских стихов: сжиться с поэтом, подобно пахарю, бредущему с каплями пота на челе за плугом, критикам и читателям оказалось не под силу.
Если попытаться определить то, что составляло стержень всей его жизни, придавало своеобразие и новизну его деятельности на самых разных поприщах — издательском, критическом, поэтическом, историко-литературном, то это будет неустанное стремление подчинить каждый свой шаг и каждый свой творческий импульс зову вечности. «Немногие для вечности живут», — скажет позднее Мандельштам. Брюсов безраздельно принадлежал к числу этих немногих и не хотел этого скрывать. «Юность моя — юность гения, — записал он в дневнике в 1898 году. — Я жил и поступал так, что оправдать мое поведение могут только великие деяния. Они должны быть, или я буду смешон. Заложить фундамент для храма и построить заурядную гостиницу. Я должен идти вперед, я принял на себя это обязательство». И он пытался строить именно храм, завоевав и освоив одну область, спешил завоевывать другие, и так до бесконечности.
Но все это можно понять только при условии изучения Брюсова, опираясь на многое из того, что было скрыто и от современников и от тех, кто пытается составить представление о нем только на основании его стихов. В психологии Брюсова была одна особенность, отталкивавшая многих: почти абсолютная закрытость его личности, которую осознавал он сам и которой зачастую тяготился.
«Я живу истинной жизнью только наедине с собой, — признавался он в черновике одного из писем, – затворившись в своей комнате, читая, размышляя, создавая. Среди людей мне трудно быть искренним – я искренен только в стихах» [12]. Но в стихах он предстает перед читателем почти исключительно в образе сильной личности, героя возвышающегося над толпой. Исповедальных стихов, в которых он распахивал бы перед читателем душу, в лирике Брюсова почти нет. И в личных отношениях он не умел и не любил объяснять свои поступки, отчего казались подтвержденными самые худшие предположения относительно мотивов его поведения.
Оставаясь одним из самых закрытых людей, Брюсов, тем не менее, жаждал понимания. Создание собственного жизнеописания можно назвать навязчивой идеей Брюсова, которая одолевала его на протяжении всего жизненного пути. Поначалу он рассматривал свой дневник как материалы к будущему жизнеописанию, но в начале 1900-х годов он перестал его вести. Затем последовали опыты автобиографической прозы, но и здесь дальше описания предков он не продвинулся. Последний автобиографический замысел относится к 1919 году, к которому было написано следующее вступление:
Но и этому замыслу не суждено было осуществиться.
Между тем к созданию такого жизнеописания Брюсов стремился не случайно: в его психологии было много непривычного для расхожего представления о том, каким должен быть поэт. Новизну собственной личности Брюсов инстинктивно ощущал, хотя, возможно, не всегда мог объяснить. Эта новизна заключалась прежде всего в многосоставности его внутреннего мира, сочетавшегося с отсутствием всякого стремления примирять одну часть души с другой. «Я — это такое сосредоточие, где все противоречия гаснут», — скажет он по этому поводу. Брюсов не просто совмещал в себе непримиримые противоречия, но даже как бы не подозревал о необходимости их как-либо разрешать. В письмах периода Русско-японской войны он писал: «Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке, Великий Океан — наше озеро, и ради этого «долга» ничто все Японии, будь их десяток! Будущее принадлежит нам, и что перед этим не то что всемирным, а космическим будущим – все Хокусаи и Оутомары вместе взятые» [13]. И одновременно с этим, как он выражался, «географическим патриотизмом» в его душе жил гражданин мира, который в своих художественных вкусах и пристрастиях был убежденным космополитом, а основной целью своего детища, журнала «Весы», считал пропаганду именно мирового искусства, которое в его представлении не знало разделяющих границ.
Брюсова нельзя назвать плюралистом, поскольку плюрализм предполагает сосуществование, основанное на осознании разности, он просто не придавал никакого значения этой разности, каждое из этих убеждений существовало в своей, не пересекающейся с другими, плоскости. В брюсовском мировосприятии не было единого связующего центра, и он не видел в нем никакой необходимости. Может быть, поэтому Брюсов был абсолютно безрелигиозен. Правда, будучи секретарем учрежденного Мережковскими журнала «Новый путь», он заинтересовался их неохристианством. Но этот период был кратковременным. Брюсов сам признавался в одном из стихотворений:
(«З. Н. Гиппиус», 1901)
Он словно бы не видел здесь никакой необходимости выбирать — ведь и тот и другой были потенциальной темой стихов. Напротив, Брюсова влекло все, в чем ощущалась хотя бы видимость тайнодействия, чего-то нового, способного утолить кипевшую в нем жажду познания. Он без страха вступал «за пределы предельного». Вначале он заинтересовался спиритизмом, позднее оккультными науками, черной магией. Во всем этом он видел новые области для изучения. По исступленной вере в человеческие возможности Брюсов не имел равных среди поэтов начала XX века, здесь рядом с ним можно поставить разве что Горького.
(«Обязательства», 1898)
Так сказать о себе мог только он, совершенно не заботясь о выводах, которые сделают из этих строк читатели и критики.
Все эти брюсовские черты ставят его биографа необычайно трудной задачей: найти и указать другим путь к этой неординарной личности, не впадая при этом в морализаторство, избегая шаблонных оценок и готовых формул. Можно представить себе, насколько осложнялась эта задача в те времена, когда Н. С. Ашукин составлял первую брюсовскую биографию, которая вышла в издательстве «Федерация» в 1929 году! Она носила длинное название «Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики».
Отчасти жанр этой первой биографии был продиктован временем: писать от себя, своими словами становилось почти невозможно, надо было обязательно кого-то разбирать «с классовых позиций», опираясь на единственно правильный марксистский метод. Из всей огромной творческой жизни и деятельности Брюсова для большевиков значение имея единственный факт: вступление в 1919 году глубоко больного и полуразрушенного от наркотиков Брюсова в Коммунистическую партию. Все остальное — чему отданы были почти четверть века напряженной литературной деятельности – не только не имело цены, но требовало искупления. Тогда Ашукин нашел прекрасный способ рассказать о Брюсове, избегая оценок — он заставил говорить о поэте документы. Большой вкус, прекрасное знание эпохи символизма, владение материалами брюсовского архива помогли ему составить замечательную книгу, которая до сих пор остается непревзойденной биографией Брюсова.
Она давала представление не только об огромной литературной деятельности Брюсова, но и открывала путь к постижению особого склада его личности — волевой и созидательной, умеющей не только ставить перед собой цели, но и достигать их. Любопытно, что на эту книгу сочувственно откликнулся Владислав Ходасевич, тогда еще не успевший написать свой очерк о Брюсове. В рецензии на книгу Ашукина Ходасевич писал: «По форме это — монтаж, новый жанр, довольно прочно привившийся в советской литературе и имеющий свои достоинства. Составитель такой книги лишь подбирает материал, действуя клеем и ножницами и почти ничего не прибавляя от себя. lt;…gt; Судить его приходится лишь смотря по тому, хорошо ли подобран материал в смысле систематичности, полноты, достоверности объективности и т.д. Я, впрочем, не собираюсь подробно разбирать труд Ашукина. Мне кажется, составитель старался добросовестно выполнить то, что было в его возможностях. Книга любопытна; она не только ознакомит с Брюсовым рядового читателя, но даже и специалисту, многое лишь напомнив, сообщит кое-что вовсе новое. Если есть у нее недостатки, то их прежде всего следует объяснить давлениями, которые, судя, по всем признакам, были оказаны на Ашукина. Ему пришлось работать не в легких условиях» [14].
Так, избранный Ашукиным жанр получил одобрение Ходасевича, и надо сказать, что до сегодняшнего дня найденный тогда подход к биографии Брюсова следует назвать наилучшим — слишком нелегко в этой области удержаться как от восхвалений, так и от поношений. Но появлялись новые публикации, шло изучение архива Брюсова, который во времена, когда готовилась книга Ашукина, только начинал разбираться, и потому еще при жизни он задумал дополнить первое издание. Время помешало сделать ему это самому, и он завещал этот замысел P. Л. Щербакову.
Постигая сегодня Брюсова, мы на каждом шагу открываем что-то непривычное для себя. С человеком, которого мы открываем, не всегда можно согласиться, мы легко замечаем и не всегда хотим принять внутреннюю противоречивость его личности. Точно так же нелегко нам сегодня оценивать Брюсова сквозь призму его новаторских устремлений: читатели разнообразных поэтических школ, мы не всегда в состоянии уловить его первопроходческие заслуги, его вклад в развитие русского стиха. И грандиозные замыслы, одолевавшие поэта, вызывают скорее недоумение, чем восторг. Точно так же видим мы, что цели, которые ставил он себе, все, с чем связывал он свои надежды на бессмертие, мечтая войти в пантеон мировой славы, во многом не оправдалось.
Для нас он остается прежде всего автором замечательных стихов — строгих, благородно-торжественных, порой риторичных. Но значение Брюсова не исчерпывается стихами и прозой. Хочется приблизить к читателю и незаурядную личность их создателя, живого человека, которого мы находим за страницами всех тех автобиографических записей, воспоминаний современников и отзывов критики, из которых и составлена предлагаемая книга.
(support [a t] reallib.org)