"Близко-далеко" - читать интересную книгу автора (Майский Иван Михайлович)
Глава третья АРАБСКИЕ ПАТРИОТЫ В ДАМАСКЕ
Люсиль сидела, крепко прижавшись к Тане. Ее живые синие глазки беспокойно перебегали с предмета на предмет. Она была сильно взволнована: впервые в жизни ехала с чужими в дальнее путешествие по дальним незнакомым землям…
Автобус стремительно несся по широким просторам Сирийской пустыни. Он был длинен, высок, снаружи покрыт гофрированным серым металлом и походил на аэроплан без крыльев. Впереди, в закрытой кабине, сидели два шофера. Перед ними лежал компас, по которому они и вели машину; дороги не было. Автобус шел по ровному песчаному морю, которое ярко желтело под солнцем до самого горизонта. Однако почва была достаточно твердой, и тяжелые колеса не зарывались в песок, только вслед автобусу поднимались огромные тучи пыли. Принимая самые фантастические формы, они долго висели в неподвижном, раскаленном воздухе.
Сердце Люсиль то и дело сжималось от страха: куда мчится это стальное чудовище? Не разобьется ли оно о какую-нибудь каменную стену? Не сорвется ли в какую-нибудь бездонную пропасть?
Девочка чувствовала рядом с собой теплое плечо Тани, и это несколько успокаивало ее. Она стала осматриваться кругом. В автобусе было не жарко – не то, что на воздухе. А ведь как страшно пекло солнце, когда они выезжали из Багдада! Хорошо, что в автобусе есть машина для охлаждения воздуха…
Люсиль посмотрела на термометр, висевший на стене. Он показывал 68 градусов.[4] «Ну, это хорошо!» – подумала девочка. Потом ее заинтересовали сиденья. Они были подвижные. С помощью рычага сиденье несколько опускалось и спинка откидывалась назад. Тогда пассажир оказывался в полулежачем положении – можно было подремать.
Люсиль раза четыре опускала и поднимала свое сиденье, но, прищемив палец, прекратила эту игру и стала «исследовать» содержимое Таниной сумки с лекарствами. Когда надоело и это, она начала разглядывать пассажиров. Всего здесь было человек двадцать. Ближе к кабинке шоферов сидела группа английских военных. В заднем углу примостился толстый араб с широким, неподвижным лицом. С ним ехала невысокая, худая женщина, лицо ее было закрыто паранджой. Люсиль показалось, что этого араба она видела где-то в Багдаде – должно быть, в лавке… Среднюю часть автобуса занимали какие-то штатские господа. Они все время читали газеты. «Должно быть, из нефтяной компании», – подумала Люсиль.
В самом темном углу автобуса словно притаились две женщины, также под паранджой. Их сопровождал старик араб с длинной белой бородой и тюрбаном на голове. Слева от Люсиль дремала приятного вида дама с мальчиком лет пяти. Мальчик все время спрашивал:
– Мама, можно побегать? Но бегать было негде.
С этим мальчиком Люсиль быстро установила дружеские отношения.
Проходил час за часом. За окнами автобуса было все то же: высокое синее небо, ярко палящее солнце и бесконечная ровная гладь рыжевато-желтого песка. Ни холмика, ни оврага, ни деревца, ни речки, ни человека, ни животного. Пустыня. Мертвая, бескрайняя, жгуче-беспощадная пустыня.
От скуки пассажиры начали знакомиться друг с другом. В разных углах автобуса завязывались нехитрые дорожные беседы.
Худощавый майор, сидевший впереди Петрова, отложил в сторону книгу, которую он читал, и громко произнес, ни к кому, впрочем, не обращаясь:
– Уж очень однообразный пейзаж!
– Это напоминает море, – откликнулся Петров. – Только море живое, оно находится в постоянном движении, а пустыня мертва. Какой-то вечный покой!
– Ну, далеко не вечный, – возразил майор. – Я как-то попал в самум – не дай бог! Едва жив остался. Право, не знаю, что страшнее – буря на море или буря в пустыне.
Майор оказался уроженцем Уэлса и, как все его соплеменники, очень живым и разговорчивым человеком. Он много лет прослужил на Ближнем Востоке и охотно рассказывал о своеобразной природе этого края, о нравах местных племен, о своих походах и приключениях, о переменах, совершившихся здесь за время войны. Но о чем бы он ни говорил, в самом его тоне, в словах, даже в выражении лица нельзя было не заметить какого-то высокомерного, даже презрительного отношения к арабам.
В час дня молоденький стюард, почти мальчик, роздал пассажирам холодный ленч. В пять часов он же разнес чай с сандвичами и печеньем.
В середине дня автобус сделал остановку в небольшом оазисе. Пассажиры устремились на свежий воздух. Это оказалось ужасно! Все почувствовали себя так, точно их бросили в огненную печь. Начались ахи и охи, и кое-кто поспешил вернуться в прохладный автобус.
Степан с Таней решили все же осмотреть оазис: несколько арабских хижин, небольшая зеленая полянка с маленьким прудом посредине, свежий, холодный ключ, бьющий из-под земли, и вокруг него группа стройных высоких пальм с длинными остроконечными листьями.
улыбнувшись, продекламировал Петров. Таня тоже улыбнулась и понимающе кивнула головой.
Потом все вернулись на свои места, дверь герметически закрылась, и автобус вновь помчался вперед по линии, которую указывала стрелка компаса.
Когда стемнело, зажглись огни. Теперь со стороны могло показаться, что по бескрайним просторам пустыни, под черным небом, сверкающим яркими звездами, во мраке ночи несется какой-то сказочный дракон с десятками огненных глаз.
В Дамаск – столицу Сирии – приехали в десять часов утра. Степан быстро разыскал майора Квелча и вручил ему рекомендательное письмо от Макгрегора.
Квелч – высокий, плечистый, с энергичным и поразительно подвижным лицом человек – был адъютантом начальника местного гарнизона и пользовался значительным влиянием в английском военном аппарате.
Советских гостей он встретил очень любезно и сразу же устроил их в одной из лучших гостиниц города. Он обещал им автомобиль до Иерусалима, только, к сожалению, не завтра, а послезавтра, 12 ноября.
Петров был несколько огорчен еще одной задержкой, но вежливо смолчал.
Когда утром 11 ноября Квелч явился в отель проведать своих новых знакомых, его первый вопрос был:
– Скажите, где сейчас находится Московский Художественный театр?
Петров удивленно посмотрел на Квелча. Меньше всего он ожидал, что ему придется разговаривать о МХАТе в далеком Дамаске, да еще с английским офицером.
Однако, вспомнив советы Косовского, он спокойно ответил:
– Художественный театр эвакуирован в глубь страны. Он находится в полной безопасности.
– Не обращайте внимания на это… – Квелч кивнул на свою военную форму. – Война заставила меня надеть офицерский костюм. До войны я был актером и большим поклонником Московского Художественного театра. Станиславский – мой театральный бог. Лет десять назад я был в Москве и видел спектакль «Дядя Ваня». Гениально!
И, хотя майор говорил чуть-чуть по-актерски, с излишней экспрессией, Таня, сама любившая МХАТ, сразу почувствовала к новому знакомому симпатию. Между ней и Квелчем завязался длинный и горячий разговор о московских спектаклях, о театре…
Квелч горько жаловался на упадок театрального искусства в Англии.
– У нас нет постоянных трупп, как у вас, – говорил он. – У нас ведь как? Какой-нибудь антрепренер набирает труппу на сезон и стремится дать с ней побольше представлений, а кончится сезон – и труппе конец. Артисты рассыпаются и в новом сезоне играют уже в труппе какого-нибудь другого антрепренера. В общем, везде коммерция… Обидно! Ведь Англия – родина Шекспира…
– У нас Шекспир не сходит со сцены, – заметила Таня. – «Отелло», «Гамлет», «Много шуму из ничего», «Виндзорские проказницы» – наши любимые спектакли. Эти пьесы ставят не только в Москве, но и в провинции.
– Я знаю об этом, и это очень дорого нам, людям английского театра, – сказал Квелч. – Я бывал во многих странах, видел театры Парижа, Берлина, Нью-Йорка… Но скажу прямо: театральная столица мира – Москва! Я надеюсь, что после войны и у нас в Англии кое-что изменится в театральном мире. Во всяком случае, я буду бороться за великие идеи Станиславского.
Квелч помолчал немного и затем с мягкой, немного виноватой улыбкой прибавил:
– Я не коммунист, но русский театр заставил меня полюбить русский народ, многое понять в нем… Впрочем, что же я занимаю вас разговорами! Вы, вероятно, хотите посмотреть Дамаск? Охотно буду вашим проводником. Я живу здесь больше года, знаю и город, и его историю.
Квелч действительно хорошо знал Дамаск и мог рассказать о нем немало интересного.
– Происхождение Дамаска, – говорил Квелч, – теряется в легендарной древности. Никто точно не может сказать, когда он был основан, но, по-видимому, ему не меньше трех тысяч лет. Дамаск имеет очень пеструю историю, много раз переходил из рук в руки. В 1516 году он был завоеван турками и вплоть до 1918 года находился под их властью. Однако памятников прошлого в Дамаске осталось не так много.
Машина понеслась, и пестрая панорама города развернулась во всей своей красочности перед советскими путешественниками. Мелькали широкие мощеные улицы, красивые четырех– и пятиэтажные дома французского стиля, большие магазины, зеленые парки, фонтаны, мосты, телеграфные линии. Тане очень понравился бульвар «Маари», точно стрела пересекающий город и одним концом выходящий к оголенным склонам горы Джебел Касьюн, а Потапову понравилась живая и веселая Багдадская улица.
Петров расспрашивал Квелча о государственных и общественных зданиях – школах, арабской академии, парламенте, муниципалитете. Он попросил задержаться у Сирийского университета. Основанный в 1919 году, университет был расположен в большом здании с внутренним двором. Здесь было множество аудиторий, лабораторий, большая библиотека. Преподавание велось на арабском языке.
Да, Квелч был прав: Дамаск 1942 года являлся почти современным городом и мало походил на Багдад. Объяснялось это двумя причинами. Во-первых, сама история оказалась к Дамаску более милостивой, чем к Багдаду. Дамаск меньше предавался «огню и мечу» различными завоевателями прошлого. Во-вторых, в Сирии раньше и шире, чем в Ираке, развилось движение за независимость и национальное возрождение страны. Это помогало местному населению скорее усвоить то полезное, что давала европейская цивилизация.
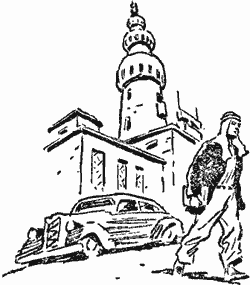 |
Однако памятники легендарного прошлого еще сохранились в этом старинном городе Востока. Знаменитую мечеть Омайядов мусульмане до сих пор считают одним из «чудес света».
Когда машина остановилась у ворот этого храма, откуда-то из-за стены выскочил молодой человек с развязными манерами и сразу же вошел в роль гида.
При входе в мечеть все сняли ботинки и едва успели надеть на ноги мягкие туфли, как молодой человек быстро, привычной скороговоркой, затараторил на хорошем английском языке:
– В римские времена на этом месте стоял храм Юпитера. В конце четвертого века нашей эры император Феодосий Первый превратил храм Юпитера в христианскую базилику и построил церковь в честь Иоанна Крестителя. В 635 году Дамаск был завоеван арабами. Сначала этот храм был поделен между верующими двух религий: западная часть принадлежала христианам, восточная – мусульманам. Однако в начале восьмого века калиф Велид из династии Омайядов отменил такой порядок и на этом месте создал мечеть.
– Это верно – то, что он говорит? – тихонько спросила Таня у Квелча.
– В общем, верно, – ответил Квелч, – но не совсем полно… Взгляните на ту стену.
– Да ведь это же христианские святые! – В изумлении воскликнула Таня.
Действительно, на темно-зеленом фоне стены отчетливо вырисовывались лица и фигуры, какие можно увидеть в православной церкви, – в длинных одеждах, с крестами на груди и золотыми венчиками вокруг голов. Сделаны они были прекрасно. Видимо, их творила рука настоящего мастера. Несмотря на разрушительное действие веков, роспись была цела и краски сохранили свою свежесть.
– Арабы средневековья, – объяснил Квелч, – были по-своему людьми с широким кругозором. Они завоевывали страны, но не уничтожали местные культуры, а включали некоторые их элементы в свою культуру. Так получилось, что вот эта случайно уцелевшая стена византийского храма стала стеной арабской мечети. Но не только это…
Квелч увлек всю группу внутрь мечети. Это было исполинское здание с высокими сводами, многочисленными приделами, притворами, переходами, колоннами, минаретами. Квелч говорил, что мечеть вмещает десять тысяч человек и что она – самая большая мечеть во всем мусульманском мире.
Наконец наши путешественники оказались перед сооружением, похожим на часовню, но расположенным внутри мечети. Тут было много молящихся. Все они благоговейно распростерлись перед часовней и, протягивая к ней руки, что-то шептали. Степана особенно поразил один древний старик с длинной седой бородой. Закрыв глаза, он медленно покачивался всем телом, и на бронзовом лице его застыло такое блаженство, будто он и впрямь оказался на небе и любовался гуриями рая.
– Вы знаете, что это такое? – спросил Квелч и, не дожидаясь ответа, пояснил: – Это могила Иоанна Крестителя!
– То есть как? – воскликнул Степан. – Ведь Иоанн Креститель – христианский святой! Как могут поклоняться ему мусульмане?
– А вот подите же! – возразил Квелч. – Здешние мусульмане заявляют, что Иоанн Креститель – мусульманский святой. Они утверждают, что в этой часовне погребена его голова, а тело – в другом месте, у христиан.
Но голова, по мнению мулл, – это главное! И потому муллы считают, что могила Иоанна Крестителя находится у мусульман. Видите, каким поклонением у правоверных она пользуется? Это еще раз говорит о том, что арабы средневековья не были узколобыми сектантами.
Из мечети Квелч повел своих гостей в расположенную тут же, поблизости, торговую часть Дамаска.
– Ну, а теперь, – весело сказал он, – вам следует купить какие-либо сувениры на память о Дамаске! – И, многозначительно взглянув на Петрова и Потапова, уверенно добавил: – Вы люди военные и, конечно, захотите захватить с собой по хорошему кинжалу из знаменитой дамасской стали.
И Квелч уверенно двинулся в темный, узкий переулок. На пороге одного из маленьких, подслеповатых домов они увидели пожилого сирийца почтенного вида.
– Хозяин этой лавочки клялся мне аллахом, – говорил Квелч, – будто его «фирма» существует уже пятьсот лет и будто бы он представляет двадцатое поколение оружейных мастеров. Не уверен, что это так, но кинжалы у него замечательные.
В лавочке было темно, грязно, пахло мышами. Но Квелч оказался прав: сталь кинжалов была превосходна.
Когда все вновь вышли на улицу, Таня запротестовала:
– Мужчины купили сувениры – ну, а мы, женщины?..
– Найдутся сувениры и для дам, – успокоил ее Квелч. – Дамаск славен не только мастерами стали, но и мастерами несравненных парчовых изделий.
– Хочу дамасской парчи! – задорно воскликнула Таня.
Четверть часа спустя она выходила из магазина, держа сверток с куском чудной парчи синего цвета. Люсили купили халатик – светло-голубой, так как она уверяла, что это «ее цвет».
– Я интересуюсь арабским миром, – сказал Квелч, когда, оставив Таню, Люсиль и Потапова в гостинице, они со Степаном вновь оказались в машине. – Может быть, это потому, что после целого года пребывания в Дамаске я пришел к выводу, что мы сидим здесь на вулкане. Я не знаю, когда этот вулкан начнет действовать, может быть, еще не так скоро, но вулкан пробуждается. В этом не может быть никакого сомнения. И я ни за что не поручусь, когда окончится война… Впрочем, лично меня это мало касается: как только я сброшу военный мундир, уеду в Англию и вернусь опять на сцену. Будет, пожалуй, жаль оставить Сирию, я привык к арабам и сочувствую им. А вот кого не выношу – так это местных французов и англичан! Сколько от них арабы натерпелись!..
Дорога вилась между красивыми холмами, заросшими дубами и лаврами. Мелькали селения, речки, мосты, оливковые рощи, виноградники. Изредка попадались финиковые пальмы и олеандровые заросли. Наконец машина остановилась около большого сада, заросшего абрикосовыми деревьями и яблонями.
Выходя из автомобиля, Квелч сказал:
– Вы сейчас познакомитесь с моим другом – Селимом Хабибом. Это старый профессор, знаток арабских древностей и очень уважаемый среди арабов человек.
По широкой аллее, обсаженной ореховыми деревьями и тополями, Квелч и Петров прошли в глубь сада, где виднелась скромная постройка в арабском стиле. Розы обвивали стены и окна, розы поднимали свои головки с клумб, и весь воздух был насыщен ароматом роз – тонким и волнующим. Перед входом в дом мелодично звенели струи фонтана. Казалось, у дверей этого тихого и прекрасного жилища должны смолкать все страсти и волнения, уступая место тишине и глубоким размышлениям…
Гостей встретил высокий и стройный старик с большой белой бородой, которая начиналась от висков и красиво обрамляла загорело-румяное лицо. Густые белые усы прикрывали твердую линию губ. Черные проницательные глаза смотрели спокойно и прямо. Старик носил темный костюм европейского покроя и высокую красную феску на голове.
Квелча и Петрова он приветствовал низким поклоном: сначала прижал правую руку ко лбу, потом к груди, а затем, несколько отступя в сторону, пропустил гостей в дом.
– Я привез к вам моего русского друга, – представил Петрова Квелч. – Он только что прилетел из Москвы.
Селим Хабиб внимательно посмотрел на гостя, но на спокойном лице его не шевельнулся ни один мускул.
– Друзья наших друзей – наши друзья, – несколько официально произнес он по-арабски.
Откуда-то неожиданно возник бойкий черноглазый юноша и перевел слова Селима на английский.
– Это внук Селима – Антун, студент, – шепнул Квелч на ухо Петрову. – Селим Хабиб знает английский, но избегает говорить на этом языке.
Хозяин дома поклонился Петрову и еще раз произнес арабское приветствие:
– Наш дом – ваш дом.
На стене висел портрет пожилого человека с черной бородой, в национальном костюме. Умное лицо его выражало задумчивую грусть.
Петров пристально посмотрел на портрет. Заметив это, Селим Хабиб сказал:
– Это мой друг, наш знаменитый писатель и философ Амин Рейхани… Вот уже два года, как аллах призвал его к себе…
И старик замолчал, как бы желая сосредоточиться на мыслях об ушедшем друге.
Потом он перевел свой взгляд на Петрова.
– Я рад приветствовать в этой бедной хижине современного москоби, – сказал он. – Тридцать лет назад я встречался с москоби, которого очень полюбил. Мы его звали Гантус ар Руси. Он жил среди нас, изучал наш язык и литературу. Потом он стал большим ученым и много сделал для того, чтобы люди вашей страны узнали о людях нашей страны… Вы не знакомы с Гантус ар Руси?
Внук Селима поспешил пояснить, что под именем «Гантус ар Руси», то есть «Игнат из России», среди арабов известен русский ученый Игнатий Крачковский,[5] который в начале столетия путешествовал по арабским странам.
– Нет, к сожалению, я не встречался с ним, – ответил Петров. – У нас слишком разные занятия: я ведь моряк.
При слове «моряк» Селим Хабиб с уважением посмотрел на Петрова и, перейдя на английский язык, заметил:
– Европейцы очень чтят известного португальского мореплавателя Васко да Гама, открывшего в пятнадцатом веке путь из Европы в Индию вокруг Африки. Но ведь лоцман, который привел его в Индию, был арабский моряк Ахмед ибн Маджид!
– Вот как? – удивился Петров. – Я этого не знал. Селим Хабиб оживился – казалось, он напал на любимую тему.
– У нас был Гарун-аль-Рашид, – продолжал он. – У нас были великие математики, и вы, европейцы, до сих пор пользуетесь нашей цифрописью. У нас были великие врачи и великие архитекторы. Великие философы и великие путешественники… Все это было и прошло.
Послышался шум в прихожей, раздались чьи-то осторожные шаги. Внук почтенного хозяина исчез и спустя несколько минут явился в сопровождении трех сирийцев. Один из них, лет тридцати, был в красной феске и сильно поношенном костюме. Темным, обожженным солнцем лицом он походил на крестьянина; движения его были свободными, полными чувства собственного достоинства и независимости. На другом госте отлично сидел щеголеватый костюм европейского типа. Из бокового кармашка пиджака кокетливо торчал уголок цветного платка и высовывалась американская авторучка. Горбатый нос, быстрые черные глаза и курчавые волосы цвета воронова крыла делали этого гостя очень заметным. Последним вошел в комнату застенчивый юноша в белой с короткими рукавами рубашке, в серых спортивных брюках и легком пиджаке, накинутом на плечи. Он скромно забился в уголок и старался быть совсем незаметным.
Все трое истово приложили правую руку сначала ко лбу, потом к груди и с глубоким почтением поклонились хозяину. Видно было, что они относятся к старику почти с благоговением. Селим Хабиб встретил их ласковым приветствием и сразу же представил Квелчу и Петрову.
После того как вновь пришедшие стали о чем-то рассказывать хозяину, Квелч вполголоса сообщил Петрову:
– Одного из них, нарядного, я знаю. Это видный дамасский журналист Ахмет Эбейд. А двух других встречаю впервые.
Вмешался Антун:
– Гость в феске – учитель Факых из близлежащего селения, а юноша в спортивном костюме – студент Юсуф Саади. Они пришли поклониться учителю и спросить его совета в важном деле.
– Мы лучше удалимся, чтобы никого не стеснять, – сказал Квелч и поднялся с места.
Петров последовал его примеру. Селим Хабиб привстал и сдержанно поклонился уходящим.
– Ну, а теперь они дадут волю своим чувствам, – усмехнулся Квелч, когда машина понеслась в город. – Любят арабы поговорить! Со страстью! С яркими образами и выражениями!
Квелч был прав. Когда иностранные гости покинули дом, Селим Хабиб спросил, обращаясь к арабским гостям:
– Что привело вас ко мне?
Начал учитель в феске. Он говорил горячо, долго, сопровождая речь резкими, порывистыми жестами. Лицо его покраснело, возмущенный голос дрожал. Оказывается, соседний помещик Саид-паша прогнал со своей земли нескольких крестьян, хотя они аккуратно платили аренду. И отцы, и дети, и прадеды этих крестьян поливали потом землю, которую у них отняли. Вся деревня глубоко возмущена. Что делать?..
Профессор молча слушал Факыха, и по его бесстрастному лицу нельзя было понять, какие чувства вызывают в нем слова собеседника.
Почтительно выждав минуту, в разговор вступил журналист Эбейд. В его речи проскальзывали общепонятные международные слова «парламент», «империализм»… Вынув из кармана арабскую газету, он яростно похлопал рукой по какой-то статье.
 |
Эбейд говорил, что иностранные власти преследуют газету, в которой он работает, и распоряжаются в Дамаске как дома. Это арабам не нравится. Многие арабы говорят: «Зачем они сюда пришли? Мы хотим быть свободными. Пусть англичане, французы, немцы оставят нас в покое!..»
Селим продолжал хранить молчание. Глаза его полузакрылись, и, глядя на него, трудно было понять, слушает он журналиста или думает о чем-то своем.
Эбейд умолк.
Старик не пошевелился. Казалось, он еще глубже ушел в свои размышления.
Наступила очередь студента.
Сильно волнуясь и краснея, он заговорил тонким, срывающимся голосом. Вчера ночью на стенах и мостовых Дамаска появились крупные надписи: «Долой английских и французских империалистов!» Полиция всполошилась и арестовала трех студентов. В университете состоялся большой митинг протеста. Все кипит. Возможна забастовка студентов.
Старик продолжал молчать. В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как за окном журчит фонтан.
Наконец Селим Хабиб поднял голову и начал:
– Много-много лет назад жил в Тавризе великий ученый Ат-Тибризия. Он составил большой словарь арабского языка. В то же самое время в Сирии, около Алеппо, жил знаменитый слепец – поэт и философ Абу-аль-Аля… Ат-Тибризия хотел, чтоб Абу-аль-Аля ознакомился с этим словарем и отправился из Тавриза в Сирию. Свой словарь Ат-Тибризия взвалил на спину. Словарь был громаден и тяжел. Слабое тело Ат-Тибризии гнулось и ныло под таким грузом. Спина его обильно покрывалась потом. Однако велика была любовь Ат-Табризии к науке, и он доставил словарь к Абу-аль-Алю, хотя книга к тому времени выглядела так, будто ее вытащили из воды…
Селим умолк. Арабские гости смотрели старику в рот, боясь проронить слово и не зная, к чему он ведет. Наконец Селим Хабиб сказал:
– Дети мои, вы должны любить свободу так, как Ат-Тибризия любил науку.
Студент поднялся и, низко поклонившись Селиму, спросил:
– Могу я, учитель, процитировать слова твоего великого друга Амина Рейхани?
Старик утвердительно склонил голову. Юноша вытянулся во весь рост и, горделиво подняв голову, начал:
Это – революция, и день ее хмур и ужасен. Флаги, как анемоны, волнуются, поднимают далекого, Призывают светом близкого. А барабаны вторят эху дивной песни, А трубы взывают ко всем, имеющим души, дающим ответ. А искры из глаз народа разносят пожар. И пламя вопрошает: «Нет ли пищи еще?» А меч шлет ответ, и ужас набрасывает седину. Горе в тот день тиранам! Горе им от всех возмутившихся, угнетенных, ищущих права, упорных рабов! Горе превознесшимся в мире! Это последний час для тиранов! То революция, и сыны ее босоноги. Юноши ее стали непокорными мужами. Мужи ее могучи и горды, Женщины превратились в тигриц. Ораторы ее и проповедники красноречивы, Вожди и героини мятежны. Горе в тот день тиранам!
Студент читал очень хорошо – с большим чувством, не раз протягивая руку к висевшему на стене портрету поэта.
Селим сидел молча, и опять трудно было понять по его лицу, как относится он к вдохновенным словам Рейхани.
Когда студент кончил, журналист спросил:
– Что же ты скажешь нам, учитель?
Селим медленно погладил бороду, прищурился и ответил:
– Время работает на нас, друзья мои. Время делает свое дело… Только не следует арабам ссориться между собою. Перед лицом общего врага все арабы должны держаться вместе. Аллах видит правду и покарает неверных! А вы не сидите сложа руки и открывайте глаза правоверным, учите их…
– Но что же ты скажешь мне, мудрый? Как быть с бессовестным Саид-пашой, что делать его арендаторам? – с отчаянием воскликнул учитель Факых.
– Я поговорю с неразумным Саид-пашой, – проговорил старик. – А крестьянам деревни повтори мои слова: сейчас, перед лицом общего врага, арабам не надо ссориться.
Однако по хмурому лицу сельского учителя было заметно, что слова эти вряд ли приняло его сердце…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |