"Добрый мэр" - читать интересную книгу автора (Николл Эндрю)
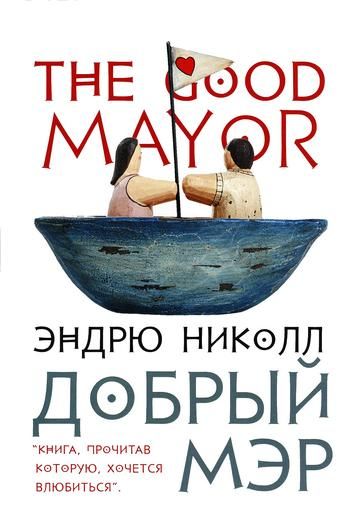 |
Эндрю Николл Добрый мэр
~~~
В году таком-то, в бытность А. К. губернатором провинции Р., добрый мэр Тибо Крович пребывал на своем посту уже почти двадцать лет.
В наше время город Дот не может похвастаться большим количеством посещающих его чужестранцев. Мало у кого возникает надобность забираться так далеко на север Балтийского моря — и уж тем более заплывать в мелкие воды близ устья реки Амперсанд. Эти края изобилуют мелкими островками, причем некоторые из них появляются только при отливе, другие же время от времени сливаются с соседними клочками суши — с той же непредсказуемостью, с какой в итальянском парламенте создаются партийные коалиции. Географы четырех стран во время оно бились-бились, да так и не смогли составить точную карту этих мест. Екатерина Великая послала в Дот целую команду картографов; те реквизировали дом начальника гавани и прожили в нем семь лет, вычерчивая карту за картой и уничтожая затем свои творения. В конце концов они удалились в крайнем гневе и раздражении.
«C'est n'est pas une mer, c'est un potage!»[1] — заявил на прощание Главный Картограф; впрочем, никто из жителей Дота его не понял, ибо в отличие от представителей русской аристократии местные жители не были обучены выражать свои мысли по-французски. По-русски они тоже не изъяснялись. Дело в том, что, несмотря на притязания императрицы Екатерины, жители Дота не считали себя русскими. По крайней мере, так было в те времена. В те времена на вопрос «Кто вы?», — если бы кому-нибудь пришло в голову такой вопрос задать, — горожане сказались бы финнами или шведами. В какие-нибудь другие времена они, возможно, согласились бы считать себя датчанами или даже немцами, а некоторые даже назвали бы себя поляками или латышами. Но вообще-то в первую очередь они были гражданами Дота, и тем гордились.
Итак, граф Громыко отряхнул прах места сего с ног своих и направился в Санкт-Петербург, где, как он имел основания полагать, его ожидало назначение на пост главного конюшего Ее Императорского Величества. Однако в ту же самую ночь его корабль натолкнулся на не означенный на карте остров, имевший бестактность явиться из вод морских, и камнем пошел ко дну, унося с собой в пучину все плоды семилетних трудов.
Адмиралы Ее Величества, таким образом, вынуждены были пользоваться картами с белым пятном. Будучи людьми цивилизованными, они не могли написать на этом пятне «Здесь водятся драконы», а написали вот что: «Мелкие воды и скверные земли, навигация опасна» — и больше к этому вопросу не возвращались. И в последующие годы, когда вокруг Дота смещались туда-сюда, подобно непостоянным берегам реки Амперсанд, границы самых разнообразных государств, правители оных предпочитали обходить эти земли и воды молчанием.
Однако сами жители Дота не нуждались в картах, чтобы плавать меж островов, защищающих их маленькую гавань. Они, можно сказать, нюхом чуяли верный путь в лабиринтах архипелага; ориентирами им служили цвет морской воды, очертания волн, ритм течений, расположение и вид какого-нибудь водоворотика или буруна в момент столкновения прилива и отлива. Семь столетий тому назад граждане Дота смело пускались в путь, везя в города Ганзейской лиги шкуры и вяленую рыбу; столь же уверенно возвращались они в свою гавань вчера, нагруженные сигаретами и водкой, о происхождении которых никому другому знать совершенно незачем.
С той же уверенностью Тибо Крович отправлялся на работу в Ратушу. Взяв газету, дожидавшуюся его у входной двери, он проходил по вымощенной синей плиткой дорожке, что вела через ухоженный маленький сад к еле живой от старости калитке. У калитки росла береза, к ветке которой привязан был медный колокольчик с цепочкой, оканчивающейся треснувшей, зеленой ото мха деревянной ручкой.
Выйдя на улицу, Тибо сворачивал налево, покупал в киоске на углу пакетик мятных леденцов, переходил дорогу и останавливался на трамвайной остановке. Ожидая трамвай в солнечные дни, мэр Крович читал газету. Если же шел дождь, он раскрывал зонт и прятал газету под плащом. В дождливые дни он газету не читал; да и в солнечные, по правде сказать, ему не всегда это удавалось: частенько, пока он стоял на остановке, кто-нибудь мог подойти к нему и начать разговор: «А, мэр Крович! Я как раз думал, не спросить ли вас об одном деле…» И добрый Тибо Крович покорно сворачивал газету, выслушивал обращающегося и давал ему какой-нибудь совет. Хороший он был мэр, этот Тибо Крович.
До Ратушной площади от дома мэра ровно девять остановок, но он обычно выходил на седьмой и дальше шел пешком. На полпути заглядывал в кофейню «Золотой ангел», заказывал крепкий кофе по-венски, выпивал его, посасывая мятный леденец — всегда только один, — и уходил, оставляя пакетик с остальными леденцами на столе. Затем ему оставалось только спуститься по Замковой улице, пересечь Белый мост, пройти через площадь — и вот она, Ратуша.
Тибо Кровичу очень нравилось быть мэром. Ему нравилось, когда молодые влюбленные приходили к нему регистрировать брак. Нравилось посещать школы и просить детей помочь с рисунками для муниципальных поздравительных открыток на Рождество. Он любил своих сограждан, и ему нравилось улаживать их маленькие неурядицы и забавные разногласия. Ему доставляло большое удовольствие встречать приезжающих в город известных людей.
Он обожал церемонию входа в зал городского совета, когда перед ним шествовал мажордом, держащий в руках массивный серебряный жезл с изображением святой Вальпурнии — бородатой девы-мученицы, на чьи мольбы к небесам даровать ей уродство, дабы укрепить добродетель, был дан в высшей степени положительный ответ. Господь дважды осчастливил святую — сначала чудовищно пышной бородой, а затем и легионом бородавок, покрывших все ее тело. Бородавки эти она демонстрировала гражданам Дота едва ли не каждый божий день в неустанных попытках отвратить их от греха. Когда городу угрожали неистовые гунны, святая Вальпурния добровольно сдалась им с условием, что они пощадят других женщин города. В монастырских хрониках записано, что она устремилась к лагерю гуннов, вопия: «Возьмите меня, меня возьмите!» — а для этих звероподобных кочевников, привыкших удовлетворять свою похоть с домашней скотиной, позабавиться с бедной праведницей было одно удовольствие. Легенда гласит, что когда несколько часов спустя она испустила дух с именем Иисуса на устах, на всем ее бородавчатом теле не было ни одной раны. Господь в очередной раз проявил свое беспримерное благоволение к Вальпурнии, даровав ей смерть от сердечного приступа. Когда тело святой было найдено горожанами, они увидели блаженную улыбку, застывшую на ее губах под бархатистыми усами, — знак, что дух ее уже бродит по райским кущам. Так, по крайней мере, гласит легенда.
В году таком-то, когда А. К. был губернатором провинции Р., добрый мэр Тибо Крович пребывал на своем посту почти уже двадцать лет — а я наблюдала за происходящим в городе на двенадцать столетий дольше.
Я и сейчас здесь, на самой верхушке самого высокого шпиля названного в мою честь собора — но не только здесь. Необъяснимым для себя самой образом я в то же самое время стою далеко внизу, на выступе резной колонны, поддерживающей кафедру. А еще я изображена на гербе над входом в Ратушу, нарисована на боку каждого городского трамвая, написана маслом на картине, что висит в кабинете мэра, напечатана на обложке каждой тетрадки, лежащей на парте в каждом классе каждой школы города Дота. Я красуюсь на носу маленького грязного парома, который время от времени приходит из Дэша — на нелепой моей бороде поблескивает корка соли, а вокруг торса обмотан витой пеньковый канат, смягчающий столкновение с пристанью.
Дамы Дота носят цветные календарики с моим изображением в своих сумочках, и я щурюсь от света каждый раз, когда они достают деньги в каком-нибудь магазине, а потом клюю носом в темноте под позвякивание медных монет, среди памятных локонов и детских зубиков. Меня вешают в спальнях — над кроватями, ходуном ходящими от безумной страсти, и над постелями, объятыми холодным безразличием, над колыбелями невинных младенцев и над ложами умирающих. И еще я лежу здесь, в самом сердце собора: скелет, завернутый в древние рассыпающиеся шелка. Надо мной — золотой шатер, усыпанный бриллиантами, украшенный блестящей эмалью и витиеватым орнаментом. Короли и принцы, проливая слезы раскаяния, падали здесь на колени; возносили молитвы к небесам их бесплодные жены. Заходили, и до сих пор заходят, навестить меня и простые жители Дота. Я не могу объяснить, как такое возможно. Я сама не понимаю, как у меня получается быть во всех этих местах одновременно.
Мне кажется, что, когда я захочу, я могу оказаться всецело и полностью в каком-нибудь одном месте. Все существо Вальпурнии может находиться здесь, на шпиле собора, и взирать сверху на город и на бескрайнее море, или здесь, в золотой раке, или здесь, на обложке именно этой школьной тетрадки. Но в то же время кажется мне, что при желании я могу быть во всех этих местах одновременно, при этом оставаясь единым целым, — и наблюдать. Да, я наблюдаю. Я наблюдаю за продавцами в магазинах, за полицейскими, за бродягами, наблюдаю за счастливыми людьми и за людьми несчастными, за кошками, за птичками, за собаками и за добрым мэром Кровичем.
Я наблюдала за тем, как он поднялся по лестнице из зеленого мрамора в свой кабинет. Мэру нравилась эта лестница, и кабинет тоже нравился: темные деревянные панели на стенах, широкие окна с видом на площадь с фонтанами и на Замковую улицу, в конце которой виднелась белая громада моего собора, увенчанная медно-красной луковицей купола; каждый год туда, в собор, за благословением шествовал весь городской совет во главе с мэром. Тибо Кровичу нравилось сидеть в удобном кожаном кресле. Нравилось посматривать на висящий на стене городской герб с изображением улыбающейся бородатой монахини. Но больше всего ему нравилась его секретарша, госпожа Стопак.
Агата Стопак обладала всем тем, чего недоставало святой Вальпурнии. Да, у нее были длинные, темные, блестящие волосы — но росли они отнюдь не на подбородке. А ее кожа! Сияюще-белая, бархатистая, напрочь лишенная бородавок. Как подобает добропорядочной горожанке Дота, она заглядывала в собор, чтобы отдать мне дань уважения, но была явно не из тех, кто доходит в религиозном рвении до крайностей. Летом она всегда садилась у окна, и ветерок, долетавший с улицы, играл ее платьем из тонкого цветочного ситца, облегавшим каждый изгиб фигуры.
Зимой госпожа Стопак приходила в Ратушу в галошах, присаживалась за свой стол, снимала их и надевала сандалии на каблуке и с открытым мыском. Заслышав из своего кабинета ее шаги, влюбленный бедняга мэр падал на ковер и заглядывал в щель под дверью, пытаясь увидеть ее пухлые пальчики.
Потом бедный влюбленный Тибо вздыхал, поднимался на ноги, отряхивал ворсинки, приставшие к костюму, садился за стол и, обхватив голову руками, прислушивался к тому, как стучат по кафельному полу каблучки Агаты Стопак, как она открывает и закрывает картотечный шкафчик, варит кофе или просто тихо сидит там, по другую сторону двери, благоухающая и прекрасная.
В течение дня, как любой другой человек, госпожа Стопак время от времени отлучалась от своего рабочего места, повинуясь велению организма; а отлучившись, всякий раз возвращалась со вновь доведенным до совершенства макияжем, благоухая лаймом, лимоном, бугенвиллеей, ванилью и такими экзотическими ароматами, названий который добрый Тибо не знал. Он пытался представить себе страны, откуда они пришли, — овеянные запахом пряностей тихоокеанские острова, где в воздухе плывет тихий перезвон храмовых колокольчиков, а смирные волны набегают на берег и вздыхают, уходя в розовый коралловый песок. Он представлял себе и те места, где эти ароматы жили сейчас, — мягкие пухлые холмики под коленями госпожи Стопак, ее голубоватые запястья и ложбинку на груди. «Господи, — бормотал мэр Крович про себя, — зачем, собирая мои атомы из космической пыли, ты сделал меня мужчиной, хотя вполне мог бы превратить меня в маленькую капельку духов, чтобы я жил и умер ТАМ?»
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |