"Рублев" - читать интересную книгу автора (Сергеев Валерий Николаевич)
«Время молчать и время говорить»
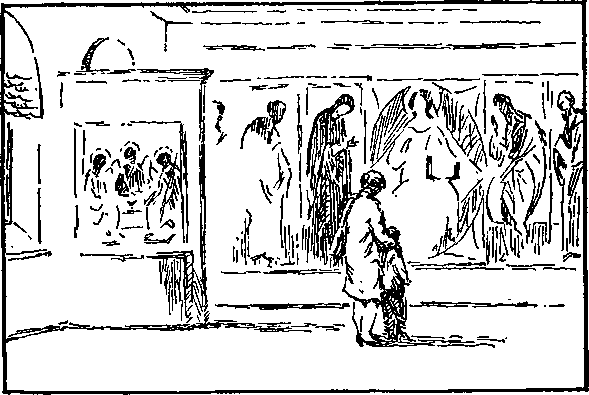 |
Более половины тысячелетия миновало с тех пор, когда в городах и монастырях тогдашней Северо-Восточной Руси жил и работал монах-иконописец Андрей Рублев, прославленный теперь по всему миру как один из величайших художников России.
Срок в пять столетий трудно вместим в человеческое сознание. За это время родились, прожили и сошли в могилу многие поколения людей. Менялись жизненные и культурные идеалы, иными стали не только представления о жизни и смерти, но сам облик, или, как говорили в старину, зрак земли. Проходили, сменяя друг друга, времена «лютые и благоприятные», «безопасные и смутные». Древние книги, читанные из поколения в поколение русскими людьми, из которых заимствованы приводимые здесь определения времени, свидетельствуют, что наши предки во «время злое» чаяли «времен исцеления», умели тяжкими трудами подготовлять «время жатвы». Нелегкая история Родины учила их, наших предков, различать «время власти тьмы» и в терпении верить, что «всему свое время» — «время терять и время искать», «время молчать и время говорить».
Один древний русский художник оставил на нолях принадлежавшей ему рукописной книги исполненное глубокой жизненней мудрости изречение. В этих нескольких строках открывается нам взгляд на превратности жизни, проносимые временем. «Братья, — писая он, — нет радости без печали, а печали без радости, но всегда бывает радость до печали, а печаль до радости, а все минуется».
Ровно пять с половиной столетий отделяют нас от того самого, наверное, морозного и метельного дня — 29 января 1430 года, когда несколько иноков подмосковного монастыря святого Спаса опустили в могилу на местном кладбище долбленную по тогдашнему обычаю дубовую колоду — гроб с телом своего собрата Андрея «по-реклу» (прозванию) Рублева, а по послушанию (занятию в монастыре) иконника. Современники высоко чтили чернеца Андрея за редкие личные качества, определяемые исстари живущим в нашем языке словом — праведник. Необычайно ценились его иконы и фрески, а также украшенные им самим или его учениками рукописи.
Но проходило время, которое наносило темную коросту на светившиеся невиданным светом краски рублевских творений, угасли и сокрылись под позднейшими поновлениями — записями исполненные внутренней тишины и доброты лики. Имя Рублева стало легендой, а затем наступило забвение.
Лишь еле заметным ручейком в чащобе исторического забытья просачивалась сквозь толщу веков память о необыкновенном художнике. То были несколько — совеем немного — очень кратких упоминаний в старинных рукописях, которые хранились и изредка переписывались по монастырским книжницам, да смутные предания, бытовавшие в народе в окрестностях Звенигорода, Владимира, Троице-Сергиева и Андроникова монастырей — в местах, где работал «пресловущий» (знаменитый) художник. Помнили это имя по глухим заволжским скитам ревнители старой веры и собиратели всяческой допетровской старины — старообрядцы…
Интерес русской науки к личности Рублева в своих истоках относится ко второму десятилетию XIX века. Широкая публика впервые узнала тогда это имя, прочитав в 1817 году пятый том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, где были приведены ранее неизвестные летописные сведения о работе художника в Благовещенском соборе Московского Кремля.
В близком к Карамзину кругу любителей отечественной старины в это время стали собирать иконы, которые предание приписывало кисти великого художника. Едва ли не первым таким собирателем был А. И. Мусин-Пушкин, с чьим именем связано открытие «Слова о полку Игореве». В издании, посвященном жизни и ученым трудам этого известного тогда исследователя древностей, дважды встречается имя Рублева: «Говорят даже, что у графа А. И. Мусина-Пушкина недавно еще был образ работы Рублева…» «Одно из произведений Рублева находилось недавно у покойного графа А. И. Мусина-Пушкина, но где оно теперь, неизвестно…»
Конечно, при малой изученности древнерусской живописи в те годы воззрения на авторство той или иной иконы были более чем спорны. В 1841 году «Художественная газета» возражала против слухов об этой иконе: «Знаток и любитель старины г. Сахаров… полагает, между прочим, что находившийся в коллекции графа А. И. Мусина-Пушкина старинный образ не есть произведение Рублева, которому его приписывают, и указывает на другие два произведения Рублева, сохранившиеся в Москве».
Имя художника стало появляться в печатных изданиях первой половины прошлого столетия, однако этому времени не дано было сказать серьезного и веского слова о его творчестве, ибо подлинная рублевская живопись оставалась под слоями записей. Один из первых историков московских древностей дал тогда весьма яркий по своей курьезности отзыв о стиле Рублева: «Письмо у Рублева «новгородского пошиба» — «бойкое, колорит пестрый». Конечно же, исследователь принял за рублевскую живопись позднее поновление. На великого художника древности смотрели тогда как на эдакого бойкого, доморощенного «пошиба» мастерового. То был голос почитателей отечественной старины! А вот голос тогдашних «западников». «Пусть охотники до старины, — писал один из них в 1826 году в альманахе «Северные цветы», — соглашаются с похвалами, приписываемыми каким-то Рублевым… и прочим живописцам, жившим гораздо прежде царствия Петра: я сим похвалам мало доверяю… Художества водворены в России Петром Великим…» В спорах, в полемике современников медленно и постепенно начинало вызревать непредвзятое мнение о высоте и ценности культуры византийской традиции, и в том числе древнерусской. Мы не можем сейчас не отдать дани признательности нескольким русским ученым середины прошлого столетия, сумевшим в атмосфере господствовавшего в дворянской среде пренебрежения к национальной культуре оценить искусство Рублева даже в том искаженном виде, который придали ему позднейшие поновители.
В 1840-х годах историк Н. Д. Иванчин-Писарев, посетивший Троице-Сергиев монастырь и видевший там рублевскую «Троицу», оставил в своих путевых заметках такую запись: «Поклонясь главной местной иконе святой Троицы, я долго стоял перед ней, дивясь живописанию… Она являет в себе один из лучших и цельнейших памятников… искусства, ибо стиль рисунка и самого живописания кажет в ней цветущее время онаго. Она может почесться славою древнего русского искусства». Последние слова были истинно пророческими. Они предвосхитили всеобщее воззрение XX века на эту икону как на одно из величайших произведений мировой живописи. Так что нельзя сказать, чтобы прошлое столетие осталось сплошь слепо и недоверчиво к искусству Рублева и не провидело в нем будущих эстетических открытий.
В целом же на протяжении XIX века лишь изредка вспоминали о Рублеве — только имя да краткие, скупые строки — цитаты из немногих древних упоминаний о нем. Не умирало и устное предание, чаще всего неверное и смутное, следуя которому многие произведения старинного художества приписывались кисти Рублева. Не обошлось и без поддельных автографов — новых надписей на древних иконах, написанных якобы «бывшим государевым мастером Андреем Рублевым».
В 1893 году в «Словаре русских художников» Н. П. Собко был напечатан небольшой, всего в несколько страниц, но до сих пор не потерявший своего значения первый биографический труд о художнике. Он был написан на основании всех известных к тому времени письменных источников.
Интерес к биографии тогда еще полулегендарного художника был не случайным, как не случайным был великий расцвет русской гуманитарной науки, занятой изучением далекого прошлого России, во второй половине XIX века. В это время были открыты и опубликованы сотни произведений древнерусской литературы и народной поэзии, велись крупные археологические раскопки, изучались творения древних зодчих. Тогда же возникает интерес к русским иконам и фрескам и делаются первые шаги в их реставрации.
В конце XIX — начале XX века в печати появилось несколько исследований, которые полностью или частично были посвящены Рублеву. Из этих трудов, к нашему времени уже совершенна устаревших, нужно выделить книгу М. И. и В. И. Успенских «Заметки
И все же это было еще «время молчать» о подлинном Рублеве. Даже известный в XIX веке знаток и любитель древнерусского искусства Д. А. Ровинский серьезно считал рублевскую «Троицу» произведением итальянского мастера. Он не отрицал в ней высокого совершенства, но даже над его сознанием слишком довлел наивный «евро поцентризм», который не мог отрешиться от идеи, что большое искусство присуще лишь западноевропейской ренессансной традиции.
«Время говорить» о Рублеве наступило с рождением нового — XX столетия, когда окрепло и постепенно стало настоящим искусством умение раскрывать из-под потемневшей олифы и слоев поновлений первоначальную древнюю живопись. Рождение века совпало с воскрешением из исторического небытия древнерусских икон и фресок, за которым последовала переоценка многих явлений культуры. Среди таких потрясших культурный мир художественных открытий постепенно, не сразу начал слегка просвечивать, пробиваться и наконец просиял свет великого искусства Андрея Рублева.
В 1904 году в Троице-Сергиевой лавре произошло событие, бывшее первым шагом к открытию подлинного Рублева, — началась пока еще неполная, лишь частичная реставрация находившейся в Троицком соборе рублевской иконы «Троица», которую проводил реставратор В. П. Гурьянов.[1] В 1906 году он выпустил небольшую книгу, где рассказал о ходе и результатах своей работы. Это чрезвычайно интересное, волнующее свидетельство человека, первым приподнявшего многовековую завесу, закрывавшую творение Рублева. «В конце 1904 года, — пишет В. П. Гурьянов, — я был приглашен произвести под наблюдением Императорского Московского археологического общества реставрацию всех икон Троицкого собора. Отец архимандрит сообщил мне, что реставрации должна быть неполной, что я должен был только промыть иконы и укрепить на них попорченные места, где будет крайне необходимо, там поправить красками. Зная, что иконы Троицкого собора не раз поправлялись и: записывались, я предлагал, что, по моему мнению, следовало бы все иконы тщательно расчистить и затем уж поправить. Но это мое предложение пришлось по необходимости оставить, так как на это требовалось много времени и средств…» Готовясь к работе, волнуясь, представляя себе всю меру ответственности, реставратор вспоминал высокие оценки, данные «Троице» прежде видевшими эту икону учеными…
Наступил день, когда должна была начаться реставрация. «С «Троицы», — снова обращаемся к воспоминаниям В. П. Гурьянова, — снята была золотая риза… Каково же было наше удивление! Вместо древнего и оригинального памятника мы увидели икону, совершенно записанную в новом стиле палеховской манеры XIX века… Является сомнение, ужели же так записанная икона принадлежит кисти Андрея Рублева. Ведь о ней так восторженно отзываются ученые-археологи и указывают как на единственную и почти верную икону работы сего талантливого иконописца…» Перед реставратором действительно была прославленная икона, но сплошь записанная уже не по одному слою, скорее всего художником И. М. Малышевым, который руководил в 1854 году поновлением икон и стенописей Троице-Сергиевой лавры. В книге В. П. Гурьянова приведена фотография «Троицы» в том виде, в каком она открылась из-под оклада, дополняемая описанием самого реставратора: «На ней фон и поля были… коричневые, а надписи золотые, новые… Все одежды ангелов были переписаны заново в лиловатом тоне и пробелены не краскою, а золотом, стол, гора и палаты вновь прописаны… Я решил сделать пробу, почистить фон между горою и дубом…»
И вот реставратор, размягчая верхние, не относящиеся к авторской живописи слои щелоком или спиртом и осторожными движениями на небольшом участке снимая остро отточенным ножичком-ланцетом все наносное, обнаружил, что фон иконы был переписан три раза. На фотографии, приведенной в книге В. П. Гурьянова, видны четыре пронумерованные полоски. Они отличаются друг от друга по цвету — подлинный фон и три слоя поновлений…
Так начался путь к Рублеву — не легендарному, а настоящему. «Троица», раскрытая тогда не полностью, впоследствии еще дважды подвергалась реставрации, в 1918 и в 1926 годах, прежде чем приняла свой теперешний вид.
После частичного открытия «Троицы» были сделаны первые попытки историков искусства дать художественную оценку этому произведению и определить его место в русской и мировой живописи. Оценки были исключительно высоки:
«Великое детище древнерусской культуры», икона «продолжает волновать исследователей загадочной сложностью своего стиля», произведение «бесконечной грации изображения», идея иконы «совершенно исключительная по глубине и крайне сложная в выражении».
«Памятником, созданным необычайно высокой творческой волей» назвал рублевскую «Троицу» глубокий знаток искусства Н. Н. Пунин. «Нас поражает, — писал он в статье «Андрей Рублев», опубликованной во втором номере журнала «Аполлон» за 1915 год, — выразительность и непосредственность замысла, язык самой живописи, живая сила вдохновения, а при наличности таких условий нет никаких причин отрицать наличие гения, создавшего эту икону. Этим гением, светом раннего периода нашей живописи, солнцем, господствовавшим над горизонтом по крайней мере в течение столетия, могли быть немногие…» В это время никто из ученых уже и не решается примкнуть к мнению Д. А. Ровинского об итальянском авторе «Троицы». Некоторые исследователи отмечают непосредственную связь этого произведения с расцветом культуры, который переживали в XIV и в начале XV столетия Византия, южные славяне и Русь, однако отрешиться от представлений, что искусство Рублева могло обойтись без западноевропейских влияний, почти никто из историков искусства не сумел. Последующее развитие искусствоведения показало несостоятельность и ненаучность мнений о зависимости русской иконописи от «образцов готических и итальянских, во всяком случае — венецианских форм» (Н. Н. Пунин). Тогда требовалось еще доказывать, что древнерусское искусство, будучи своеобычным и создавшим собственные, глубоко национальные способы выражения и идеалы, было вместе с тем органической частью единой восточноевропейской культуры. Но наивный стереотип «европоцентризма» уже в исследованиях того времени постепенно начал преодолеваться, искусствоведы заостряют внимание на тех сторонах «Троицы», где можно усмотреть общие древнерусской и итальянской живописи свойства, объяснимые их единым происхождением из византийского искусства, которое сохранило некоторые античные приемы.
Подобная путаница в определении корней искусства Рублева возникла оттого, что способ анализа произведений у обращавшихся к «Троице» ученых был внеисторичен, формы живописи рассматривались и сравнивались в отрыве от мировоззрения, системы идей, их породивших. Один из современных нам исследователей средневековой культуры пишет: «Сделав много ценного в области анализа художественных приемов Рублева, большинство авторов начала XX столетия обнаруживали свою несостоятельность всякий раз, когда они пытались истолковать внутренний смысл произведения, его образное содержание… Они превратили «Троицу» в произведение, лишенное какого-либо конкретного сюжета, созданное вне исторической среды и вне определенной художественной традиции» (И. Е. Данилова).
Действительно, в те годы довольно широкое распространение получает восприятие древнерусских икон как некой свежей, выразительной формы, экзотического «примитива», якобы близкого поискам Матисса, Пикассо и вообще кругу «левых» художников.
Малоизученная, отделенная от тогдашнего зрителя веками забвения, загадочная и действительно ни на что из прежде известного не похожая по своим приемам, древняя живопись оказалась «беззащитной» против чисто формалистических и антиисторических толкований, распространявшихся теоретиками крайне «левого» направления в модернистском искусстве. В борьбе с основными положениями натурализма, который переживал тогда известный кризис, «левые» теоретики использовали древнюю русскую икону. Об этом несостоятельном течении в познании древнерусской живописи можно было бы не вспоминать, если бы в восприятии некоторых ее любителей и в художественной практике живописцев-стилизаторов до наших дней не дошли в остатках подобные представления…
В 1914 году во втором номере журнала «София», издававшегося искусствоведом П. П. Муратовым, появилась примечательная статья под названием «Небескорыстие». Она была подписана инициалом «Тп». Эта небольшая работа до сих пор не потеряла своего значения для преодоления внеисторических эстетских взглядов на искусство русского средневековья.
«Кажется явным небескорыстней в настоящую минуту, — писал автор, — всякий подход к древней русской иконописи, заключающий требование, чтобы иконопись открыла пути современного искусства». Для этого, по мнению автора, нужно длительное, созерцательное и серьезное изучение древностей, ибо «прошлое открывается только тому, кто подходит к нему без всякого наперед заданного намерения… нужен очень большой период времени, нужны усилия многих талантливых исследователей, нужна долгая связь с древним искусством, вновь возвращенным нации…».
Вне глубокого постижения, вдумчивого созерцания возможно лишь поверхностное «прельщение… декоративной красотой иконописи». Автор статьи «Небескорыстно» горячо возражает против безвкусного перенесения отдельных иконных приемов в иные жанры живописи, например в портрет, видя в этом «умаление такого великого и полного духовности искусства, которым была иконопись». Замечательным заветом от лица первых исследователей нашей древней живописи, заветом, передаваемым грядущим поколениям русских художников, искусствоведов и просто почитателей отечественного искусства, не забывать о его высокой традиции, звучат слова автора статьи: «Современная живопись тяготеет к экзотизму и примитивизму. Когда Матисс по возвращении из России стал проявлять иконные реминисценции, было ясно, что он воспринял нашу иконопись как экзотику. Русский человек не может так воспринимать свое древнее национальное искусство, если только он видит своими глазами, а не чужими.[2] Отношение же к иконе как к примитиву обнаруживает полное незнание ее и непонимание… Знакомство с этим мастерством, напротив, говорит о беспримерной стойкости традиций, о колоссальной школе, о высочайшей сознательности, о напряженности усилив направленных к совершенству. Не только стиль, но даже самая техника иконописи выработана на протяжении двух тысячелетий, отделяющих живописцев, современных Фидию, от Андрея Рублева и Дионисия…»
Постепенно в те годы начал складываться в зарождавшейся науке о древнерусском искусстве метод исследования, который рассматривал это искусство как выражение определенного миросозерцания, включающего в себя два нераздельных начала. Первое из них — постоянное в полуторатысячелетней жизни всех христианских народов единство, которое основывалось на сложившихся еще в первые века нашей эры религиозно-философских представлениях.
Неизменную и недвижимую («камень веры», па определению тех времен) сторону древней культуры можно назвать миром «статики», исконных и неколебимых начал. Эта «статика» во всей полноте присутствует и в искусстве Рублева как выражение его полной и несомненной принадлежности к традиционному мировоззрению. Вторая сторона — то, что каждая эпоха, каждый народ привносили в это сложившееся единство, не выходя из постоянно данной системы представлений, но по-своему, через свой духовно-исторический опыт раскрывая и осмысляя его.
Без этого своего — назовем его миром «динамики» — вклада в общее единство вся культура средневековья была бы национально безликим, многовековым повторением одного и того же. В древнем искусстве изображение, скажем, «Троицы», где бы и когда бы оно ни было создано, выражает общее для всего христианского мира и независимое от времени содержание. Но каждое такое произведение освещено тем отблеском, за которым чувствуются время и место его создания, веяние эпохи, ее опыт, осмысленный в «статических» понятиях. Временное, приносимое историей в мировоззрении и быту людей Древней Руси, вливалось в русло постоянного, «вечного». Нераздельность, слиянность начал «статики» и «динамики» не мешает при изучении жизни и культуры тех времен условно разделять их, с тем чтобы ни одно из них не было умалено или замолчено за счет подчеркивания и выделения другого. Именно такой метод можно назвать собственно историческим, который рассматривает произведение искусства, раскрывая его содержание, обе стороны — традиционного и нового, — его составляющие.
Одним из первых, не совсем твердым, но очень важным шагом в сторону изучения древней иконы как выражения исторически сложившегося мировоззрения были работы известного в начале нашего столетия русского философа Е. Н. Трубецкого. Первая из них появилась в свет в 1915 году под названием, которое стало крылатым выражением, определяющим особенность иконописи, — «Умозрение в красках». «Только теперь… — пишет автор, — мы увидели эти краски отдаленных веков, и миф о «темной иконе» разлетелся окончательно… С этим нашим незнанием красок древней иконописи связывалось и полнейшее непонимание ее духа. Ее господствующая тенденция односторонне характеризовалась неопределенным выражением «аскетизм» и в качестве «аскетической» отбрасывалась как ненужная ветошь. А рядом с этим оставалось непонятным самое существенное и важное, что есть в русской иконе, — та несравненная радость, которую она возвещает миру. Теперь, когда икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех веков, нам часто приходится слышать об изумительной ее жизнерадостности, с другой стороны, вследствие невозможности отвергать присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных загадок… — как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми красками? В чем заключается тайна этого сочетания высшей скорби и высшей радости? Понять эту тайну — значит ответить на основной вопрос — какое понимание смысла жизни выражено непосредственно, своеобразно, но языком, хорошо понятным современникам, — вот что главное в живописи Древней Руси». Но очень трудно понять и этот смысл, и сам язык древнего искусства современному человеку. «Ждать, чтобы икона с нами сама заговорила, — продолжает философ, — приходится долго, в особенности в виду того огромного расстояния, которое от нее отделяет. Чувство расстояния — то первое впечатление, которое мы испытываем…»
В следующей своей книге «Два мира древнерусской иконописи» (1916 г.) Е. Н. Трубецкой говорит о необходимости преодоления этого «огромного расстояния» с помощью серьезного и вдумчивого проникновения в смысл открывающихся произведений: «Красота иконы уже открылась взору, но, однако, и тут же мы остаемся всего чаще на полдороге. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее… смысл. А между тем в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую… Когда мы расшифруем непонятный доселе, но все еще темный для нас язык символических начертаний и образов, появится возможность заглянуть в душу русского народа… — в этих произведениях все жизнепонимание и все мирочувствие русского человека с XII по XVII век, из них мы узнаем, как он любил, как судила его совесть и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал…»
Когда писались эти строки, мысль, любовь и совесть, воплощенные в произведениях Андрея Рублева, еще не были достоянием познания и сопереживания. Не полностью раскрытая единственная известная тогда его икона «Троица» покоилась под глухим золотым окладом, другие произведения еще ожидали своих реставраторов и исследователей. Начало ошеломительных открытий, которые дали мировой культуре весь круг известных сейчас произведений, созданных Рублевым и художниками из его окружения, приходится уже на послереволюционное время. Тогда начались реставрационные работы повсюду, где согласно с древними источниками трудился Рублев. Расчищали фрески и иконы Успенского собора во Владимире. В 1918 году в Московском Кремле группа реставраторов приступила к расчистке иконостаса Благовещенского собора. В том же году продолжена реставрация «Троицы», перевезенной в Москву, а в самой Троице-Сергиевой лавре вновь созданная реставрационная мастерская начала постепенно раскрывать иконостас.
В 1918 году произошло замечательное открытие в Звенигороде под Москвой. Там были найдены три иконы, которые после реставрации оказались несравненными по высоте произведениями, получившими в науке название Звенигородского чина.
Благодаря всем этим открытиям, по слову одного из тогдашних исследователей, «впервые материализуется призрачный Рублев».
Во главе работы по собиранию и реставрации произведений Рублева с 1918 года стоял художник и искусствовед И. Э. Грабарь. Их расчистка продолжалась в отдельных случаях вплоть до середины 1940-х годов. В разное время ее осуществляли реставраторы старого и нового поколений — А. А. Алексеев, И. А. Баранов, Е. И. Брягин, В. О. Кириков, И. В. Овчинников, И. И. Суслов, М. И. Тюлин, Г. О. Чириков.
В 1926 году И. Э. Грабарь выпустил в свет работу о Рублеве, посвященную особенностям его стиля. Эта статья содержала также небольшой биографический раздел — разбор сведений о самом художнике. Во многом и до сих пор не потерявшая своего значения, она стала основой серьезного изучения творчества художника, краеугольным камнем, с которого началось длящееся до наших дней построение целого здания, возводимого отечественными и зарубежными специалистами — историками искусства, философии, литературы, общественной мысли. Трудами ученых творчество Рублева все более раскрывается для человека нашего столетия, становится живой частью русской культуры.
Сейчас о культуре и мировоззрении, к которому принадлежал Рублев, об эпохе, современником которой он был, известно несравненно больше, чем могут сообщить немногочисленные документы и предания о самом художнике. Летописи повествуют нам о событиях, пережитых вместе со своим народом Рублевым. Произведения литературы, зодчества, живописи несут в себе мысли и идеалы, которыми жили его предки и современники.
Круг же биографических сведений о великом мастере давно замкнулся. Редкие упоминания о его работах и маленькие, но драгоценные штрихи, сохраненные исторической памятью о его замечательной личности, известны были еще в прошлом веке. За последние десятилетия почти не прибавилось новых сведений о жизни и личной судьбе Рублева. Вновь открытые документы внесли в основном некоторые мелкие дополнения в давно уже сложившиеся представления о его жизни.
Однако и в изучении биографии художника произошли значительные сдвиги. Подчас запутанные и противоречивые данные были сопоставлены друг с другом и с новооткрытыми произведениями живописи. Углубившиеся знания о культурной жизни Древней Руси заставили по-новому взглянуть на уже известное.
Сведений о самом Рублеве, по меркам нашего времени, совсем немного. И давно известные, и новонайденные, они могли бы легко уместиться со всеми своими подробностями на одной или двух книжных страницах. Дважды упомянули Рублева его современники-летописцы. Краткие сведения о нем содержатся в двух житийных произведениях. Около трех десятков упоминаний разной степени достоверности — в записях преданий как древнего, так и нового происхождения, да изображения — условные портреты самого художника в нескольких миниатюрах XVI–XVII веков и на одной иконе. Вот и все, чем располагает сейчас биограф. Много это или мало? Для жизнеописания человека нового времени — ничтожно мало! Для древнерусского иконописца это существенно, ибо русская средневековая живопись, за семь столетий своего существования воплотившаяся в десятки, а может быть, и сотни тысяч произведений, из которых лишь малую часть сохранило для нас время, была почти сплошь анонимна. Из сотен имен художников, живших ранее XVII века, известны лишь единицы. И то в нашем сознании многих из них — только имена, поскольку их произведения неизвестны. Быть может, их иконы уже не существуют, возможно, они влились в число анонимных создании художества. Мал и краток список художников XIV–XV веков, чьи иконы или фрески мы сейчас знаем, — Феофан Грек, Рублев, Даниил Черный, Паисий, Дионисий…
Скудные, по представлениям нового времени, данные о жизни Рублева на самом деле — свидетельство его огромной известности при жизни и много времени спустя. «Рублев, — пишет М. В. Алпатов, — принадлежит к тем счастливым избранникам, столь редким в эпоху средневековья, особенно средневековья русского, чье имя уже современники произносили с благоговением, а ближайшие потомки окружили легендой…» Без этой почти исключительной известности иконописца имя его давно бы исчезло в небытии, а произведения, если бы они сохранились, считались анонимными.
Судьба Рублева погружена в жизнь и культуру его времени, слита с ними. Ключ к биографии средневекового художника — в его произведениях и событиях современной ему истории. Его жизнь может быть описана строго по имеющимся свидетельствам лишь на фоне исторических событий его времени. Рассмотрение созданных им произведений дается в связи с культурными течениями, обусловленными этим временем, а также в связи с мировоззренческими основами, характерными для всего восточноевропейского средневековья в целом.
Традиционность, большая в сравнении с новым временем статичность средневековой культуры, с одной стороны, и обрывочность документов, непосредственно связанных с Рублевым, — с другой, делают не только возможным и необходимым достаточно часто пользоваться методом, который можно было бы назвать «научной реставрацией». Подобно тому как архитектор-реставратор восстанавливает утраченную часть здания на основании аналогии с сохранившимися целиком подобными строениями более ранней или, наоборот, более поздней эпохи, биограф Рублева подчас должен использовать культурноисторические или бытовые реалии и факты, общие для всего русского средневековья, но точно известные по памятникам или документам иного, чем рублевская эпоха, времени.
Подобная «реставрация», которая каждый раз должна быть строго обоснована и доказательна, по отношению к давнему прошлому широко применяется и в академической науке. В некоторых случаях возможны разные ответы на одну и ту же загадку, оставленную жизнеописателю историей. Он должен прямо указать своему читателю на подлинные и несомненные сведения, объяснить ход своей мысли при «восстановлении» недостающего в документах. Тогда точные и ясные там, где это возможно, и приблизительные там, где современные знания не допускают большой определенности, проступят из дали времен контуры жизни Рублева.
В какой-то мере читатель этой книги должен будет погрузиться в проблемы современной науки о великом иконописце древности, познакомиться с развитием и историей взглядов на его жизнь и творчество, поскольку за последние десятилетия «рублевская проблема» серьезно и многосторонне изучалась. Совершенствовался метод постижения, создавались различные, подчас остроумные гипотезы и концепции относительно неясных сторон его биографии.
В истории науки о древнерусском искусстве и собственно о Рублеве временами возникали большие трудности. Были годы, когда казалось, что вновь наступило «время молчать» о великом художнике, недавно возвращенном нации. «Левые» течения 1920-х годов шумно декларировали свое неприятие «наследия мрачного прошлого» и ненависть ко всему «древнему, церковному и славянскому», создавая в нашей стране атмосферу пренебрежения к традиционной национальной культуре. Эта атмосфера затронула в известной степени и науку о Рублеве. «Метод вульгарной социологии, распространенной среди части искусствоведов, мало способствовал постижению рублевского творчества. В работах этого типа живопись Рублева трактовалась как искусство, выражающее «идеологию московских феодалов на рубеже XV века», как «утонченный метод одурманивания масс».[3] Не случайно, что в эти годы не появилось ни одной серьезной работы о художнике.
«Время говорить» о нем настало, когда наш народ должен был собрать все свои силы для смертельной схватки с врагом. Тогда особенно стало ясным, какую великую жизненную силу представляют собой историческая память нации, ее древние традиции, исконное культурное наследие. «Патриотический подъем, охвативший страну в годы Великой Отечественной войны, вызвал новую волну интереса к русскому прошлому, к древнерусскому искусству, и в первую очередь к искусству Рублева. Уже в 1943 году появляется небольшая книжка М. В. Алпатова — первая отдельная монография о художнике…»[4]
В 1945 году в реставрируемой Троице-Сергиевой лавре начинается работа по окончательному раскрытию иконостаса Троицкого собора. В 1947 году Спасо-Андроников монастырь в Москве, где жил, работал, окончил свой век и был похоронен Рублев, объявлен заповедником. Здесь был создан Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. С середины 1950-х годов одно за другим выходят исследования о художнике, в том числе ставшие классическими работы М. В. Алпатова, Н. А. Деминой, В. Н. Лазарева, Д. С. Лихачева. По решению Всемирного Совета Мира в 1960 году праздновался 600-летний юбилей со дня рождения великого художника. Отмеченный огромной прессой по всему миру, рублевский юбилей в нашей стране был ознаменован научной сессией, которая была посвящена творчеству художника, и большой выставкой работ Рублева и его современников, разместившейся тогда в залах Третьяковской галереи в Москве. К юбилею и после него вышло немало массовых изданий, книжек, брошюр, статей в газетах и журналах, в разной мере подробно и достоверно пересказывающих и перелагающих достижения «большой» науки. Некоторым из них присущ сильный упор на ту сторону в творчестве художника, которую мы назвали «динамикой», желание выделить и заострить черты, свойственные эпохе, времени, чем подчас обеднялось и искажалось наследие Рублева, которое уходит своими корнями в более чем тысячелетнюю культурную традицию, созданную многими народами. Односторонний крен в поиске лишь «черт героической действительности», присущий в прошлом и отдельным профессиональным исследователям, кажется, неизбежно должен был пошатнуть взгляды на Рублева в другую крайность — отрицание всякой «динамики» в содержании его искусства. В результате некоторые из зарубежных исследователей отказались видеть в свойственных искусству Рублева традиционных категориях духовный опыт эпохи и самого художника.
Наша отечественная наука о Рублеве, развиваясь, создает исторический, лишенный односторонности метод.
У науки есть только одна цель — истина. И одна благородная задача — не отступая от истины, как говорили наши далекие предки, «ни на единый аз», добыть и донести неискаженную правду о прошлом сегодняшнему и будущему поколениям людей, сделать их подлинными наследниками прошлого, ибо культурное наследие для нации — это не груз малопонятных, странных раритетов, уничтожаемых или почетно стареющих в пыли, а живой хлеб и живая вода, без которых нет будущего.
Встреча современного человека с Рублевым непроста. Стремление понять смысл работ художника, умершего пять с половиной столетий тому назад, сталкивается, а подчас беспомощно останавливается перед серьезными затруднениями — отдаленная эпоха, особенности неведомых сюжетов изображений и стоящего за ними плохо знакомого мировоззрения, малое количество биографических сведений о художнике, наконец, своеобразная, глубоко отличная от основных принципов эстетики нового времени живопись…
Цель этой книги — на основании всего того, что известно в науке, дать возможность читателю сделать шаг к Рублеву, к живому, личному общению с его удивительными творениями, рассказать о жизни художника, разделившего судьбу своего народа в одну из самых тяжелых и светлых эпох его истории и давшего России искусство, исполненное гармонии, добра и любви.
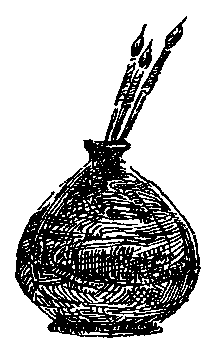 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |