"Дом с закрытыми ставнями" - читать интересную книгу автора (Паутин Павел Никифорович)
 |
ПОВЕСТЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Поселок и дом
Избранный
Наша семья
Будни
Ванюшка
Рыбалка
Сенокос
Прошлое матери
Дедово воспитание
Маугли
Ванюшка не боится
Прощай, страх!
В избушке лесника
Совсем плохо в доме
Школа
Дедова любовь
Разлука с дедом
Ведьма
Приезд Евмена
Новый год
Парфен
Деревянные узоры
Половодье
Баптистский спектакль
Каникулы
Смерть Пегана
Чурочки
Я — Робинзон
Я попадаю в иной мир
Вшколе
Прощай, дом с закрытыми ставнями!
Мой Первомай
Горе тети Ани
Эпилог
ПОСЕЛОК И ДОМ
В конце прошлого века мой дед перебрался с семьей из центральной России в таежный сибирский поселок. Семья деда состояла из жены да сына Никифора, моего будущего отца.
Ходили слухи, что когда–то в эти глухие места первыми пришли беглые каторжники. Сначала они жили скрытно, в землянках, и пищу готовили на углях, боясь, что дым печей выдаст их. Крыши землянок они будто бы маскировали дерном. И так жили они потаенно, по–звериному до тех пор, пока не сменило их новое поколение. Молодые уже могли не скрываться — и зажили шумно и открыто. Выжигали уголь, валили лес и сплавляли его по реке Сосновой до Оби, собирали живицу, делали бочки, гнали деготь и скипидар, брали ягоду, грибы, охотой промышляли, пасеки завели… Жители поселка не занимались хлебопашеством. Их кормили, лес, огороды да домашняя скотина. И еще отличался этот поселок от окрестных деревень тем, что в нем была не церковь, а баптистская молельня. Откуда взялись здесь баптисты — я не знаю, но осело их здесь несколько семей еще в старину. Вот к ним–то и приехал пресвитером мой дед. Он был большим мастером по части проповедей, послушать его собиралось много народу. Дед на свои деньги отгрохал большой молельный дом с крышей из оцинкованного железа. Верх водосточных труб украшали узорные венчики. На карнизе, наличниках и тяжелых ставнях дед вырезал замысловатые, дивной красоты деревянные кружева. Даже могучие лиственничные ворта он покрыл кружевной вязью. В просторном дворе построили хлев, амбар, сараи. И все это обнесли высоким несокрушимым забором. Он ощетинился гвоздями. Их вбили остриями кверху.
Гордо возвышался дом среди избенок, рассыпанных вокруг как попало. Дед стремился, чтобы он даже своим видом привлекал к себе людей.
Как только дед с семьей перебрался в новое жилище, так все окна закрыл ставнями и железные болты их изнутри завинтил гайками. Он это объяснил верующим в своей проповеди так:
Мы не должны бежать от мира. Мы просто должны удалиться в самих себя. Мы не должны бежать в пустыню, но мы должны создать ее внутри себя. Живя среди греховного скопища людей, мы должны походить на дом с закрытыми ставнями и с закрытой дверью.
Но дверь хитрый дед не закрывал, каждый мог зайти в молельный дом послушать его проповеди, призывавшие познать Христа и отдать ему всю свою жизнь.
Пресвитером значился дед, он же был и хозяином дома. Дед прославился не только проповедями, но еще и тем, что в трудную минуту у него можно было занять деньги.
Ну, как было не зайти к такому человеку?! Приветливый, веселый, щедрый, умеющий утешить божьим словом. И вид у него был! Этакий бородатый богатырь, в белоснежной . струящейся шелковой рубахе. Лиловатый нос картошкой, брови торчат, как петушиные гребни, глазищи зеленые, загадочные. Иной раз так взглянет, что человеку становится не по себе…
По средам, субботам и воскресеньям в нашем доме проходили моленья. В будничные дни он почти не освещался. Тусклого света одной керосиновой лампы не хватало, и поэтому дальние углы тонули в темноте. Причудливые тени ползали по стенам.
Длинные скамейки занимали зал, оставляя только узкие проходы около стен. Низкий потолок давяще висел над головой. Перед скамейками возвышался стол, накрытый зеленой скатертью и окруженный стульями дедовой работы. На столе — две старинные лампы. Их зажигали только на молитвенных собраниях. На стенах висели писанные на бумаге призывы и изречения:
«Покайтесь и веруйте в Евангелие», «Бог есть любовь». «»Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», «Дни мои быстрее гонца». В тишине ночей странный шорох несся из всех углов, как будто шарился там какой–то призрак. Мне порой даже слышалось шарканье невидимых ног по скрипучим половицам. Я в страхе думал: «Уж не привидение ли бродит там взад и вперед?» Должно быть, это дом, построенный еще до революции, оседал все ниже и ниже, издавая загадочный шум.
В правой стене зала несколько филенчатых дверей вели в наше жилье. В комнате моей маленькой сестренки Лизы стояла кровать, сколоченная из досок и березовых чурок.
Кровать была аккуратно застлана чистым покрывалом, из–под которого выглядывало шерстяное одеяло и белая простыня. Пуховую подушку обтягивала наволочка из ситца, на котором были нарисованы розы. Меня с братом Ванюшкой отец и мать содержали в скудости. Мы укрывались грубыми одеялами домашнего тканья. Коричневые с розовыми полосами, они походили на половики. Вместо подушек мы клали под головы свои полушубки.
Мам, а почему у нас с Ванюшкой нет одеял и подушек? А у Лизы–подлизы есть? — спросил я как–то.
Вы — мужики, вам и так ладно, а она еще маленькая, ничего не понимает…
Да–а, не понимает! А ябедничать понимает? — обиделся я.
Не болтай! Почему ты ее подлизой–то зовешь? — и мать щелкнула меня по затылку. — Не привыкай к мирским утехам, они тешат грешную плоть. А ты о душе думай. А души наши Христу отданы.
Я любил рисовать и украшал свою серую стену всякими картинками.
Вот это здорово, — восхищался Ванюшка. — Нарисуй и для моей комнатухи.
Тебе чего, самолеты?
И морской бой.
Я перерисовывал из учебников самолеты, корабли, и Ванюшка развешивал их в своей каморке.
Однажды пришел отец, сорвал все рисунки и скомкал их, чтобы сжечь.
Не надо, папа, — заголосили мы с Ванюшкой.Глупое это занятие, — рассердился отец. — Сколько раз учили вас сторониться всего этого земного! Все это бесовский соблазн, а мы призваны к другому. Живя среди суетной толпы, умейте воздвигать между собой и ею незримые стены, ибо мы — служители спасителя нашего.
Темные глаза отца обжигали нас.
Ванюшка уныло смотрел на голые тоскливые стены.
Я плакал, уткнувшись в дерюжное одеяло.,. А на следующий день восстанавливал рисунки…
В комнате матери двухспальную деревянную кровать украшала пуховая перина, огромные подушки и ватное одеяло. Рядом находилась отцова комната. В ней, кроме деревянной кровати, был письменный стол, книжные полки, забитые баптистскими журналами, песенниками и евангелиями. В углу громоздился окованный железом сундук. Что в нем лежало, я не внал. Я почти никогда не заходил сюда.
На нижнем этаже помещались теплые сени. Оконце с решеткой тускло освещало большущий ларь. Одна дверь вела в кухню, другая в комнату деда, третья в столовую. В ней стояли длинные некрашеные столы и скамейки. Здесь обедали верующие, когда собирались молиться. Был еще в Доме подвал. Дед хранил там хомуты, вожжи, деготь, пилы, цепи, грабли, вилы, лопаты. Все это было аккуратно разложено. Посредине подвала стояла железная «буржуйка». В подвале приятно пахло кожей, дегтем и старым деревом. Это было единственное место, где я любил бывать. В теплое сухое помещение через узкие оконца проникал дневной свет. Я подолгу следил за работой деда. Он умело чинил хомуты, делал вожжи из длинной тесьмы и сам украшал их медными бляхами. Любил украшать дед и уздечки. Поссовет разрешил общине держать ломовую лошадь для разных хозяйственных дел.Пеган — умная лошадь. Я часто приходил в конюшню и гладил ее. Пеган таращил на меня темно–синие глаза и о чем–то думал. Иногда я чистил его щеткой. Пеган знал команды: «стой», «ложись». Он даже поднимал передние ноги и мотал головой, словно здоровался. Всему этому его обучил дед. В долгие зимние вечера он иногда занимался резьбой по дереву. Свои изделия дед перетаскивал в теплый сарай. Летом и осенью в дождливые ночи, а зимой в буранные, дед любил уединяться в своем сарае. Он зажигал лампу, занавешивал окно дерюжкой и что–то делал там до утра. А что — одному богу было известно. Двери сарая, уходя, он закрывал на здоровенный замок…
Дед был для меня самым интересным человеком. Я ловил каждое его слово… Ходил он важно. Высокий, широкогрудый, сильный. Баптисты всегда звали его, когда нужно было заколоть быка или свинью. Подойдя к быку, дед ударял его кулаком в лоб. Бык, закатив глаза, падал, тут–то дед и перерезал ему горло. Кожу сдирал дед руками.
ИЗБРАННЫЙ
Все чаще я замечал, что живу на белом свете как–то нескладно. Другие мальчишки ходят в кино, в драмкружке состоят, читают книги. Вон семиклассники с преподавателем физкультуры даже укатили на велосипедах в город, хотя до него двести километров. А для меня все это грех. Для меня после уроков только и есть что Библия, журналы «Братский вестник»(Журнал издаваемый Всесоюзным советом евангельских христиан–баптистов (ВСЕХБ)), песнопения, религиозные стишки да братья и сестры во Христе… Помню, как–то сижу я у окна. Слышу за высокой оградой гам мальчишек. Они играют в «кляп», «попа–гонялу», хохочут, орут. Так бы сорвался—и к ним, в их кутерьму. Но куда там! Грех ведь все эти игры.
О чем запечалился? — спросил отец.
Скучно, папа, — вырвалось у меня.
А Библия? — удивился отец. — Разве нам, избранным, может быть скучно с ней? Библия —единственное откровение, данное роду человеческому.
Разве я тоже избранный?
А как же? Ты самый счастливый на этой земле. Тебе уготована вечная жизнь. Ты раскрыл свою душу Христу, и он вошел в нее. Все остальное пусто для тебя. Помнишь, мы с детьми разучивали стишок?
Делу время, потехе час!
А там, глядишь, — и нет уж нас.
Любви тепло и упованье
На миг согреют — и до свиданья!
Отец взял ведро и пошел за водой к колодцу.
От его слов я приободрился. Выходит — я избранный! Ну, а пацаны, что они смыслят? Знай себе — играют. Они проживут немного, а я бессмертен. И мне уже не хотелось на улицу к ребятишкам, которые дразнили меня «бактистом». Но я теперь плевал на них, я же избранный, а они…
НАША СЕМЬЯ
Пашка, вставай! Иди очередь за хлебом займи, — сквозь сон услышал я сердитый голос матери.
Пусть Ванька, — возразил я, увидев, что в эту ночь он почему–то спал со мной. Я не слышал, когда он пришел ко мне.
Тогда телка гони.
А коров–то прогнали? — надеясь полежать еще с полчасика, спросил я.
Только что.
Я быстро встал. В нашем поселке такой порядок: сначала пастух гонит коров, а потом уже всей улицей провожают телят до самого леса. Заправляя холщовую рубашку под брюки, я поглядел на Ванюшку* Он лениво потягивался.
«Прозевает очередь. И опять паевую книжку забудет. Мать ему уши накрасит», — подумал я.
На лицо Ванюшки через щель в ставне упал яркий луч солнца. Ванюшка сморщил усыпанный веснушками нос, смахнул со лба темную прядь волос, потянул на себя одеяло. Мелькнули грязные пятки.
Я спустился в дедову комнату взять кнут. Дед редко давал его, но уж если кнут оказывался у меня, все мальчишки начинали завидовать. Кнут был с кисточками, кольцами, а ручку его украшал узор из меди.
На столе горела керосиновая лампа. Дед сидел спиной ко мне в самодельном кресле и тихонько посапывал в бороду. Он любил спать сидя.
Я на цыпочках пробрался к стене и снял с гвоздя кнут.
Стой! — встрепенулся дед. — Думаешь, я не слышу? — От неожиданности кнут выпал из моих рук.
А ну, брысь под лавку! — крикнул дед, сердито взглянув на меня зелеными глазами.
_ Это под какую лавку? — будто не понял я и окинул взглядом комнату. Дед грозно поднялся.
Печь в нашем доме была такой большущей, что занимала половину кухни и даже угол дедовой комнаты. Я шмыгнул под эту печку и притих. Огромные сапожищи прошаркали по скрипучим половицам и подошли к кнуту. Толстая волосатая рука подняла его. Коричневые сапожищи приблизились ко мне.
Ах ты, пострел! — проворчал дед. — А ну, вылазь, чего там, — дед застучал ручкой кнута о пол.
«Еще выпорет», — подумал я и забился глубже.
Вылазь, говорю!
А вот и не вылезу, — упрямился я.
Тогда оставайся один, пусть тебя крысы там едят, а я пошел.
Сапоги стали удаляться. Я высунулся:
А бить станешь?
Ну, ну, вылезай, — пробасил дед.
Взаправду — не станешь?
Не стану, вылезай. Слышишь, уже телята мычат. Опоздаешь…
С опаской поглядывая на дедову руку с кнутом, я вылез из–под печки до пояса. Дед поглаживал темносерую бороду, похожую на куделю, из которой мать пряла пряжу.
А ты мне, деда Никандр, кнут дашь, а?
Ладно, ладно.
Не обманешь?
Экой ирод, прости господи! Говорю — дам, чего еще?
С юркостью мышонка я проскочил между дедовых ног, выдернул у него кнут и выскочил из комнаты. Потом приоткрыл дверь и сказал:
Попробуй еще раз кнута не дать, так я тебе ягоды приносить не стану.
У деда дернулся ус, зашевелились густые брови.
Ладно, бери, когда понадобится, да не забудь к чаю земляники набрать.
У ворот, помахивая хвостом, крутолобый Борька пил из деревянного ушата пойло.
В конце улицы, у речки, появились телята. Самых маленьких, не привыкших к стаду, мальчишки и старики вели на поводках.
Наш Борька был самым сильным. Завидев стадо, он вытаращил глаза, выпрямил хвост и с задиристым мычанием бросился в самую гущу. Телята бодали друг друга до самого леса, а там притихли. Те, которые родились весной, настороженно принюхивались к незнакомому запаху молодой травы и, не срывая ее, только причмокивая, мяли толстыми губами, будто сосали у матери вымя. Годовалые же срывали ее с сочным треском.
Капельки росы на траве и листьях горели разноцветными огоньками. Вовсю заливались, трезвонили птицы. Я брел по лесу, собирая в кепку душистую землянику. Корни сосен змеями лежали поперек тропинки…
Когда я вернулся, на кухне уже собрались завтракать. В щель приоткрытого ставня падал свет на чисто выскобленный стол. Места за ним занимали по старшинству, и упаси боже, если кто–нибудь сядет вперед отца или деда, да еще на чужое место!
Первым у окна сел дед, за ним отец, за отцом Ванюшка, потом я, а уж после меня семилетняя Лизка.
В ожидании еды мы с Ванюшкой начали говорить о ягодных местах, где часика за два–три можно с верхом набрать ведерную корзину.
Мы вчера с Сашкой Тарасовым на ежевичник напали, — сообщил Ванюшка. — Ну, заприметили, чтобы потом, когда поспеет, обобрать его.
А я знаю облепиховые места, — похвалился я.
Отец строго поглядел на нас, и мы умолкли. Все
встали, а отец начал молиться, сложив на груди руки:
Дорогой наш Иисус, творец наш небесный. Ты питаешь нас духом святым, но и плоть свою мы должны подкреплять, дабы не быть немощными и ревностно прославлять имя твое. Дай нам силы дойти до конца пути нашего, во всем принимаем твое благословение. Аминь!
Аминь! — хором повторили мы.
По длине молитвы я узнавал, как голоден отец. Короткая — сильно проголодался, длинная — совсем не хотел есть.
Отец стукнул ложкой по краю большущей алюминиевой чашки. Это означало, что можно начинать.
Окрошка была вкусной, и мы, ребятня, норовили зачерпнуть со дна кусок яйца или мяса. Но второго сигнала еще не было, а без него это не разрешалось. Кто осмеливался это сделать, того выгоняли из–за стола и целый день не давали есть.
И вот, наконец–то, два долгожданных удара. И ложки задвигались быстрее, вылавливая вкусные кусочки.
Мать подложила еще немного гущины и села на лавку к шестку, где ела отдельно из своей чашки. Тут вдруг Ванюшка, незаметно для старших, выпустил на стол большого черного муравья со связанными передними ножками. Бедняга закувыркался по столу, а Ванюшка шепнул нам:
Зарядку перед завтраком делает.
Лиза и я захихикали, глядя на муравья, и даже позабыли про гущину. Ванюшка успел съесть добрую половину ее, а мы получили от отца ложкой по лбу. Морщась от боли, мы все же хихикали, и отец всех нас поставил возле стены на колени.
На коленях мы стояли недолго, так как я стал громко просить господа, чтобы он простил Ивана за допущенный грех.
Ябеда! Трепач! — прошипел Ванюшка и залепил мне оплеуху.
Я же для того, чтобы нас простили и дали нам снова есть, — захныкал я.
Убирайтесь все из дому! — разозлился отец. — А ты, мать, не давай им жрать целый день! Пусть запомнят, как за столом надсмехаться над божьим даром!
После завтрака дед с лопатой на плече отправился в сад окапывать ранетки, отец занялся делами молельного дома, Ванюшка куда–то исчез, а я незаметно улизнул на улицу. Солнечный день ослепил меня, будто я только что вышел из темного погреба.
Перед нашим домом широченный голубой луг. Каждый день на него опускается самолет.
Я радостно вдыхаю запах цветов и полыни, к нему примешивается запах меда. Иногда накатываются волны густого тепла, точно кто–то порой открывает дверь невидимой жарко натопленной бани. Много на лугу всяких веселых трав. На белых цветах, особенно пахнущих медом, сидят охмелевшие бриллиантовые жуки. На красных — бабочки, хлопающие желтыми крыльями. На фиолетовых — свекольного цвета мотыльки.
Я прибегаю на этот луг, ныряю, как в воду, в его пахучие травы, и они укрывают меня. Лежу на спине и смотрю в небо. Кивают, будто здороваются, колокольчики и васильки. Они кажутся большущими, величиной прямо с дерево, а усатые жучки и паучки похожи на сказочных чудовищ. В гуще травы стрекочут кузнечики, где–то трещат дрозды, высоко в небе, как в гору, взбирается жаворонок. Сначала он тирликает, потом стихает и летит вниз…
Солнце обдает землю потоком пылких лучей.
Па–а–а–ве–е–л! — густо послышалось издали.
«Дед зовет, — и я плотнее прижался к земле. —
Еще заставит чего–нибудь делать!..»
Варнак, поди сюда! — не унимался дед. — Я ведь знаю, что ты здесь, — уже послышалось ближе.
«Что он? И сквозь траву видит?!» — удивился я и осторожно выглянул. Мне показалось, что по лугу шел великан.
«Еще не разглядит, да раздавит сапогом», — и я вскочил
А! Вот ты где, басурман! Пойдем–ка со мной, — дед схватил меня медвежьими лапами и посадил к себе на плечо.
Плечо у деда широкое, как на скамье сидишь. От удовольствия я засмеялся.
…Мы уже кончали поливать яблони, как вдруг над нашими головами затрещало: пролетел самолет и, как стрекоза, опустился на луг.
Опять зеленый дьявол свалился с неба, — засмеялся дед, с любопытством проследив за посадкой самолета.
В нем же дядя сидит, — возразил я, соображая, как бы поскорее удрать к самолету.
И пошто это он, летчик–то, на жизнь с высоты смотрит? — удивился дед. — Свой век на земле проживешь и то мало чего увидишь. Надо кажной минутой услаждаться, надо увидеть, как комар живет, как лягушки–квакушки любятся, как трава–мурава за одну ночь вырастает… Тяжело с ней, с землей–то, расставаться, когда час придет… Немало я походил по ней, по заросшей цветами…
И правда, дед ходил по земле как–то гордо, непохоже на остальных. Бывало, пройдется он босиком по росным травам и так доволен, что по всему лицу растекается радость. Казалось, он никогда не устанет ощущать под ногами землю…
В такие минуты отец смотрел на него с сердитой укоризной. Тогда, мальчишкой, я не понимал — почему. И только повзрослев, понял, что в такие минуты дед вступал в противоречие с баптистами. Дед был по натуре художник, великий жизнелюб. А баптисты учили, что человек должен чувствовать себя всего лишь странником в земной жизни, всего лишь прохожим, идущим в вечное небесное царство.
Я вспоминаю, как отец упрекал деда:
Мир полюбишь — тебя он сгубит. А твои глаза пышут похотью при виде лживых земных радостей, ты трясешься при виде их, как пьяница при виде рюмки.
Не суесловь, — смущенно ворчал дед. — Я природу божью люблю. Травы, цветы, леса, все земные дары, все земные плоды, а все это получено от творца нашего. Я божье люблю, а не сатанинское. Бог все это взрастил. Он управлял ветрами, и дождем, и солнечным светом.
А Фенька?! — отец так и жег деда неистовыми глазами. — А Фенька?!
Ну, что, Фенька, Фенька! — дед смущенно крякал. — Фенька тоже плод господень.
Не кощунствуй! — шипел отец…
Тогда смысл этих стычек оставался для меня неясен, и только вот теперь я начинаю понимать что к чему…
Улизнув от деда, я, наконец, подобрался к самолету, спрятался в высокой траве и начал глазеть на загадочного человека–дьявола, спустившегося с неба.
Мальчишки не боялись самолета, подходили к нему, трогали руками, просили летчика, чтобы он покатал их. Осмелел и я, вылез из травы, остановился в отдалении.
Летчик выбрался на землю. Он, и впрямь, не очень–то походил на человека. Одет он как–то чудно — и страшно, и непонятно. Хорошо, что подбежал ко мне Ванюшка и стал рассказывать об очках–консервах, о шлеме с наушниками, о комбинезоне с разными блестящими пряжками. Я глазел на перчатки с крагами, на меховые сапоги, на большой квадратный мешок за спиной. Зачем он ему?
И самолет такой же необыкновенный, как и сам хозяин. Какие–то провода, перекладины, подпорки, поддерживающие верхние крылья. Все сооружение напоминало этажерку.
Вот летчик снова залез в кабину.
Мотор затарахтел, что–то хлопнуло, клуб дыма поднялся к небу, и я отбежал в сторону. Но самое страшное было то, что самолет шевелил хвостом, и даже половинки крыльев — и те шевелились!
Выпучив стекла кабины и поблескивая ими, как глазами, самолет поехал прямо на меня!
Я бросился к своему дому, ворвался во двор, грохнул тяжелой калиткой.
Ты чего здесь без дела шляешься? — спросила мать, выходя из курятника с пустым лукошком.
Да я… я деду ранетки поливать помогаю, — ответил я, едва переводя дыхание.
Ври больше, дед вон дрыхнет в саду. Пойдем–ка со мной.
Мать привела меня на кухню и посадила за стол, на котором лежала толстенная Библия, а сама вытащила из–под печки пряселку с куделью, воткнула ее в донцы, уселась на них и сказала:
Почитай–ка мне.
Вздохнув, я открыл Библию и забубнил… Едва кончил одно, а мать снова просит:
Прочитай–ка там, сынок, еще от Иоанна вторую главу, — а сама все трещит веретеном. Многое в Библии мне было непонятным, и я спрашивал мать. А она, толком не умея объяснить, рассказывала долго и тоже непонятно. Я просто изнывал от скуки, читая то Библию, то баптистский журнал «Братский вестник», но вырваться из кухни не было возможности — неумолимая мать усердно пеклась о моей душе…
Закончив заданную главу, я с превеликим удовольствием захлопывал книгу и облегченно говорил:
Все, мама! Я пойду?
Но не тут–то было! Благостным, умиротворенным голосом она распоряжалась:
Почитай еще от апостола Павла пятое послание.
И я читал, читал до беспамятства…
Совсем одуревший от чтения, я вышел перед сном подышать свежим воздухом.
Звякнула щеколда. Пришла Феня. Беззвучной тенью скользнула она к деду в его мастерскую–сарай. Зачем она приходила к деду, я не понимал. И не понимал, почему она приходила так осторожно, крадучись. Дед встречал ее всегда обрадованно. Мне она то–ясе нравилась. Красивой была Феня. В красоте с ней могли поспорить только Фрося — жена пьяницы Фильки да Анюта — счетовод «Заготсырья»…
С реки несло прохладой, над поселком сгущались сумерки. На крыльце сидел сторож молельного дома Калистрат Нимчина. Сидел он в тулупе, в шапке и валенках. Он почему–то всегда мерз, может быть, оттого, что всю жизнь возился в воде, добывая рыбу и пиявок для продажи. Каждый вечер Калистрат Нимчина закидывал в озеро снасти, а утром проверял их, остаток же дня проводил за копчением или засолкой рыбы. И непонятно было, когда он только спал.
Кто тут? — сонно спросил меня сторож, брякнув колотушкой с привязанными к ней деревянными шарами.
Это я, Никандров внук.
А, ну ступай с богом, куда надобно.
Да я с тобой посижу.
Сиди, коль охота, — сторож тихонько сопел широкими ноздрями.
В проулке послышался пьяный голос, и скоро перед нами появился Филька Милосердов.
Здорово, дед!
Ступай мимо, — лениво попросил Нимчина.
Я по делу к тебе, а ты… Жрать я хочу, вот что, — проныл Филька.
А тебе чего здесь, харчевня, что ли? — рассердился сторож.
У вас, поди, после моленья чего осталось? А может, рассол капустный есть? Опохмелиться бы, — Филька сплюнул. — Аж в голове мутит. Со вчерашнего вечера не жравши. Жена–то в гости уехала, и некому накормить меня.
На водку–то нашел, небось…
Дай рассолу! — взмолился Филька.
Сейчас получишь. Сколько тебе, много?
Да хоть ковшик, — Фильку трясло.
Подай–ка вон палку–то, вишь, стар я, без нее как без ног.
Филька вмиг подал палку.
Дай бог тебе жить долго, Филька! — И сторож неожиданно поднялся и треснул его палкой по заду.
Да ты что, сдурел, старый?!
Вот тебе похмелка! Не проси, где не следует! Тут тебе не кабак, а молельный дом. Ступай своей дорогой, а помолиться с утра приходи, — старик опустился на крыльцо и, положив поближе к себе палку, забормотал :
Ишь ты, в святой дом опохмелиться пришел…
Я смеялся, видя, как Филька, пошатываясь, семенил к своей избе.
БУДНИ
Дед вызывал у меня опасливое любопытство.
Мне всегда хотелось узнать, какие мысли бродят у него в голове. Дед был невозмутимо спокойный и даже какой–то таинственный. Волосы у него росли из ушей, ноздрей, на груди, на спине, на руках и ногах. Густые, длинные, с легкой проседью лохмы спадали до плеч, оставались открытыми лишь глаза, слегка фиолетовый, будто распухший, нос–картофелина и маленький рот с полными губами. Когда дед смеялся, были видны ослепительно–белые красивые зубы. А ему было уже шестьдесят пять лет. Большие зеленоватые глаза его смотрели загадочно и многозначительно. Может быть, из–за этих глаз и побаивались его в поселке.
В субботу дед крикнул моему отцу:
Никишка, где ты?
Чего тебе, тять? — услужливо отозвался отец.
Подстричься!
Отцу только этого и надо. В поселке нет парикмахерской, значит отец может выжимать из дедова кошелька по двадцатке каждую субботу.
Однажды дед сказал, что женится на Фене, а отцу это не понравилось. Мол, пойдут у них дети и дед все деньги на них перепишет. Вот и старался отец. Брал за стрижку, брал за то, что парил в бане. Договорятся за десятку, а дед разомлеет от жара и кричит:
Никишка, жварь на всю двадцатку!
И вообще все просьбы деда отец удовлетворял только за деньги. Хоть десятку, хоть три рубля, да вырвет у него. Отец злился и завидовал тому, что дед скопил немало денег…
Отец взял в руки металлическую расческу, ножницы и, подойдя к деду, спросил:
Сколько на сей раз?
Двадцать. Больше не дам, — заявил дед, оценвающе поглядев на свои волосы в зеркале, вставленном в самодельную фигурную раму. — А то разоришь ты меня вконец!
Го–го–го! — засмеялся отец. — Разоришь тебя! Это вот Фенька твоя…
Замолчи! — прикрикнул дед и покосился на меня.
Ладно, батя, живи, как хочешь. Ты мне не помеха, — продолжал отец, чикая ножницами.
Не помеха! Дурак! Я тебя насквозь вижу. Смерти моей ждешь. Умрет, мол, все мне достанется. А я не дурак! Не корчись. Золотишка у меня нет, а то, что есть, я с собой унесу. Не хочу, чтобы после смерти надо мной гоготали. Вот, мол, старый дурак! Копил, копил деньжата, а мы их прикарманили. Я им место найду. А ты облизнешься только.
С собой в гроб ничего не возьмешь, — разозлился отец.
Замолкни! — вскочил дед. — И чтоб больше ни слова об этом! Как велит душа, так и будет, — когда дед успокоился, он снова сел к зеркалу.
Опять посыпались на пол клочья дедовых волос. Некоторое время он угрюмо глядел на них, а потом заговорил глухо и встревоженно:
Вот так и человек… Скосит его безносая, и будет он валяться никому не нужный. А может, и я так–то вот… Понимаешь, никому не нужный, ни богу, ни людям? — И вдруг глаза его округлились, он испуганно прошептал: —А что если там, — он покосился вверх, — там ничего нет? А? Умру, а там ничего? Пустота одна. И бессмертной души никакой нет? А есть только одна, земная жизнь? А мы ее отринули во имя пустоты?
Что ты, что ты, — отец испуганно отшатнулся от деда. — Верить надо сильнее. Ведь сам знаешь, что умом бога не постичь. В него нужно только верить, безоглядно верить. Ты же избранный, крещение принял. Да ты что? Вот ведь что может случиться, если хоть щелочку оставишь для земного. Гони его от себя.
Торопливо вошла мать и воскликнула:
Наказал господь антихристов!
А что? Что? — так и встрепенулись отец с дедом.
Затор! Плотину–то, видно, размоет. Вода через край идет. Вдоль берега все огороды затопило. Бабенки охают, а я им говорю, обратитесь, мол, со своей скорбью к богу. Тут они и давай его поносить. А я им кричу, что, мол, господь еще сильнее их накажет. Так они меня на смех подняли. Татарки дурой обозвали и всяко представили. А Фроська–то, Фроська, Филькина бабенка, пуще всех смеялась!
И накажет их господь, сегодня же накажет. Фроська больше всех смеялась? — спросил дед.
Она, она!
Ладно, — задумчиво протянул дед. — Ладно… Господь, он ко всем справедлив, кого накажет, кому поможет. — Дед встал и ушел в свою комнату за деньгами, расплатиться с отцом за стрижку. Деньги он хранил в сундуке.
Мне всегда мучительно хотелось порыться в этом сундуке, но дед гнал меня. И все–таки, хоть издали, мне удавалось заглянуть в сундук. В нем лежало много всякой неношеной, незнакомой мне одежды, темнели старинные книги с медными застежками.
Однажды, когда дед уехал в соседнюю общину, я попытался отомкнуть сундук, но у меня ничего не получилось. Замок был надежен.
Сегодня я проскользнул вслед за дедом, притаился в сторонке и вновь увидел таинственные вещи. Из сундука сильно пахло залежавшейся одеждой, нафталином, кожей и старой бумагой. Дед запустил руку глубоко в сундук, что–то вытащил — наверное, деньги, — сунул их в карман и вдруг стремительно оглянулся, увидел меня.
А ну, пошел отседова, пока цел! — взревел дед. Я вылетел за дверь.
Прибежав на речку, искупался, а потом лег на спину и стал глядеть в небо, по которому лениво ползли облака.
Неожиданно к речке спустились мальчишки с нашей улицы. Среди них я увидел одноклассника, рыжего Тольку Пономарева.
Ребята, бей бактиста! — загорланил во все горло Толька. — Грязью его, грязью! В меня полетели ошметки ила. Я вскочил и тоже начал бросать в них комками земли.
В морду ему, ребята, в морду! — вопил Толька.
И вдруг в его лицо шмякнулся комок грязи.
Я обернулся и увидел подбегавших Ванюшку с его другом Сашкой Тарасовым. Мои обидчики бросились от речки в деревню.
Чо один ходишь? Беги домой, а мы на ту сторону, — сказал Ванюшка, и оба побежали к мосту.
«Боялись бы меня так, как Ванюшки», — позавидовал я.
Засунув руки в карманы, я пошел по берегу к мельнице.
Возле пруда белела высокая и узкая паровая мельница. Земля чуть дрожала, когда я подошел к ней. Двое мужиков перекрывали ее крышу заново. Они показались мне лилипутами. Как призраки, мелькали по лестницам белые от мучной пыли мельники.
Прячась за холмиками шлака, я спустился к пруду, надеясь увидеть Сашку с Ванюшкой. В пруду купался какой–то мальчишка…
Я пошел дальше, к затору.
Из–за поворота речки послышалась громкая ругань сплавщиков, а через некоторое время я уже был рядом с ними.
Ах ты! Эх ты, сколько навалило! Еще дня два растаскивать будем, — пропитым голосом сказал Мар–кел Тарасов, отчим Сашки, Ванькиного дружка.
Работал Маркел машинистом на локомобиле в лесхозе. На войне он потерял одну ногу и ходил на протезе, обутом в старый ботинок.
Протез–то будто в бане распарился, ишь, какой тяжелый стал, — сказал Маркел, бродя по колено в воде и отталкивая багром вытащенные из затора бревна.
Я оглядел бригаду. Среди знакомых увидел депутата поселкового Совета дядю Савелия, рабочего склада лесхоза Парфена, его подругу — счетовода Анюту, заместителя старшего пресвитера Евмена Редько, его сына Проньку и нескольких верующих, работавших на лесосплаве. Тут много было и незнакомых мне.
На перекате беспорядочно нагромоздившиеся бревна загородили реку.
На глубоком месте стоял на якоре большой плот. На нем суетились мужики с баграми, веревками и ломами.
Сплавщики ловко лазали по бревнам и одно за другим вытаскивали их из беспорядочной груды. Они уплывали на чистую воду к устью, где из них вязали длинные плоты.
Евмен в засученных до колена старых штанах прыгал с бревна на бревно. Ступни у него широкие и длинные. Пожалуй, в поселке ни у кого не было таких большущих ног. Руки у Евмена почти до самых колен. Прыгнет он на бревно, а ступни — шлеп!
Узкая голова его похожа на дыню, разбухшие, как вареники, уши торчат в стороны, короткие, ершистые брови точно наклеены. Маленькие грязно–серого цвета глаза глядят из глубоких впадин настороженно и хмуро.
Евмен орудовал ловко и быстро. Раз, раз — и узел готов! Тяни, ребята!
На отдых, мужики! — крикнул дядя Савелий. Он работал бригадиром на пилораме в лесхозе.
Отдохнем, перекусим, да и айда по новой, — проговорил дядя Савелий, снимая насквозь пропотевшую, прилипшую к телу гимнастерку — он недавно вернулся из армии. По праздникам Савелий носил две медали «За отвагу». Руки у него жилистые, сильные. Бородка седая, реденькая, точно выщипанная, усы значительно гуще, в середине они коричневые, продымленные. Дядя Савелий курил махорку из самодельной трубки–люльки.
Мужики вышли на берег, опустились на траву, запыхтели трубками, цигарками.
Павел, собери–ка для огня дровишек, — попросил меня дядя Савелий.
Я надрал с изгороди бересты, собрал валежник и все это притащил к привалу.
От мужиков сильно пахло потом, илом. Сначала они сидели молча, а потом разговорились.
Маркел, ослабив на левой ноге протез, пожаловался :
Нога ноет, к ненастью, что ли?
Шел бы домой, ведь тяжело, — предложил дядя Савелий. — Разве тебе за нами угнаться?
Да я еще горы сверну! — обиженно возразил Маркел, вытирая со лба пот матерчатым картузом. —
Сенокос меня волнует. Все жара да жара, дождей нет.. Трава нынче невысокая, на зиму скоту не хватит. Видно, придется картофельную ботву пускать в дело. А что это за корм? Горе одно. И ведь что удивительно, дожди пролились вовремя, а вот трава не пошла в рост. Может, замешался тут худой глаз, а? — пытливо всматриваясь в лица мужиков и поглаживая широкую, как лопата, черную бороду, спросил Маркел. — Вот и Иван Мотюнин отправился на тот свет, а из–за чего? Знамо… Знамо…
Иван Мотюнин жил с женой и дочерью напротив нашего дома. Часто в его хате шумели гулянки. Мотюнин, бывало, откроет окно и кричит частушку, всегда одну и ту же:
А Кудрявцевы–баптисты
пускай молятся за нас!
И–эх–эх!
Потом выйдет из дому, подойдет к нашему кухонному окну и, хмельно улыбаясь, говорит:
Эй, Кудрявцев, вон Христос идет к тебе в пол–литрой!
Мотюнин стоит и ухмыляется и все повторяет эту глупую фразу, пока не выйдет дед и не рявкнет:
Ну, чего ты, пьяная рожа, торчишь под чужими окнами. И не совестно? Вылупил бельмы–то!
Хо–хо–хо! Я водку пью, а вы — кровь ХристовуГ А она без градусов, и никакого толку в ней нет. Не–укради, не убий, не прелюбодействуй. А сами… Эх, вы! Все я знаю. Община! Шайка–лейка.
Прикуси свой поганый язык, — дед угрожающе наступает на пьяного. — Пес ты смрадный! Погоди… Изъедят тебя язвы… Скоро чесаться станешь… Удержу тебе не будет…
Мотюнин бледнеет, пятится к своей избе…
Несколько дней частушек не слышно. Они возобновляются в следующую гулянку. А наутро Мотюнин боязливо заглядывает к нам в калитку и, увидев деда, спрашивает:
Никандр Никанорович, я вчера с вами не ругался?
Притка (П р и т к а (обл.) — внезапная болезнь, полученная, по суеверному представлению, путем наговора, порчи и т. п.)тебя знает! Вроде нет, — усмехается Дед.
Тогда это мне, наверное, приснилось. Что же это такое? Все одно и то же снится? — недоумевающий–Мотюнин уходит, садится на лавочку возле своей избушки, начинает чесаться и не может понять — повторный сон приснился ему или он на самом деле снова ругал деда?
А однажды Мотюнин рассказал дяде Савелию страшный сон. Я неподалеку сидел в траве и слышал их разговор.
Понимаешь, и снится мне, будто я снимаю рубаху, глянул на себя, да так и обмер. На груди и животе поганые цветы выросли! С лепестками толстыми, как у кувшинок. Да только цвет–то их не желтый, а зеленый. Как я дал по ним рукой, они и отвалились! И ничуть не больно мне, только после этого я ощутил •страшный зуд на груди. Просыпаюсь и сразу к зеркалу. Посмотрел, чистая грудь. Успокоился немного, ковш браги выпил, ничо, захорошело. Вроде успокоился. Как хмель начал выходить, так снова мне цветы мерещатся. Вот и пью сейчас!
И пошто ты с этим баптистом связываешься? — рассердился дядя Савелий. — Слабый ты душой. От самовнушения сдохнешь! Бросай–ка пить и мотай от–сюдова подобру–поздорову. Ведь не стерпишь, опять ругаться пойдешь. Я себя здоровым считаю — и то опасаюсь этого человека.
Уеду, — пообещал Мотюнин и, как бы проверяя, провел ладонью по груди.
Не сдержал слова Иван, опять запил, и ссоры продолжались… Наконец, заболел Мотюнин. Продала его жена избушку, немудреные пожитки, и отправились они на Алтай. Кто–то сказал им, что там есть целебное озеро…
До пристани Мотюнина везли на тележке. Он стонал и все бормотал:
Никандра Никанорыч, прости меня, — и все тер рукой грудь, на которой образовались язвы…
Все это припомнили сплавщики, сидя у костра. И показался мне дед злым колдуном.
А Евмен Редько, выслушав все это, убежденно заметил:
На все воля божья! Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наказал его господь. Надо было покаяться господу, а он смеялся над избранным.
Да что ты зарядил, все бог да бог, — дядя Савелий посуровел. — Вы, баптисты, талдычите все о боге да о смерти. Это надо же, отказываться от жизни, от всего на земле! Небось, и своему пацаненку уже это внушаешь? А ему всего–то двенадцать лет. Ему еще жить да жить, а ты его от жизни, от людей отрываешь,, к смерти, к раю готовишь.
Евмен Стратионович Редько работал в лесхозе кладовщиком. Приехал он откуда–то с Украины. Чем он там занимался — никто не знал. От людей я слыхал, что Евмен умеет гипнотизировать и что за несколько минут он может усыпить человека.
Скоро, после приезда в поселок, Евмен начал строить себе дом. Он привязывал к бревну веревку и один тащил его в нужное место.
Мы от земного да от людей не бегаем, — продолжал Евмен спорить с Савелием. — Оглянитесь вокруг— сколько вместе с вами работает наших сестер и братьев.
Это верно, — согласился дядя Савелий.
Разве они хуже вас работают? А не лучше ли порой?
И это верно, — опять согласился дядя Савелий.
Ваши пастыри говорят вам, что труд — это главное в жизни. И то же самое проповедуют наши проповедники. И Библия воздает должное всякому труду. Члены нашей общины обязаны быть прилежными работниками. И мы блюдем это строго. Христос был сыном плотника и сам так работал, что ему иногда и по–есть–то было некогда.
Все сидевшие и лежавшие у костра слушали Евме–на, а Евмен, увидев это, уже не говорил, а проповедовал горячо и убежденно:
И ваши вожди, и наши проповедники зовут к единому. Бог учит: трудитесь! Коммунисты тожа учат: трудитесь! Тут разницы нет.
Вот это дает!
Попробуй поспорь с ним!
Палец ему в рот не клади! — раздалось вокруг. Некоторые с любопытством поглядывали на дядю Савелия, ждали, как он сразится с противником.
Труд — это станок, на котором ткется душа человека, — учим мы, — продолжал Евмен.
Но какая душа? Вот ведь в чем загвоздка! — пошел в наступление дядя Савелий.
Христианская, — смиренно ответил Евмен.
Вот то–то и оно! А мы ткем советскую душу.
Вокруг зашевелились и тут же замерли в напряженном ожидании.
Я ведь вникал в тонкости ваших дел. Библию, читал, ходил к вам на моления, вот с его дедом и батькой толковал, — дядя Савелий показал на меня. — Вы труд считаете долгом перед богом. Так ведь? Так! Вы, работая, выполняете божественную волю. Тут и зарыта собака!.. Мы вот разбираем завал. Мы знаем, что это нужно для людей, для народного хозяйства. Тут каждый из нас проявляет свою смекалку, придумывает, как бы сделать это половчее. И мы верим в свои силы. А когда одолеем этот затор, мы почувствуем себя еще сильнее. Так, что ли, мужики? — спросил, смеясь, дядя Савелий.
Давай, давай, чего там! — поддержали его.
И все сделанное будет делом наших рук.
Э–хе–хе! Гордыня, гордыня! — сокрушенно вздохнул Евмен. — В природе и в жизни все зависит от воли божьей. И затор этот от бога, и если вы его разберете — тоже будет от бога.
Вот–вот! — воскликнул дядя Савелий. — Бог — все, а человек — ничто, бог — всесилен, а человек — бессилен. И вы — за труд, и мы за труд. Но только ваш труд призван унижать человека, а наш — возвышать, нам труд радостен потому, что мы созидаем, а вам труд радостен, потому что вы через него будто бы приближаетесь к богу. Мы думаем о всех людях, как бы им получше стало, а вы каждый о себе, как бы угодить богу. А до других вам и дела нет. Нас труд учит думать, а вас учит быть ничтожными во имя Христа. Вот ведь оно что получается!
Ну, дядя Савелий! Голова!
В самую точку ткнул!
Вы смотрите, как у них, у баптистов–то!
Хитро! У. них, брат, тоже головы варят!
Заговорили, зашумели вокруг костра, над которым
висел котелок на палке.
Евмен Редько смотрел на всех со скорбью и сожалением, которые он явно подчеркивал, дескать, мне жаль вас, слепых, погрязших в грехах.
Я, конечно, тогда не понял до конца смысл этого столкновения. Но я почувствовал, что жизнь общины и жизнь поселка разные, что они враждебны друг другу. И еще я почувствовал, что с этими мужиками у костра и с дядей Савелием мне лучше, интереснее, чем с баптистами, которые все время скучно говорят только о боге да о грехах. Из–за этого все верующие мне казались стариками и старухами. А все мое мальчишеское существо рвалось к радостям, к шуму жизни, к ее «греховным соблазнам», как говорили в молельном доме…
Я слышал, ты уезжать собираешься? — спросил у Евмена дядя Савелий.
Собираюсь помаленьку. Стареть стал, климат в Сибири для моих костей не подходящий… Поеду на родную Украину славить Христа, — твердо и строго произнес Евмен.
Стало быть, с тебя причитается! — хитро заметил Маркел.
Не пью я…
А ты, Евмен, можешь не пить, мы сами за твой отъезд выпьем. Было бы чего, — пошутил кто–то из сидящих.
Все равно грех, — возразил Евмен.
У нас свое есть; вот картошка испечется, — остановил шутников дядя Савелий.
А что, сказывают, план мы в этом месяце не выполним? — спросил Маркел.
Почему это? — удивились мужики.
Машины–то встали. Те, что вместо бензина работают на чурках. Кончились энти чурки. Артель, что готовила их, на затор брошена. Вот машины и стоят, лес не подвозится, пилорама не работает.
Обещали десять «Зисов» прислать, — перебил его незнакомый мне мужик.
А толку–то? Бензина нет.
Танкер с бензином обещали! — возразил тот же незнакомый.
Надолго ли хватит несколько бочек. Пока постоянную доставку горючего не наладят, толку от «Зисов» не будет. — Маркел прикурил трубку, пустив облачко дыма.
Пилорама, допустим, план даст, — вступил в разговор Савелий, — лесу еще на полсезона хватит, а вот сплавщики… Кругляка нет, сплавлять нечего, — дядя Савелий вздохнул и скомандовал: — Ну, давайте, мужики, пошевеливайтесь, а то на Набережной улице вода по огородам ходит. Пообедаем да за дело.
Скоро свадьба–то, Парфен? — спросил Маркел у рыжего парня.
Парень смущенно заулыбался:
Не знаю, — и посмотрел на рядом сидящую Анюту.
Парфен работал у Евмена складским рабочим.
В клуб–то ходишь? — поинтересовался Маркел.
Нет, Парфен парень не такой, — вмешался Ев–мен. — Он в клуб не пойдет. Он парень праведный. Не курит, не пьет… Вот я его на кладовщика учу.
Поди, в молельный дом к себе агитируешь?! — съязвил Маркел.
Зачем же агитировать? Невольник — не бого–мольник. Его дело. Хочешь — иди, не хочешь — с неправедными оставайся. У нас все только на добровольных началах. И Парфен уже давно выбрал дорогу к нам.
К Евмену подошел его сын Пронька и позвал домой обедать. Евмен ушел.
Из золы вытащили картошку. Она дымилась, вкусно пахла. Дома–то на нее уже глаза не смотрят, а у костра она кажется лучшей едой.
Я сидел в стороне. Должно быть, дядя Савелий понял меня.
Малый, давай–ка с нами за компанию, — пригласил он.
Я подсел к ним, и мне подали картошку, сало, налили чай.
Я взял тонкий пластик сала, и он, пахнущий чесноком, растаял у меня во рту. Вкуснота!
Давайте, мужики, перекурим — и за работу. Время не ждет, — сказал озабоченно дядя Савелий.
Да, дел у нас еще много, — поддержал Савелия Маркел.
Маркел, говорили между собой жители поселка, частенько стал выпивать. Я слышал разговоры взрослых, что у него жена — горе одно. Беспутная, пьющая бабенка. Она часто исчезает из дома. Пьет у Ермола–евны, такой же беспутной. Погуляет несколько дней и снова возвращается домой, клянчит денег на похмелье.
А Маркел был мужик простой, сердобольный. И он давал ей денег. И домой ее принимал…
Пришла Дора. Принесла с собой бутылку самогона.
Это я вам, мужики, — сказала она. — Кончайте' скорее с затором, а то огороды заливает.
Дора нигде не работала, держала свиней, овец, кур, торговала в городе яйцами, шерстью. На вид Доре лет сорок. Лицо у нее розовое, пухлое, безбровое.
Помочь я пришла, — сообщила Дора.
Сунь самогонку в родник. Закончим работу,, тогда и выпьем, — распорядился Маркел.
На помощь мужикам пришли и Филька с Фросей.
Филька нес на плече багор, а в руке военную полевую сумку.
Красивым он был, этот забубенный пьяница и балагур. Чтобы заработать деньги, он вставлял жителям окна, насаживал бабам топорища, точил ножи, отбивал вдовам косы, а вечерами работал киномехаником.
Жена у Фильки, Фрося, тихая да ласковая. Глаза у нее иссиня–серые, две толстые косы черные, небольшой нос — точеный и прямой — не насмотришься на нее, так она хороша. Иногда Фрося приходила к нам в дом на моления в ярко–голубом сарафане. Она подолгу слушала проповеди отца и все вздыхала.
О чем печалишься, дочка? — однажды спросила ее одноглазая проповедница Ивановна.
Погляжу на вас, не пьете вы и не курите, а мой–то мужик опять запил, — пожаловалась Фрося.
А ты приведи его к нам, дочка. Мы побеседуем с ним, может, и образумится.
И Филька раза два приходил к нам на собрания. Таращил на моего отца веселые серые глаза и все, сказанное отцом отрицал:
Не может этого быть!
Как это не может быть? — возмущался отец. — Вот же Библия, разве она тебе ничего не говорит?
Библия водку пить запрещает, разве это дело?
Так зато в рай попадешь. К вечной жизни себя подготовишь. А эдесь мы в гостях.
Странная ваша жизнь! Да как же так? Стремитесь, стремитесь к потусторонней жизни, а вдруг там ничего нет? Вот я не буду пить, курить, от всего в жизни откажусь, буду только Христа прославлять, и вот я умираю, и ничего там, на небе–то, и нет. Выходит, я только свою жизнь загубил? Где ваша гарантия, что я в рай попаду? Где? Подайте ее сюда, и я уверую.
Наша гарантия — вера в Библию, — убеждал отец Фильку. — Верь в нее, это мудрая книга! Верь от чистого сердца и отбрось все свои сомнения. И будешь ты спасен. Вот ты Ленина не видел, а в его идею веришь через книги и документы. Библия тоже документ, и гробница Христа на горе Елеонской не выдумка. Веришь же ты в коммунизм?
Ну, верю.
А почему бы и в Христа не верить.
В Ленина–то все верят. Только вы отстранились от него. А вас скока? Всего ничего. А нас? Миллионы! А почему миллионы? Да потому, что за Лениным правда. Если бы правда была у вас, все записались бы в баптисты… Ну, вот скажи, Никифор Никандрович, хоть один из вас для пользы изобрел что–нибудь? Вы и от готового–то шарахаетесь! Живи вашей идеей, так всю жизнь на себе бревна таскать будешь. Вам ведь не до жизни. Вы согрешить боитесь. Эх, вы!
Дурак ты, Филька! — обиженно сказал отец.
Дурак на машине едет, а умный пешком идет.
И Филька, смеясь, ушел…
Покурив после еды, мужики снова взялись за работу.
Вода вовсю давила на плотину, но воду не спускали, не сплавляли и лес. Ждали, пока разберут затор. А вода все прибывала, текла уже через верх плотины. Трещали ставни, гнулись деревянные быки. Беда нависла над поселком, как черная туча. Прорвет плотину— что тогда? Навалит лесу у затора столько, что и за лето не растащить, а там зима. Скует лес, свяжет ледяными путами. Прощайте тогда тысячи кубов первосортной древесины!
Ох ты, горькое горюшко! —причитали бабы. — Не успеем уничтожить затор, рухнет плотина, вот и останутся мужики без работы, а детишки без хлеба.
И действительно в поселке, кроме консервного комбината да лесхоза, и работать негде.
Домашнее хозяйство у всех скудное, да и откуда ему болыному–то быть? Недавняя война всех вымотала. Последних коровенок прирезали.
А тут еще эта беда. Простой за простоем. Из–за них и план может сорваться. Да и какой там план, когда реку горой бревен завалило. Скрипят зубами мужики, веревки рвут, ломают багры, а бревна все не убывают.
Вот уже и стариков созвали отгонять выдернутые из затора бревна. Даже баптист Мироныч пришел. На вид он дряхлый, но на самом деле жилистый и ловкий.
А вода на плотину все жмет, рвется на свободу.
Крепись, мужики! Неужто не одолеем? — кричит дядя Савелий. — Раз, два — взяли!
И бревно ухается в воду, поднимая тучу брызг.
Я крутился на берегу среди людей, тоже пытался палкой отталкивать бревна, чтобы они скорее уплывали.
Солнце палило вовсю. Над лугом, на той стороне речки, повисло серебристое марево.
Я увидел на яру Сашку Тарасова. Он что–то кричал, махая руками.
Чего это он? Может, что случилось? — встревожился дядя Савелий.
Может, плотину прорвало? — крикнул Филька.
Мужики повтыкали багры в бревна, побежали по
ним к берегу. А Сашка кубарем слетел к речке и несся навстречу сплавщикам.
Что–то плохое случилось, — проговорил Маркел.
И тут все услышали Сашку:
Пожар, пожар! У дядя Фильки дом горит! — орал он.
Мужики снова схватили багры и бросились к поселку.
Мой–то дом возле Фильки стоит! — вскричал Маркел и заковылял на своем протезе к дороге, ведущей на яр.
Филька! Пошто рот–то разинул, ведь твой дом горит! — закричала какая–то тетка.
Филька оторопело смотрел на убегающую толпу.
Стой? Куда все–то?! Назад! — завопил дядя Савелий. — Кому затор оставили? Назад!
Но мужики не слушали его, бежали спасать свои дома. Весь поселок может дотла выгореть!
А у плотины вода не ждет. Ревет, клокочет. Того и гляди беда стрясется.
Стойте, черти! — орал Савелий. — Бревна не растащим — без куска хлеба останемся! На пожар и десяти человек хватит! Стой! Останутся ваши дома невредимые. Ветра–то нет! — Дядя Савелий бросился к груде котомок, схватил там берданку, зачем–то принесенную им, и выстрелил в воздух. Выстрел ахнул раскатисто и гулко.
Часть мужиков опомнилась, вернулась.
А Филька все стоял на одном месте, хотя Фрося уже убежала.
А ты, Филька, беги! — распорядился дядя Савелий.
А! Мне спасать нечего, — махнул тот рукой. — Долго ли такую развалюху снова построить! — И вдруг встрепенулся, закричал вслед бегущим: — Гармонь не забудьте вытащить! Гармонь!
Вот такой забубенной головушкой был Филька.
Я тоже побежал в поселок…
Мужики ведрами носили воду, растаскивали забор, обливали соседние дома. Филькина избенка пылала костром. Скоро от нее остались одни дымящиеся головешки…
Я ушел домой. У калитки на лавочке сидел дед и бубнил себе под нос:
Вот посмейтесь–ка теперь, посмейтесь…
К вечеру вода сокрушила плотину. Высокий вал прокатился до затора, ударил по нему и разворотил его. По левому отлогому берегу хлынувшая вода вымыла с корнями травы, а на правом уничтожила все огороды. Бабы ревели, зло ругались мужики…
ВАНЮШКА
Я открыл глаза и сквозь щели в крыше сеновала увидел голубизну неба.
Подъем, мужики! — кричал дядя Савелий, стуча палкой по воротам изб. — Отдохнули, и будет. Сегодня нужно реку перекрыть. Мы с лесхозовскими ребятами уже трактора и машины пригнали, копер приволокли, быки загонять. Все готово!
Я выбежал на улицу. Из изб выходили мужики, щурились на солнце, зевали, потягивались. За дядей Савелием шло человек двадцать.
Дня за четыре мост сделаем. С участков народ собрали, работа кипеть должна, — говорил он. — Главное, что технику достали, бетон завезли.
Мужики ушли к плотине. Мальчишки носились по улице. Теперь будет на что поглазеть. Такое в поселке не часто бывает.
Глядите! Бактист вышел! — закричали во все горло мальчишки, и в меня полетели камни. Не люби–80 ли меня мальчишки, и я всегда уходил играть на окраину, где меня не знали.
Я набил камнями карманы.
Косой где? — спросил, подбегая, Сашка Тарасов.
Не знаю.
А ты сколько псалмов выучил? — Сашка нарочно задел меня плечом, чтобы подраться.
Чего ты привязался? То заступаешься, то дерешься!
Сашка было замахнулся на меня, но тут появился Ванюшка.
Не приставай к нему, он же меньше тебя! Айда лучше в лес, там пеньки рвут.
Ребята прозвали Ванюшку «Косым».
Случилось это четыре года назад… Морозы тогда стояли крепкие. Однажды дед с отцом уехали в поле за сеном. Проводив их, мать собралась в магазин.
Закрой дверь, а то ненароком зайдет кто из чужих, — распорядилась мать.
Вскочив за ней босиком и в одной рубахе, Ванюшка закрыл сенки на крючок и бросился в дом, но дверь у нас закрывалась так туго, что он не смог отворить ее. Он стал кричать мне. Я толкал дверь плечом, пинал ее ногами, но тоже не смог открыть. Сбегать к соседям Ванюшка побоялся: а вдруг заберутся воры и убьют нас? Он отыскал попону, лег на ящик, укрылся ею и заснул…
Мне было страшно одному, и я заплакал. А потом задремал и очнулся от говора и топота. Мать и соседи втащили окоченевшего Ванюшку, положили его на кровать и принялись растирать его водкой и снегом. Мать молилась в углу, прося бога, чтоб он оставил Ванюшку в живых.
Ванюшка выздоровел, но почему–то глаза его стали косить. По–разному жили мы. Я учился тогда в четвертом классе, а Ванюшка — в шестом. Мне приходилось чуть ли не каждый день читать Библию, а Ванюшка был от этого избавлен. Он целые дни носился с приятелями, разорял птичьи гнезда, дразнил деревенских собак, играл в бабки и чику. Вечером заявлялся грязный, оборванный.
Мать сердито кричала:
Опять ты, изверг, штаны ухлопал! И до каких пор ты будешь издеваться надо мной?
Я–то над вами не издеваюсь. А вот вы надо мной и Павлушкой издеваетесь!
Что, что? Как ты смеешь так говорить с матерью? Вот я отцу скажу, он тебе покажет!
А я в поселковый Совет пойду, да дяде Савелию расскажу, как вы меня и Павлушку молиться заставляете. И еще в школе скажу. Вот тогда увидите, — грозил Ванюшка.
Ах ты, бессовестный! — кричала мать, но я чувствовал, что она побаивается — а вдруг Ванюшка в самом деле пожалуется дяде Савелию и в школу. После того, как приходили к нам домой депутаты поселкового Совета и учителя и долго о чем–то беседовали с родителями, те на какое–то время становились мягче, меньше заставляли нас молиться и читать вслух Библию.
«Все–таки, — думал я, — дядя Савелий — сильный, если даже мой отец побаивается его».
А Ванюшка, как ни в чем не бывало, после сердитых слов матери снова приходил таким же оборванным и грязным. Я завидовал ему, но у меня не хватало решимости так же твердо, как Ванюшка, держаться с родителями. Они это чувствовали и вымещали всю злобу на мне одном…
РЫБАЛКА
Меня разбудило какое–то бряканье в кухне. Потом что–то загремело там, упало. Я оделся и съехал по перилам вниз.
В кухню и в сени двери распахнуты. Со двора несет свежестью. Я сунулся в кухню и ахнул. Там, стоя на задних лапах, а передними опершись на полку шкафа, огромная лохматая дворняга жадно вылизывала из глубокой чашки сметану.
Я закричал, затопал босыми ногами.
Дворняга, оторопело вытаращив желто–зеленые глаза, пулей вылетела во двор. Я за ней, а ее уже в след простыл. Калитка в лес была открыта, и в нее, гогоча, выбегали напуганные гуси. Сторож Калистрат сладко спал на крыльце, положив рядом с собой колотушку и жердину.
«Хорош сторож!» — рассердился я.
Калистрат уверовал в бога года два назад. К баптистам привел его сон. Калистрат рассказывал его почти каждому встречному.
Опасливой болезнью я болел, — начинал Калистрат свой рассказ, — тиф называется. Цельный месяц без памятства валялся. Ничего не помню боле, акромя сна, а сон таковой будет… Стою я будто один в церкви на коленях, кругом свечи громадные пылают, и образа святых отовсюду на меня смотрят, да эдак пристально, что страх пробирает. Смотрят они на меня, а сами плачут. Слезы на пол падают, в маленькие свечки превращаются и становятся в ряд дорожкой. Все длиннее и длиннее дорожка, и тут вдруг оборвалась. Глядь, а там гробы стоят. Испугался я, на святых смотрю, а они глазами моргают, мол, иди к гробам–то, не стой. Пуще прежнего перепугался я. Думаю, мыслимое ли дело человека живого в гроб ложить? Встал, иду, а сам у бога прощения прошу. Подхожу к алтарю, да так и обмер. Откель ни возьмися, с левой кры–лосы две голых ноги спустились и идут ко мне. От страха я попятился. Оглянулся назад, а там пропасть бездонная образовалась, и бежать–то некуда. А ноги все приближаются, и я различил на ступнях дырки, будто кто большими гвоздями их пробил. Пригляделся получше. Батюшки! Да ведь это Христос! Над ногами ясно одежда сверкающая обозначилась. Тут и лицо проявилось, да такое вдумчивое и сурьезное. Прошел у меня страх–то. Оклемался малость. Подходит ко мне Христос. Как сейчас чувствую: пахло от него благовонным маслом миро. Положил мне Христос на голову ладонь и сказал дважды: «Пусть другие займут эти гробы». До сих пор его ладонь на своей голове ощущаю. Сказал Христос, и вдруг страшной силы гром раздался. Глядь, а Христа–то уже нет. Очнулся я, гляжу, в больничной палате, на коленях стою возлз своей кровати. Вот энтак, братцы мои родненькие, бывает, — заканчивал свой рассказ Калистрат. — После такого сна пошел я на поправку. Так и выздоровел. И в господа уверовал.
Странный был этот Калистрат. Тонкий и длинный, он ходил не сгибаясь, точно к его спине была привязана жердь. Этот человек, по прозвищу Налим, и на самом деле походил на налима. Глазных впадин у него не было, и поэтому глаза его были выпуклыми, рыбьими. Под ястребиным носом его торчали два чахлых зеленоватых пучка, смутно напоминавших усы. Тонкие большие губы тоже походили на налимьи. Летом отшлифованную лысину его прикрывал картуз со сломанным и сшитым дратвой лакированным козырьком. Пахло от Калистрата рыбой и потом. Залатанную одежду серебрила присохшая рыбья чешуя. Всю жизнь он рыбачил, знал все секреты и хитрости рыбьи. Жил он, жил бобылем и вдруг недавно взял да женился на Доре.
А ты чо это, Дора, помоложе не могла найти? — удивлялись женщины.
Фу, бабы, чо бояться–то? Хоть при месте буду. Какой–никакой, а мужик. Делай, что тебе желательно. Заступится.
Ну и сторож! — подняв с земли соломинку, я пощекотал ею в ноздре Калистрата. Он сморщил синефиолетовый нос и громко чихнул, не просыпаясь.
Я затолкал соломинку поглубже в нос ему и отбежал. Калистрат принялся во всю мочь чихать. Нахохотавшись вдоволь, я решил пойти на озеро Слезинка половить карасей.
Взял в кладовке маленькое ведерко, с крыши сарая достал две удочки и побежал.
Солнце еще не вставало, но звезды уже давно растворились в небе. Блестела роса на траве. Там, где я прошел, осталась темно–зеленая полоса. Я устроился на бережке. Скоро проснутся караси и зашныряют по озеру голодные. Далеко, в поселке, орали петухи. Лучи солнца прошлись по краю светлого неба над лесом, напоив его калиновым соком.
Дед вчера мне говорил, что в это июльское утро должны зацвести медовые травы и многие цветы. Я следил за спящим лугом, и мне вдруг стало казаться, что в травах, и впрямь, то там, то здесь вспыхивают, распускаются белые, синие, красные цветы. Или это мне чудится? В тишине и недвижности проснулся легкий, мягкий ветер, наплыл на меня. Он вкусно пах медом. Вот он тронул озеро, рассыпал рябь, перебрал стрельчатые листья ярко–зеленого камыша, пополоскал в воде серьги–ветви тенистой ивы, разбудил огромный тополь. Казалось, весь мир запах медом. Озеро вздохнуло, закурилось легким туманом. На середину озера шлепнулся селезень с изумрудными боками. С легким треском раскрывались чаши водяных лилий–кувшинок. Хлынули теплые лучи. Мир засверкал. И медом пахло. Такое медовое утро бывает только раз в году…
Дернулся поплавок, дернулась удочка. Клюет! Раз! И в траве, трепыхаясь, золотится чешуей карась шириной в две ладони. Второй поплавок из гусиного пера встал на попа и полез в омут. Раз! И… что за чудо? Линь. Да какой! Большущий. А чешуя еще краше, чем у карася. Даже голова и та отдает золотом! Переливается линь в солнечных лучах, как драгоценность.
Часам к девяти, когда солнце стало припекать, кончился клев. У меня целое ведро карасей и на проволоке в воде золотых линей с десяток.
Иду по улице и ног под собой не чую. Не всякому такое счастье выпадает.
Проспал ведь рыбу–то, дед Калистрат, — сказал я сторожу, сидящему на солнцепеке у завалинки.
Ты гляди–ка чо, сколько нарыбалил! — изумленно вскрикнул Калистрат.
А ты чо рыбачить не пошел? Сам же говорил: когда медовые травы цветут, тогда и рыбе быть.
Да простудился я, — и Калистрат звучно чихнул. — У меня еще с вечера мордушки на Слезинке стоят. Еще посмотрим, кто более нарыбалил. Ап–ап–чхи–хи!
Я пошел на кухню. Мне хотелось поесть ухи из линей, хотя за них я мог выручить рублей сто. Как раз на лыжи. Линь — рыба редкая. Два раза в год можно добыть ее. Летом, когда цветут медовые травы, и в феврале–марте, когда рыба из–за недостатка воздуха лезет в продолбленные во льду лунки. Калистрат Нем–чина много знал рыбьих тайн. Одну из них я выведал. Перед тем, как дохнуть рыбе, в прорубях появляется сначала всякая мелкая рыбешка: ерши, чебаки, гольяны. Эта рыба первой задыхается. А дня через три пойдет елец, а еще через три дня пойдет щука с линем.
Больше всех добывал рыбы Калистрат. Но секретов своих он никому не выдавал…
СЕНОКОС
Помню, как взяли меня на сенокос. В этот день все поднялись чуть свет. Я спустился в кухню позавтракать. Дед с отцом уже сидели за столом, хлебали куриный суп.
Мам, а Ванюшка где? — спросил я, усаживаясь за стол.
Вчера, как утром ушел, так и не было. Шляется где–то.
Вот приеду с покоса, самолично за его воспитание возьмусь, — пообещал дед, разрывая курицу пополам. — Совсем малый от рук отбился. Никакой от него пользы.
Похлебав супу, я покосился на блюдо, в котором лежали две курицы.
Нако вот, — и дед отломил мне полкурицы. — А енто тебе, сноха, — и дед подал матери вторую половину.
Поев, я вышел во двор, где Пеган жевал овес.
Дед какой–то жидкостью стал мазать ему бока.
Зачем это? — спросил я.
Вот дурень. Чтоб свищей у него не было. И что вы за балбесы с Иваном? Даже этого не знаете. Ни–кишка, пошто детям–то одну Библию суешь? А еще в проповедники готовишь! Проповедник все должен знать, а ты одни молитвы толкаешь. Вот поставим сено, и возьмусь я сам за обоих.
На телеге лежали бочонки, лопаты, грабли, вилы, топор. Как только заалела заря, мы тронулись.
Въехали в лес. Сосны и кедры тонули в седом тумане. Глухо стучали колеса, прыгая по корням, пересекавшим дорогу.Разлапистые ели медленно двигались рядом с нами. Иволги свистели с разных сторон.Уже проснулось солнце, туман уполз в глубь тайги. Наконец она поредела, стали попадаться поляны, покрытые буйными травами. За ними открылись обширные луга. В небе, распластав крылья, остановились коршуны и глядели вниз зоркими глазами. В траве краснела земляника. Сотни разных птиц наполняли воздух бодрым посвистом. Из высоких тростников на маленьком озере вылетели три большущих птицы.Отец схватил берданку. Не стреляй! Это журавли! — предупредил дед. — д вон лебеди, лебеди! Эх, красавцы!
Белые птицы поднялись в воздухе.
Отец бабахнул в стаю. Кувыркаясь, лебедь упал у дороги. Пеган заржал испуганно и остановился. Отец снова прицелился.
Папа, не стреляй! Жалко! — крикнул я и толкнул отца.
Выстрел прогремел впустую.
Прибью, балбес! — разозлился отец, спрыгнув с телеги. — Птица нам богом дадена. — Отец подобрал мертвого лебедя и бросил на мешки. Белоснежная грудь птицы окрасилась кровью. Даже убитый лебедь прекрасен. Чуть не плача, я развернул его большущее крыло.
Эх, вы, люди! Как же можно убить такого? А еще — взрослые.
Ломая молодой осинник, телега подкатила к прошлогоднему шалашу.
Павлуха, распрягай. Никифор, — яму под квас, — скомандовал дед.
Отец слез и в недоумении уставился на лебедя, как будто увидел его впервые.
Что смотришь, дери перья да в котел, — сказал с ехидцей дед.
Отец долго смотрел на кружащихся лебедей. Они грустно перекликались.
Прогони ты их, невмоготу слушать, — с горечью проговорил он.
Нет, почему же, слушай! — разозлился дед. — Пошто лебедушку убил? Закон не разрешает этих птиц стрелять, а Библия учит: «Люби власть, ибо всякая власть от бога».
Ты бы лучше меня пожалел, а не птицу эту, — воскликнул с каким–то неистовством отец. — Согрешил ведь я?
Эх, Никишка, Никишка! То ли мы делаем? — почти шепотом спросил дед.
Отец долго и тяжело смотрел в глаза деду и, наконец, тоже громко прошептал:
Я уже давно замечаю, что у тебя на душе смутно… Ты даже от проповедей увиливаешь…
Я притаился в кустах, слушал, пока еще не понимая, — о чем они говорят.
Как же дальше–то будешь жить?
Да вот так и буду…
Они оба тяжело опустились на валежину.
Открыл бы я всем глаза, да боюсь, — продолжал дед. — Я же всех увлек на эту дорогу. Представь себе, один придет и двадцать лет своих попросит, что богу отдал, а там и другой, и третий придет. А где я их возьму, коль у самого они сворованы?
Отец вскочил и зло воскликнул:
Значит, ты против нашей веры? Старшим пресвитером числишься, а сам…
Не против я веры, а против того, что мы людей от земной жизни отлучаем. Уж больно она сладостна, жизнь–то. А мы людям обещаем жизнь вечную там, — и он ткнул пальцем в небо. — А вдруг там ничего нет? Лебедь белую у людей убили, а вместо нее ничего не дадим?
Отец испуганно смотрел на него. Дед тяжело вздохнул, поднялся с валежины.
Ладно, поговорили и хватит, — сказал он. — Дела не ждут.
Из всего загадочного разговора я понял одно — дед не был уверен в том, чему он учил людей в молельном доме, к чему всех призывал. Меня поразила эта догадка. И наш дом с вечно закрытыми ставнями показался мне совсем угрюмым и даже зловещим. Выходит, в нем обманывали людей, лишали их радости жизни? А бога–то, может быть, и… Дальше я боялся думать. Я страшился гнева господня и кары его. Чтобы не думать, я бросился помогать деду. Мы исправили шалаш, выгнали спрятавшуюся от солнца змею, зарыли глубоко в землю лагушок с квасом, сколотили стол, скамейку, повесили над костром котелки с груздянкой и с чаем из костяники.
Отец тоже усердно работал: выпрягал Пегана, накинув поверх шалаша брезент, присыпал его с концов землей, чтобы змеи не заползали.
Я смотрел на отца и не узнавал его. Это суетился самый обыкновенный мужик, а не грозный настоятель общины, проповедник божий. Я не любил отца, но таким он мне нравился.
Давай–ка перед обедом немного разомнемся, — предложил дед, выбирая себе косу.
А что? И то дело, — согласился отец. Они разделись до пояса. Меня вовсю жарили комары и пауты, а им хоть бы что! Ну, хоть бы один комар ддя смеха сел на их спины. Заколдованные они, что ля? Дед словно помолодел.
А ну, Никифор, кто косит шибче? — задорно воскликнул он. — Давай–ка посоревнуемся, кто быстрее вон до того леска дойдет!
Трава по грудь. Место здесь низкое, земля сочная. Косцы встали рядом, враз размахнулись литовками.
Густым высоким валом ложилась трава. Я залюбовался отцом и дедом. Мускулы их играли, ветер трепал длинные волосы. Литовки сверкали и звенели.
До обеда дед прогнал полторы полосы, отец одну.
Теперь и еда пойдет за милую душу, — сказал дед, подмигивая мне. И он потер руки сухой землей, потом вымыл водой. Я удивился этому, а дед объяснил мне:
Земля–то чище воды.
Ели много, уж очень вкусна наша сибирская груз–дянка. А чай с костяникой? Пьешь его и пьешь. Даже хлеб и тот имел в поле какой–то необычный запах и вкус.
Ну, а теперь вздремнем под той вон сосной, — предложил дед. Они натерли друг другу спины дегтем.
Вы это зачем? — спросил я.
Да чтоб комары не ели, — откликнулся дед.
Тогда и мне помажьте.
Нельзя, кожу съест.
Деготь не съест, а комары вот съедят.
От него ты будешь пуще вертеться, — рассмеялся дед.
Они легли и вскоре уснули, а я еще долго смотрел на пышную хвою сосны. Вершина ее шумела в ветре.
Хотя и день, а спать страшно. Вдруг змея укусит? И все–таки я не заметил, как уснул.
Меня разбудил легкий шлепок по щеке.
Чего рот–то раскрыл? А ну горлянка заползет?! — предупредил дед, присаживаясь возле меня.
Какая горлянка?
А вот есть такие змеи. Уснет человек в поле, рот откроет, а она тут как тут, раз — ив животе у него!
А может, уже заползла в меня? — испугался я.
Да не заползла, — успокоил дед. — Вот слушай дальше. После змея начинает травить человека. Болеет человек, тощим становится, ничего не ест. Так и умрет, если ее не выгонят из него.
А как ее выгоняют?
А вот как: ведут больного в баню и там распаривают все его тело. А в углу где–нибудь ставят блюдце с молоком или малиной. Потом все прячутся и затихают. Змея, почуяв лакомство, выползает изо рта, тут и бьют ее у блюдца.
Дед сильно напугал меня этим рассказом.
Чтоб она не заползла в тебя, ты спи со спичкой во рту. Засыпай, а сам чувствуй ее, тогда рот и будет все время закрытым.
К ночи дед уехал за Ванюшкой. Мы с отцом запаслись топливом, разожгли большой костер. Сидели молча, глядя на танцующие языки пламени. Птичий гомон стих. Слышно было, как, засыпая, вздрагивал осинник да тихо шумели сосны.
Пламя подкрашивало бровастое лицо отца. Иногда на него проливалась глубокая тень.
В глубине леса блуждали какие–то синие и зеленые огоньки. Они порхали над черными пнями и кучами валежника.
Ты знаешь, что это за огоньки? — спросил отец.
Нет.
Это искры от разорванного чистого сердца Адама. Не всем случается видеть их. Кто увидит их, тот в рай попадет. Показываются они только избранным. — Тень отца была огромной, будто великан сидел среди вековых сосен. — После того как Адам согрешил, его сердце сгорело и рассыпалось искрами. С тех пор люди и грешат. А искры Адама летают по всему белому свету. Они являются перед грозой, потому что господь не любит их и не хочет, чтобы люди поймали искорки. Если поймают хоть одну, люди больше не будут знать, что такое грех. Смотри, сейчас я попробую поймать их.
Отец долго ходил по лесу, хватал искры руками, но они уходили из–под них. Отец вернулся к огню и начал молиться:
Господи, прости меня. Не дай погибнуть немощному рабу твоему… Отец молился долго, пока не рванул ветер и не разогнал искры.
Я еще не знал тогда, что эти искры обычно появляются перед грозой в том месте, где много гнилушек.
Вот, я же говорил, что господь не любит, когда начинают ловить искры, — сокрушенно сказал отец, кончив молиться и вставая с колен.
Поднялся ветер. Костер хлестал отблесками по стволам сосен, которые, раскачиваясь, громко шумели густыми ветвями. С них сыпались сухие шишки.
Тайга бушевала, пенилось и бесновалось озеро. Живая тьма гудела и шуршала подсохшим сеном, унося его из валков.
Ну, разыгралась не вовремя, — ворчал отец.
И опять он стал походить на простого мужика, а не на главу общины.
Пойдем спать, — позвал отец. — Ишь, господь–то как сердится.
И словно в подтверждение сказанному раздался сухой треск, будто сломали пучок огромных лучин. Мы ослепли от молнии. Где–то вдали поливал дождь.
Стороной пошел, слава богу! — радостно проговорил отец и навалил на костер смолевую колоду. — Ну, айда, соснем малость.
Мы приехали с покоса недели через две. Сена накосили столько, что дед сказал:
Слава богу, опять нонче продавать будем. Трава хорошая, все больше клевер, рублей по двести за воз пойдет.
ПРОШЛОЕ МАТЕРИ
Однажды встал я на заре и вышел из дому на луг. Росы не было, багровая заря охватила восток. Верная примета — к дождю.
Я дошел до реки. Бурая трава тянулась широкой полосой вдоль реки. Небо висело над ними темное, печальное и совсем не розовело от зари. Кто–то гнал по траве коня. Глухо стучали копыта. Мне стало почему–то грустно и тревожно от этого неба, от этой неозаряющей зари, и я вернулся домой.
Во дворе в большом ящике отец что–то месил босыми ногами, засучив брюки до колен. Потом вылез, принес из коровника несколько лопат навозу, кинул
его в ящик, добавил песку, глины и снова зачавкал широкими ступнями.
Помогай, чего стоишь? — сказал он мне.
Я нехотя засучил штаны и полез в ящик, спросил:
Для чего это?
Стены подмазывать буду, — объяснил отец.
Мы приготовили раствор и с полными ведрами поднялись наверх. В зале я увидел голые стены. Мать прибивала дранку в тех местах, где виднелись серые бревна.
Замазывай следом, — сказала мать отцу.
Отец принялся шлепать густой раствор на клетки из дранок. А я устроился на пыльном диване. Ярко горели керосиновые лампы. Резко пахло известкой, мокрой глиной.
И на кой шут ты все это затеяла? — проворчал отец.
В божьем доме должно быть чисто.
Чисто должно быть в душе. А где она, эта чистота? Все наши помыслы, все чувства — смрад и суета. Душа рвется на небо к господу, а тело — на землю к сатане. Так и раздираемся надвое. А особо ты. До сих пор плачешь о своей земле да мельнице.
Это за грехи наши такое испытание дано нам всевышним, — горячо возразила мать.
Душа ни к чему не лежит, из рук все валится, — отец шмякнул липкий ком на дранку и ушел.
Наш дом с закрытыми ставнями хранил много тайного. Вот и сейчас отец сказал загадочное о какой–то земле и мельнице. Мать, что–то невнятно шепча, ушла. И как только появился дед с охапкой дранок, я пристал к нему с вопросами.
Ишь ты, пострел, — покачал он головой, — все тебе знать надо!
Все, — подтвердил я.
Ну, так слушай. Только не болтай об этом.
Мы сели, и дед начал:
Богатой кулачкой твоя мать была. Отсель за сорок километров проживала в Заковряжке. Муж у ней был, ну, вроде как твой отец. Его потом в тюрьму загнали. Там он и кончился. Он со свекром председателя колхоза убил. Хотели они снова свою власть сделать, да не вышло. В общем, раскулачили твою мать и повезли в Нарым. А по дороге она возьми да и сбежи.
3 метель пешком в сторону нашего поселка пошла. В поле–то ее и замело снегом. Благо я в ту пору ехал домой из города. Учуял ее мой конь. Я и откопал ее из сугроба. Чуть живую привез в этот молельный дом. Ничего, отошла бабенка. Красивой была. Приглянулся ей мой сын, Никифор, вот и поженились они. И вас, оглашенных, нарожали.
Дед молчал и неожиданно заявил:
Уеду я скоро, внучек, отсюда, оставлю все им, пусть живут.
Куда уедешь? — забеспокоился я.
В город. С Феней там буду жить.
А я–то как без тебя? Говорил, что рисовать научишь. Бери и меня с собой!
Нельзя, внучек. Ведь у тебя мать с отцом есть.
Нет, я с тобой поеду! — воскликнул я, прижимаясь к деду.
Стало быть, любишь меня, хоть и бью иногда тебя?
Ты за дело бьешь!
А как же отец–то с матерью? Ты не любишь их, что ли?
Не люблю! Они всегда со мной злые. Только колотят да молиться заставляют. Ну, возьми меня с собой!
Возьму, коль отдадут.
А не отдадут, я все равно сбегу!
Эх ты, голова твоя садовая, — добродушно сказал дед.
Он о чем–то задумался, потом решительно сказал:
Никого я не возьму с собой. Сами по жизни ступайте. Ванька уже на твердую тропку встал. И ты на нее выберешься. Перед вами две жизни, одна во Христе, другая в миру. Выбирайте, да смотрите — не ошибитесь.
Я уже понимал, что Ванюшка выбрал жизнь мирскую. Он мне казался отчаянным. Сам же я страшился бога, трепетал при мысли о его карах. Я не знал, что мне делать.
ДЕДОВО ВОСПИТАНИЕ
Ванюшка привел Сашку Тарасова. Дома никого не было.Воспользовавшись этим, я, вместо Библии, читал сказки. Ванюшка слазил в подполье и достал оттуда целую банку малинового варенья и пироги с требухой, которые мать испекла к отцовским именинам. Усадив Сашку за стол, он стал угощать его. Вдвоем они быстро расправились с вареньем и снова куда–то унеслись. Пришедшая
мать захлопотала по хозяйству и скоро обнаружила пропажу.
Ванькины дела это, Ванькины! — закричала она.
Ванюшку, насколько я помню, сильно не били. Может, из–за жалости к нему, потому что он косой.
Но на этот раз мать будто взбесилась. Когда вечером Ванюшка заявился домой, она встретила его криком:
Не били мы тебя, ирода, но на этот раз отец тебе шкуру спустит!
А чего я сделал? Я только Сашку угостил. Он ни разу в жизни варенья не ел… Я ведь немного… Всего банку… — оправдывался Ванюшка.
Банку! Это мало тебе, идол?! — кричала мать. — В субботу же отец тебя драть будет! Ишь, какой благодетель нашелся! Тебя, небось, никто не угостит.
И на другой день Ванюшка провинился.
Когда все взрослые разошлись по своим делам, я опять взялся за сказки.
Прибежал Ванюшка, покосился на меня, поставил возле шкафа с посудой табуретку и встал на нее. Я из–за книги наблюдал за ним. Ванюшка протянул руку к стеклянной вазе, где мать обычно хранила деньги. Он оглянулся, а я прикрылся книгой.
«Грех воровать, — подумал я. — Бог накажет». Я представил себе, как у брата отсохнут руки. И меня может наказать бог, потому что я все видел.
Ванюшка сунул деньги в карман и спрыгнул с табуретки.
Ничего не видел? — строго спросил он.
Нет, а что?
Ванюшка погрозил кулаком.
Скажешь матери, убью! — И убежал на улицу.
«Обязательно скажу отцу, чтобы греха на душе не
было, — подумал я. — А то и меня накажет бог. И у меня руки отсохнут». — От страха я влез на печь.
Через некоторое время пришедшая мать обнаружила новую пропажу. Ее лицо сразу потемнело.
«Вдруг она подумает на меня?» — испугался я и хотел было сказать ей, что деньги украл Иван, но страшны были и кулаки брата, и гнев божий ужасал.
Пришел отец, и мать рассказала ему о пропаже
четвертной.
Ванькины это дела, конечно, — взвыла мать.
Я затаился. Отец молча шагал по кухне и шумно сопел. У него играли желваки, широкие ноздри подергивались.
Ну, я Ваньке спуску не дам, — зло сказал отец. — Никаких депутатов не побоюсь, на учителей не посмотрю. Ведь я Ваньку буду драть не за то, что от секты отворачивается, а за воровство. А в таком деле мне никто не указчик.
Мать принесла толстый прут, положила на лавку.
Появился дед, сел на скамью, сказал сердито:
Учи их, Никифор, строже учи. Меня вот тоже смолоду учили, да вот по сей день говорю, что мало учили. Любишь дитя — не жалей розги.
Мать сидела у кухонного стола и уважительно слушала деда. А он говорил густо и спокойно:
Хорошее дело лежит, а плохое бежит; а ну, кто дознается? Позор да срам какой! Моя молодость вся в труде прошла. Лето на работе, зимой за скотиной, да за хозяйством умаешься, да упаришься. Ляжешь, спины не чувствуешь, а не то, чтобы о худом думать. А на медных рудниках вагонетки толкал. Заместо лошади. Я пять и лошадь пять. Другие мужики по одной, от силы две толкают. Так идешь, что земля гудит. Соберемся на отдых, обнимемся единым кругом, «Дубинушку» споем, и все враз поднимаемся, а то по одному не встать. Плохо жил. Вот только под старость–то лет и довелось увидеть хорошее… А вот они, внуки–то, ворами растут, енто как понимать надо, а?
Зашебуршало в сенках. Мать посмотрела на дверь. И вот влетает Ванюшка, как всегда, в разодранной рубахе, сияющий. Мне так стало жалко его, что я, забыв о божьей каре, закричал:
Ванька, беги! Драть будут!
В глазах у Ванюшки страх, а на лице улыбка.
Беги! — повторил я.
Ванюшка бросился к двери, но там уже стоял дед.
Пусти! Пусти! — рвался Ванюшка.
Мать схватила его, подтащила к скамейке:Привязывай!
Отец достал из–под лавки старые вожжи, снял с Ванюшки штаны и привязал его лицом вниз.
Мать подала прут. Тишину рассек резкий свист.
У меня задрожали руки и ноги, и я отполз в дальний угол. Мне стало холодно, и зубы мои застучали.
Ты брал деньги? — спросил отец.
Нет, — закричал Ванюшка.
Дай ему! — разозлилась мать.
Отец еще раза два попробовал прут в воздухе и только после этого полоснул Ванюшкину спину. Тот коротко охнул.
Не охай, еще не больно, — прикрикнул отец, — а вот так немножко покрепче, — ударив, проговорил он. — Брал деньги? Скажешь, прощу.
Брал.
Сколько?
Пять рублей…
За вранье получай! — отец замахал прутом.
Я зажмурился и только слышал свист розги и крики брата.
Не ври! Не воруй! — кричал отец.
Я не вытерпел, спрыгнул с печки и подскочил к отцу.
Не бей, ему больно! — Я вцепился в его руку.
И тебя тоже забью до смерти, собачье племя!
Я стал пинаться. Вырвался, бросился из кухни во
двор.
Стой! Куды? — закричал Калистрат, схватив меня во дворе. Тут подбежал отец…
Две недели валялся я в пустой комнате, никому не нужный. Редко приходила мать, кормила меня, ставила компрессы и снова надолго скрывалась. Чужими и холодными были для меня прикосновения ее рук.
Только к концу второй недели поднялся я с кровати. Через щели ставня увидел солнечный день.
Я отыскал сапоги, надел их и, покачиваясь, вышел в зал.
В доме шло собрание. Тихо прошел я мимо молящихся братьев и сестер и вышел в огород. Яркие лучи солнца ослепили меня. Минуту я стоял неподвижно. Как весело жила природа: куда–то бежали муравьи, в воздухе сновали неутомимые пчелы, суетились воробьи, высоко проносились ласточки, плыли облака…
Я пошел по тропинке к колодцу. По бокам тропинки росли Желтоголовые подсолнухи. По ним сновали полосатые и синие шмели. В это время бери их прямо голыми руками, не укусят. Они пьяны от душистого нектара.
Из глубокого колодца тянуло прохладой. Я любил сидеть возле него и смотреть в кадку, доверху наполненную чистой водой, в которой утонул кусок июльского неба. А как эдорово набросать в колодец свежих огурцов, поплавают они в воде часок–другой, потом выудишь огурчик и с таким удовольствием вонзишь зубы в его зеленый, холодный, хрустящий бок.
К обеду солнце начало сильно припекать. Оно нагрело бочки с водой и подвялило огуречные листья. Они сморщились, как мягкие тряпки. А если лунки наполнить водой, они сразу же оживут, станут упругими, раскроются, словно зонтики. И я тоже, после того как нас избили с Ванюшкой, стал чутким ко всему, как эти листья. Малейшая несправедливость ко мне или к другим болезненно царапала мою душу. Она сжималась или плакала при виде чужого горя. И я мучился оттого, что не знал, как защитить обиженного…
Жара загнала меня в дом, и я очутился в душном кругу неприятных ощущений. Зал на верхнем этаже был полон людьми. Я вошел, когда отец повелительно обратился к общине:
Братья и сестры, преклоним наши колени и вознесем славу всевышнему за то, что он еще раз собрал нас вместе.
С шумом раздвинулись стулья и скамейки, община встала на колени. Больше всего здесь стариков и старух. Отец, как и другие пресвитеры и проповедники, молился стоя, сложив руки на груди. Я увидел мать, стоящую на коленях рядом с Лизкой. Голову матери покрывал черный с красными цветами платок. Я прислушался к ней.
Дорогой наш Иисус, — молилась мать, — творец наш небесный. Я преклонила колени пред тобой, дабы прославить имя твое. Ты вразумил нас и направил на путь истинный. Прости меня, господи, и детей моих, может, они в чем–то провинились пред тобой? Вразуми ты их, рассей мрак, что закрыл очи ихние, пошли им здоровье…
Мать молилась долго, потом сказала «аминь» и заплакала, тихо качая головой.
Молитвенно гудел душный зал. Каждый что–нибудь вымаливал у всевышнего, у каждого были свои горести и беды.
Наконец моление кончилось, все поднялись с коленей, застучали скамейками и стульями. Слышались сморкания,вздохи, тихий плач.
Отец взял песенник, раскрыл его и, громко прочитав первый куплет, посмотрел на регента. Регент, полный, низкого роста, с красным обрюзгшим лицом, запел:
Как весною солнце Радует сердца,
Так любовь господня Любит без конца.
Хор из молодых и старых женщин дружно подхватил:
Так отдай всю жизнь Христу,
Милый друг, теперь,
Счастье, радость, полноту
Даст тебе, поверь.
На собрании отец выглядел аккуратно. Почти всегда растрепанные волосы к началу моленья он гладко зачесывал назад, они опускались до плеч. Он подправлял ножницами усы и бороду.
Попели, попели и снова опустились на колени молиться. Лица у всех сияли благочестием, люди верили, что всевышний отпустит им все грехи.
После моленья наполнили до краев чашу вином, разломали большой каравай на мелкие кусочки, и началось причащение. Перед концом собрания спели прощальный гимн. После него еще помолились стоя и принялись обмениваться обрядными поцелуями. Брат целовался с братом, сестра с сестрой. И уже после этого направились в просторную столовую. Там их ждала еда на длинных столах. Опять молились и потом усердно ели, а дети в это время читали выученные стихи о боге, о тщете земной жизни.
Мне все это показалось таким нудным, скучным и чужим, что я снова ушел на улицу. И там вздохнул облегченно.
По дороге катились десять новых автомашин. «ЗИС–5», — догадался я. Наконец–то город прислал их. Теперь лесозаготовители оживут.
Один из ЗИСов остановился возле дома тетки Ивановны. Какая машина! Быстрая, красивая. Не то, что старые «Уралы», которые дымят, как пароходы, и возят с собой кучу березовых чурочек вместо бензина. Ребята сбегались поглазеть на машину. Подошел и я, забыв о надоевшем молельном доме, осматривал грузовик со всех сторон. И вдруг я удивленно остановился: из кабины вылез Федосей — сын баптистки Ивановны.
ЗИС–5 тихо пофыркивал и вздрагивал. Казалось, мотор вот–вот заглохнет, но нет, он все работал и работал. Мужики расхаживали вокруг автомашины, заглядывали под кузов, похлопывали горячий капот, пинали тугие покрышки, проверяя крепость их.
Ну, вот, мужики, и дожили, — сказал Федосей, хлопнув грузовик по крылу. — Хороша машина, а?
Хороша, да не в те руки попала, — пробурчал Маркел.
Это почему же? — удивился Федосей. Залихватски открыв капот, он наклонился над мотором и стал в нем что–то делать.
Тебе бы в Библии ковыряться, а не в моторе.
Вокруг засмеялись. Мотор вдруг заглох.
Федосей заскочил в кабину и нажал на стартер, но ЗИС молчал.
Вот те раз! Новая машина — и барахлить начала! — недоумевал Федосей, снова выбираясь из кабины.
Пусти, — Маркел полез в мотор. Минут через десять грузовик снова зашумел, вздрагивая.
Пошто в бобину–то полез? — рассердился Маркел. — Эх ты, чугунная голова! И кто тебе новый ЗИС доверил?
Ну, ну, разошелся! — И Федосей поспешно уехал.
Бабы, мужики и ребятишки стали расходиться. Слабый после болезни, я опьянел от воздуха, от солнца, от хмельных запахов цветов и трав. Тихая радость переполняла меня от встречи с этим сияющим днем. Едва я доплелся до своей кровати, как сразу же уснул,проснулся только на следующее утро…
МАУГЛИ
Идет моленье…
Оно–то меня и разбудило своими песнопениями. Я Делся и открыл дверь в зал. В лицо пахнуло спертым,кислым воздухом. Стараясь не дышать, я бросился через зал во двор. Меня встретил лесхозовский гудок, за ним прогудел крахмальный заводик, а в «химлесхозе» ударили двенадцать раз о рельсу.
На улице я наткнулся на Ванюшку. Он дал мне каменно–твердый ржаной пряник.
Вечером в кино сходим, — сказал он.
Грех в кино ходить, бог накажет, — предупредил я. — Возьмет и ослепит, что тогда?
Э–э, откуда он узнает, что мы в кино ходили?
Мать говорит, что бог все видит.
Ерунда все это! Никакого бога нет.
Я ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Потом со страхом покосился на небо, ожидая молнию, которая поразит Ванюшку за богохульство, а меня за то, что я слушал его. Но молнии все не было и не было. Сияло солнце, Ванюшка смеялся, дрались два петуха… Я, наконец, кое–как перевел дух и шепотом попросил:
Не надо больше так говорить. Страшно! А вдруг он есть? И слышит все…
Огромным был трехэтажный клуб. Его воздвигли из отборных бревен. Внутри покрасили, на стенах развесили разные картины, плакаты, афиши, портреты киноактеров, у стен наставили диваны, кресла.
Мы с братом купили билеты и, ожидая начала сеанса, вышли на поляну перед клубом. Тут носились, дрались и орали мальчишки. Я озирался, боясь, что меня увидит отец или мать. Наконец шумная ватага, сшибая друг друга с ног, рванулась к входным дверям. Там началась давка. И вот мы оказались в большущем зале с очень высоким потолком, посредине которого висела люстра. Мне казалось, что она в любую минуту может оборваться и придавить всех нас. А сердце так и ныло, словно я совершал что–то очень нехорошее, запретное, преступное. Очень хотелось скорее увидеть, что это за штука кино, и в то же время хотелось немедленно бежать отсюда.
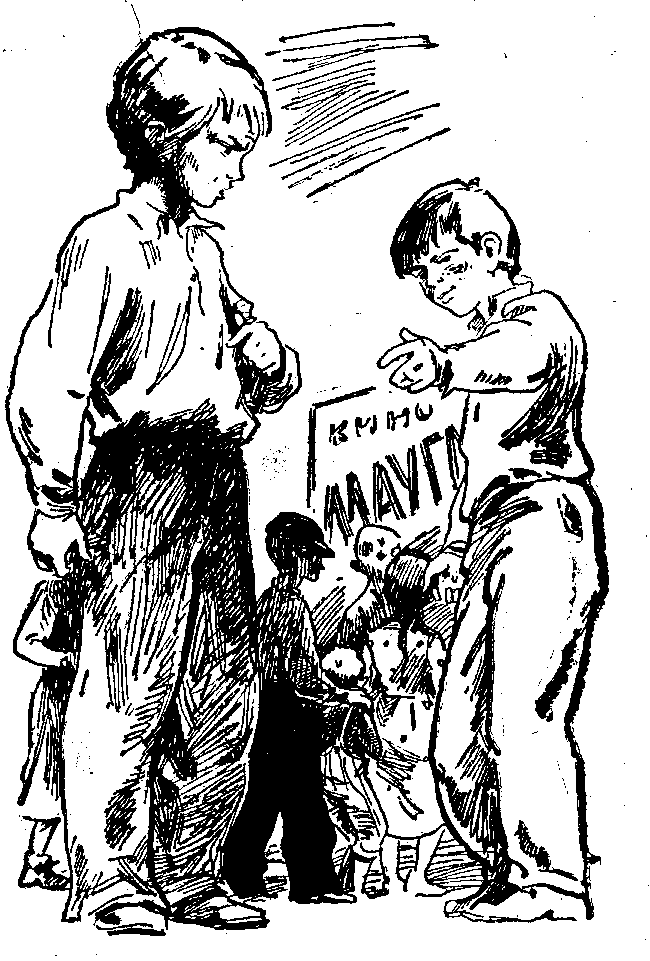 |
Хлопали сиденья, стоял гам. Чувствуя, что я гублю свою душу, я сел рядом с Ванюшкой. Вань, а вдруг она упадет? — прошептал я, показывая на люстр С чего это? Ее стальной трос держит, — успокаивал меня Ванюшка. Давай пересядем на всякий случай.
Вот балбес! Это же наши места, понял? С других нас прогонят!
А если мы попросим?
Ты же видишь, вот в билетах — десятый ряд, десятое и одиннадцатое место!
Я замолчал, но все время поглядывал на потолок.
Вдруг свет погас. Голоса стихли, откуда–то сзади ударил луч, как из прожектора. Я оглянулся. В темной стене квадратное оконце, из него льется ослепительный свет. Загремела музыка, а где — неизвестно. Я вертел головой в разные стороны.
Да ты на экран смотри, — толкнул меня в бок Ванюшка.
Я посмотрел вперед и увидел ярко освещенную городскую улицу. По тротуарам шли серые люди, а по дороге мчалась серая машина с крестом на кузове.
«Почему никто не разбегается, сидят все! Задавит!» — испугался я и вскочил.
Куда ты? — прошипел брат и схватил меня за руку. — Садись, дурак!
Задавит же! — ужаснулся я и закрыл ладонями лицо. Завыла сирена, я вздрогнул. Все стихло.
«Стороной объехал, — подумал я. — Это бог посылает на меня погибель…»
Дурак! — ругнул меня брат. — Она же не правдашняя, это же кино.
Как не правдашняя? — изумился я.
Да экран — это же белая тряпка, вот и все.
А как… по ней… машина ездит?
Ее аппарат изображает. Молчи!
Какой аппарат?
Да отстань ты, смотри лучше! — окончательно рассердился брат.
Я посмотрел на экран, а там еще страшнее! Поезд. Такой я видел в учебнике.
Я зажмурился, прижался к брату. Задавит! Для кого кино, а для меня тяжелая пытка! А тут еще прямо в меня из двустволки целится охотник.
Бух! Бух! — грохнуло в зале…
Зажегся свет, все исчезло.
Все, — выдохнул я.
Это журнал был, а сейчас кино начнется, — ответил брат.
Какой журнал? — я знал только журнал «Огонек», да еще «Братский вестник».
После кино объясню, а сейчас смотри, — цыкнул на меня брат.
В зал запустили опоздавших, и кино началось…
На меня прыгал тигр, полз удав… Я то и дело сжимался от страха. А кругом ребята сидели спокойно» успокаивался и я… Загорелся свет. Кругом затопали ногами, заорали:
Сапожники! Механика на мыло!
Я снова испугался. Пол трясся, и мне показалось* что люстра уже летит на мою голову.
Ваня, что это? — закричал я.
Лента порвалась, кино–то еще не кончилось! — прокричал и брат.
Какая лента, почему порвалась, я так ничего и не понял.
Свет погас, и я увидел джунгли. Зашевелился папоротник, и вдруг показалась сначала лохматая человеческая голова. Из зарослей вылез парень. Он почему–то был голый, только бедра его обвивала повязка.
Маугли! Маугли! — зашептали в зале.
Я догадался, что этого парня звали Маугли. Он кого–то выслеживал. За его спиной из веток высунулась тигриная голова.
Я, как и многие, вскрикнул. Испугался за Маугли. Тигр приготовился. Вот он прыгнул. Но Маугли молниеносно взвился вверх, повис на каких–то зеленых канатах и полетел в высоте с дерева на дерево. Он влетел в стаю обезьян, и те подняли гам, бросая в него плодами. Тут Маугли повстречал огромного удава. К моему удивлению, удав стал разговаривать с ним и даже покатал Маугли на спине. Эта дружба мне понравилась. Маугли предложил удаву поохотиться на обезьян… Метался Маугли, огромными кольцами свивался удав и пожирал обезьяну…
Мне понравилось собрание волков. Старый вожак говорил перед всеми:
Десять лет я был верным стае и десять лет я служил вам. Сегодня я промахнулся, братья. Не про–Щу себе этого. Я иду умирать в пустыню…
Мне стало очень жаль волка…
Маугли крался к горшку с огнем. Подошел, долго любовался им, взял и погладил огонь… Взвыл от ожога. В зале захохотали. Смеялся и я… Снова битва, Маугли разбивает горшок о волчью голову. На морду сыплются горящие угли…
Из клуба я вышел потрясенный. Ничего подобного я еще не видел. Кино мне казалось чем–то непостижимым, невероятным, более волшебным, чем любая сказка. На полотне двигались, разговаривали, жили люди, проносились машины, дрались звери…. Возникали иные страны… Целый мир, новый, неведомый мир распахнулся передо мной… Ночью ‘я плохо спал, мне снилось все, что я видел на экране… На меня бросался тигр Шерхан, я вздрагивал и просыпался от собственного крика…
На следующий день брат позвал меня в лес. Сначала мы шли по дороге, потом свернули на тропинку. Она виляла между осин по бровке старого яра. Внизу была старица, из нее давно ушла вода, и осталась только трясина, густо поросшая осокой. Осинник кончился, начали попадаться сосны и елки.
Пришли. — И брат показал на кряжистую сосну, впившуюся корнями в склон бывшего берега реки. Высоко над заболоченной старицей к суку была привязана веревка. Ванюшка спустился к сосне, взял за конец веревку и поднялся с ней обратно на берег.
А–а–а! — завопил Ванюшка, разбежался, поджал под себя ноги и плавно полетел вниз.
Над болотом Ванюшка выпустил веревку, проделал сальто–мортале и шлепнулся в трясину. Веревка вернулась обратно. Я тоже радостно заорал, ухватился за веревку. О, какое наслаждение хоть краткий миг почувствовать себя в полете! Я отпустил веревку и плюхнулся в осоку. И тут же восторг мой сменился ужасом: я начал погружаться в трясину. Недалеко от меня возился Ванюшка. Я рванулся к нему и, не добежав с метр, провалился по пояс.
Господи, спаси нас! Господи, спаси нас! — забормотал я материным голосом.
Молчи, дурак! Что он тебе, веревку с неба спустит? — разозлился Ванюшка. — Давай мне руку.
Я протянул руку, он дернул за нее и тут же отпустил.
Нет, я еще глубже застрял. Давай на помощь звать.
Помоги–и–ите! — хором закричали мы. Далеко в лесу отдалось эхо. Трясина продолжала засасывать нас, а мы продолжали кричать. И вдруг на берег выбежал дядя Савелий.
Черти вас тут носят! — заругался он на нас. Торопясь, он рванул веревку и обломил сук. Не отвязывая веревку, швырнул его нам. С трудом он выволок нас на твердый берег. Увидев нас с головы до ног облепленными грязью, он захохотал. А мы стояли перед ним, растопырив руки, глупо хлопая ресницами. Наконец он распорядился:
Марш на реку, вымойтесь, выстирайте одежду,, а то отец с матерью запорют вас!
Жалкие, подавленные, поплелись мы к реке, на землю шлепались с нас лепешки грязи, штаны и рубахи противно прилипли к телу, холодные, тяжелые.
Подойдя к реке, мы с омерзением стянули с себя всю эту грязь, комом плюхнули ее в воду и сами бросились следом. Выстирав свою скудную одежку, мы развесили ее на кустах, вымылись сами и, с наслаждением ощущая чистоту, развалились на песке. Только тут мы повеселели.
Вань, а Вань, а может, это господь нас наказал за то, что мы в кино ходили? — спросил я.
Да иди ты! Надоел, — огрызнулся Ванюшка. — Не наказание это, а наша дурость.
Я во все глаза смотрел на брата, испуганный его смелостью. Не боялся он и ни черта, и ни бога. Не верил в них. А я даже легкого сомнения страшился…
Дома нас встретила на пороге мать с ремнем в руках.
Вы куда это ходили? — закричала она.
В гости к диакону, регент у него был, стихи разучивали, — соврал Ванюшка.
Не сегодня! А вчера вечером куда ходили, язви вас! В кино вы таскались, в кино, беса тешить! — И она принялась злобно хлестать нас ремнем. — Ивановна видела, как вы в клуб входили! Разразит вас господь–бог!
Ванюшка прыгнул с крыльца и был таков. Мать продолжала хлестать меня.
ВАНЮШКА НЕ БОИТСЯ
Утро. Я пошел на кухню завтракать. Дверь в комнату отца была приоткрыта. Я не любил сюда заглядывать, да и отец не очень–то приваживал меня, а тут вдруг что–то меня вроде толкнуло, и я вошел к отцу.
Отец, сидя за столом, читал газету. На краю стола лежали какие–то документы, справки, письма и стопа баптистских журналов. На чугунном письменном приборе стоял Моисей, точно такой же, как в «Истории средних веков». Я принялся разглядывать книги на полке.
Разве у вас в школе не учат здороваться? —- спросил отец.
С миром, пап, — проговорил я.
С миром приветствую, сынок, — ответил отец. И удивил меня, пригласив к столу: —Садись.
Такого еще не бывало. Я робко присел на краешек кресла.
Что скажешь? — спросил отец, отложив газету.
Да просто попроведать зашел.
Хорошо, что ты отца родного не забываешь. Ты не сердись, что я тебя высек. Чего ты под горячую руку полез? Я же одного Ванюшку хотел наказать. Так не будешь сердиться?
Я утвердительно мотнул головой.
Посиди–ка, я сейчас, — отец вышел из кабинета.
А я тут же выдвинул ящик стола. Он уже давно
манил меня. В нем лежала пачка денег. В уголке ящика я увидел круглые печати и штемпельную подушку в железной коробочке. Печати меня заинтересовали. Я взял одну из них, подул, как это делал отец, и шлепнул на чистый листок бумаги. По окружности было написано «Всесоюзный совет евангельских христиан–баптистов», в центре крест, а под ним овалом крупные буквы: «ВСЕХБ». Я положил печать обратно и вытащил членский билет. Раскрыл его я увидел фотографию отца. Правый нижний угол захватывала точно такая же печать. Черными чернилами красиво написано: «Кудрявцев Никифор Никандро–вич является членом Всесоюзного совета евангельских христиан–баптистов. Москва. 1950 г.»
Загремели под сапогами отца ступеньки. Отец зашел в кабинет с берданкой, с патронташем, с банкой пороха и с дробью в мешочке.
Держи, тебе, — отец положил ружье на стол.
Никогда отец не дарил мне ничего. А сегодня вот… Что это с ним?
Я прижал драгоценный подарок к груди, схватил припасы и, еще не веря случившемуся, хотел было идти.
Постой, — сказал отец. — Держи, — и он, вынув из стола сторублевку, сунул ее мне в карман.
Ой, пап, спасибо тебе, спасибо!
Не помня себя от радости, я заскочил к себе в комнату, положил ружье на кровать и — к Ванюшке. Но его каморка оказалась пустой. Тут появилась сестренка Лиза. Она сосала конфету.
Что, Лиза–подлиза, опять за ябеду конфету получила? — спросил я. — А мне отец ружье подарил!
Возьми меня на охоту! — попросилась Лизка.
А ябедничать будешь?
Не. Я тебе даже половину конфет отдам, — она полезла рукой в кулек.
Не пойдет, все отдавай.
Ладно, только себе чуточку оставлю.
Поклянись!
Клянусь, — Лизка опустилась на колени и добавила : — Как перед господом клянусь!
Беру, жди. Только не вздумай ружье трогать. Сядь на табуретку и сиди смирно–Ладно.
Ваньку не видела?
Рыбу известкой глушить пошли.
Тогда идем без него. Давай конфеты.
Лизка нагребла карамельки в горсть и сунула их в мой карман. Высыпая конфетки, она вдруг нащупала там сторублевку и выдернула ее.
Ага, своровал?! Мама! — Лизка побежала вниз по ступенькам, я за ней.
Мама, Пашка деньги у отца своровал! — завопила Лизка, вбегая на кухню. Она спряталась за спиной матери.
Не трожь ее! — топнула на меня мать. — Сознавайся, украл?
Нет. Отец ружье подарил и сто рублей. Пойдем спросим, если не веришь.
Ну, смотри, — мать взяла у Лизки сотню и пошла к отцу.
Отец отдал мне сотню обратно.
Ну, Лиза–подлиза, погоди! — пригрозил я сестре.
А я думала, что ты своровал, — оправдывалась сестренка.
А клятву кто давал? У–у, подлиза!
Я хотел уйти, но мать остановила меня.
Много у отца денег? — шепотом спросила она.
Много, в столе они.
Мать тихонько заплакала. Мне стало жалко ее. И почему отец дает ей мало денег?» — подумал я и отдал свою сотню.
Я ушел на берег речки Сухой. Летом она узкая, ее можно перейти вброд, но весной она разливается бурным потоком. Я сидел в камышах у светлой, струистой заводи и слушал плеск воды. В таких заводях много ужей. То и дело они, извиваясь, проплывают в прозрачной воде. На макушку сухой камышины села голубая стрекоза и замерла. Большие коричневые стрекозы носились над рыжими метелками камышей, похожими на лисьи хвосты. Словно конькобежцы по льду, скользили из стороны в сторону жуки–водомеры. Комком глины скатилась в воду, преследуемая ужом, водяная крыса. Но тут же ее схватила щука. Две утки шлепнулись на воду. Я взял берданку. Утки ныряли за мальками рыб. И вдруг одна из них забилась на воде. Кто–то схватил ее за голову, тащил в омут, а она хлопала крыльями. Наконец ушла под воду и всплыла уже с оторванной головой. Должно быть, с ней расправилась зубастая щука…
Я завороженно следил за жизнью и борьбой в этой заводи.
Только поздним вечером, убив одного нырка, вернулся домой. Во дворе меня встретили Ванюшка и Оашка Тарасов. Увидев ружье да еще убитую утку, они пришли в восторг.
Давайте, ребята, сколотим плот и — вниз по Оби! — предложил брат. Чтобы не попасть на глаза родителей, мы спрятались в бане.
Вот что, надо отомстить одноглазой ведьме, — заговорил тихонько Ванюшка. — Сегодня же ночью выдерем все огурцы у тетки Ивановны. Это она сказала матери, что мы были в кино.
Не надо воровать — грех, — возразил я. — Лучше что–нибудь другое придумаем.
Грех! — Брат соскочил с полка, на котором они сидели с Сашкой. — Все грех да бог, мелешь одно и то же!
По узкому проулку мы добрались до большого огорода проповедницы. Прислушались. Никого. В лесхозе ударили один раз о рельсу, и все стихло.
За мной! — тихо скомандовал Сашка и махнул через изгородь. Мы за ним. Сашка упал на грядку,, прокатился по ней, прошептал: — Получай, ведьма!
Ванюшка выдирал огурцы вместе с корнями. Я, озираясь и прислушиваясь к темноте, сорвал несколько огурцов и сунул их за рубаху. Не дай бог, если нас захватят сыновья Ивановны — убьют!
В бане мы зажгли лампешку. Ванюшка и Сашка, вывалили из–за пазухи огурцы на полок. Пожалуй, полное ведро бы набралось.
Ну, а ты чо? — недоумевающе посмотрел на меня брат.
Да у меня мало, — сказал я и выложил в общую кучу штук шесть кривых огурчшпек.
Эх ты, раззява, с тобой с голоду сдохнешь, — проговорил Ванюшка.
Хотя огурцы и были вкусными, ел я их без аппетита. Страх перед господней карой не оставлял меня. А Ванюшке с Сашкой было плевать на всякую кару. Они звонко хрумкали и хохотали, вспоминая о вылазке. Спать мы легли на сеновале. Я долго думал, почему брат не боится грешить. Хотел всей душой быть таким же, как он, но бог как бы осуждающе смотрел на меня с неба и грозил пальцем…
ПРОЩАЙ, СТРАХ!
Помню, пришел я к Проньке Редько перед тем, как нм уехать на Украину. Я редко ходил к ним, а тут приплелся к нему, и никогда себе этого не прощу. Мне очень захотелось пойти в кино. На афише у клуба было написано непонятное, таинственное слово «Мамлюк». Так называлась кинокартина. Ванюшки дома не было, Сашки Тарасова тоже. А идти один я побоялся. Вот и решил позвать Проньку. Его мать, костлявая Ага, варила пельмени, а Пронька терпеливо ждал их, шумно вдыхая вкусный запах.
Пронь, иди сюда, — позвал я его, сунув голову в приоткрытую дверь.
Пронька лениво встал и вышел ко мне.
Пойдем в кино? — зашептал я. — Какой–то — «Мамлюк» идет.
Но–о… Интересное?
Все хвалят.
Ладно, идем.
А ты бога не боишься, Пронь?
Бога? — Пронька ухмыльнулся. — Да я уже несколько раз был в кино. Папка говорит, что в этом нет большого греха. Когда я вырасту, тогда и буду учиться ка проповедника.
Я был поражен ответом Проньки. Как же так, Проньке можно в кино ходить, а мне отец запрещает?
Так, значит, идем? — еще больше загорелся я и вдруг с досадой вспомнил, что у меня нет денег. — Пронь, а ты мне займешь рубль? Я тебе отдам.
Мы скоро уедем. Как ты мне отдашь?
Ну, тогда я пошел, — расстроенный пробормотал я.
Постой! Если не успеешь отдать, ты мне в письме вышлешь. Я тебе адрес дам.
Я согласился, и мы зашли на кухню. В тарелке–уже дымились пельмени. Пронька сразу же подсел к ней и с жадностью начал есть. У меня потекли слюнки. Ага наложила пельменей еще в одну тарелку.
Садись, — буркнула она и раздраженно пихнула к столу табуретку.
Я, конечно, сел, но после такого приглашения пельмени потеряли для меня всякий вкус.
На пороге появился сам Евмвн. Увидев меня, он разозлился:
А этот зачем здесь? Небось, его отец не здо–рово–то меня привечает.
Да не объест, чего ты? — проворчала Ага.
Евмен подошел ко мне и бесцеремонно, за ухо вывел за дверь.
И чтоб я не видел тебя здесь, — пристращал он.
Пораженный, униженный, полный ненависти, я, всхлипывая, бежал домой. «Гад! — кричал я в душе. — И Пронька гад, даже не заступился. И все баптисты гады! За что он меня так не любит? Что я ему сделал плохого?»
Кое–как успокоившись, я пришел домой и, робея, попросил у матери:
Дай мне рубль.
На что он тебе? — удивилась мать.
Может, карандаши в сельпо привезли…
Ну, если на дело, другой разговор. — И мать вместо одного протянула три рубля. Я возликовал: три раза можно сходить в кино!
Хозяин дома? — послышался хрипловатый голос, по которому я сразу узнал лесника Прохора.
На пароход ушел, скоро будет. Садись, подожди, — ответила мать и забренчала в шкафу посудой. — Вот чайку попей да расскажи про жизнь свою, — мать разлила по чашкам чай.
Спасибо за приглашение, Матрена, только не до чаю мне, — вздохнув, проговорил Прохор и надвинул на глаза козырек буденовки, в которой ходил и зиму и лето. — Счастливая ты, Матрена!
Мать взяла чашку, отпила глоток и задумчиво возразила:
Красива крушина ягода, а поди–ка съешь ее — отравит.
Пусть и эдак, но у тебя зато вон какие красавцы растут. — И он кивнул на меня. — А я — бобыль… Все о тебе думаю. Сколько уж годов думаю…
Мать поставила чашку, уныло махнула рукой:
Я тоже думала, что счастье только в детях, а оказалось, что и другое счастье нужно. Вот его–то и нет у меня. Сижу, как в клетке, в половинку окна смотрю, а божий–то свет и не вижу. Жаль, что судьба нас развела, Прошенька.
М–м–да–а, — протянул Прохор, не поднимая головы. — А я–то думал, что ты счастливая.
Оба замолчали, и вдруг мне стало жалко их. Ни–чего–то я не смыслю в жизни. Даже наш дом с закрытыми ставнями загадка для меня И мысли, и чувства живущих в нем за семью печатями для меня. Ну, что я знаю о матери? А тем более о дяде Прохоре? Чем он, неверующий, связан с баптистами? Почему он всю жизнь думает о матери?
Частенько в «Заготсырье» не было то капсюлей, то пороху и дроби, и Прохор разживался всем этим у моего деда. Давал он леснику взаймы и на бутылку…
В сенях застучали сапожищи деда. Прохор сразу оживился.
А, лесничок–старичок, — входя, загремел дед. Он поставил на стол здоровенную кожаную сумку, в которой звякнули бутылки. — Здравствуй, здравствуй, трущобный житель! Пошто долго не забегал?
Да все по делам в лесничестве. А я к тебе, Никандр Никанорович, с маленькой просьбой зашел, — покряхтывая, начал Прохор.
Догадываюсь, — улыбнулся дед и достал из сумки несколько бутылок, на которых было написано «Кагор». — Собаки, втридорога берут. У них, видите ли, в ресторане наценка.
Я понял, что вино дед покупал в ресторане на пассажирском пароходе.
Ты, Матрена, объяви–ка общине, что в воскресенье вечеря будет, — распорядился дед. — Ну, пойдем ко мне, Прохор, а тебе, Матрена, вот на расходы. Осталась тут мелочишка. — Дед залез в карман и выложил на стол пачечку денег. — Не хватит, у Никиш–ки проси, а то второй месяц ничего не дает. Нечего ему жадничать.
Я направился в клуб. Там встретили меня мальчишки :
Эй, бактист, бог–то накажет!
Поди, крест на шее носит, давай–ка посмотрим!
Ко мне подошли трое, один из них мой одноклассник, рыжий Толька Пономарев. Толька протянул руку, чтобы расстегнуть на моей груди пуговицы.
Я что есть силы ударил ребром ладони по его руке. Охнул Толька, скорчился от боли. Ко мне подскочил другой:
Покажи крест!
У меня потемнело в глазах, и я ударил его.
Бей бактиста! — заорал Толька, и вся ватага бросилась на меня.
Я вырвался. Всхлипывая, бежал по улицам. Мне вслед улюлюкали, свистели, бросали камни. Обида, слезы душили меня. Голова закружилась, и я упал на траву у плетня. Очнулся я от прикосновения чьей–то руки. Испуганно открыл глаза и увидел Ванюшку. Мне показалось, что он улыбается. Но тут же я разглядел, что глаза его сердиты.
Куда бежишь? — он поднял меня.
Впервые я почувствовал, какие у него сильные руки. Мы шли молча, касаясь плечами друг друга. Наконец Ванюшка не выдержал:
Не бойся ты их!
—- Они драться лезут, — всхлипнул я. — Они ненавидят меня… Издеваются…
Не обращай внимания. Посмеются и перестанут. Сейчас Сашку захватим и двинем в кино… Ты позови пацанов играть в наш сад. Они давно заглядывают в него через изгородь, да боятся деда. Скажи, что он не злой, и они пойдут. Поиграете и сдружитесь.
Мы вернулись в клуб, и, удивительно, эти же пацаны, что обидели меня, по–приятельски поздоровались с Ванюшкой, делая вид, что не замечают меня.
Я осмелился и сказал:
Эй, ребята, после кино пойдем к нам играть?
В сад? — спросил один.
Ага!
А дед не заразит язвой?
Да нет, наш дед любит мальчишек, — заверил всех Ванюшка.
Тогда придем.
Я приободрился, но все еще робко стоял в сторонке, ожидая, что кто–нибудь да и крикнет обидное «бактист!»
Ты чо стоишь там? — спросил один из мальчишек.
Я насторожился.
Иди к нам, — позвал другой.
Я подошел, и скоро мы начали играть в «жучка». Меня поставили посередине круга. Я выставил руки, как положено, ладонями перед грудью, и от страха закрыл глаза, думая, что сейчас ударят меня не по ладошке, а по лицу. Удар! И я не понял сразу, ударили меня по лицу или по ладошке. Я снова зажмурился.
Ребята засмеялись:
Отгадывай!
Отгадывай!
Меня еще раз ударили, и я неожиданно отгадал, кто бил. Вдруг кто–то крикнул:
Шакал!
И вся ватага куда–то бросилась. Я за ними.
Бей шакала! — орали ребятишки.
На моих глазах они отколошматили совсем безобидного, как мне показалось, мальчишку. Это удивило меня. Я думал, что обижали только меня из–за того, что я баптист, а оказалось, что им плевать — баптист ты или неверующий. Значит, бог гут ни при чем. Надо просто дружить со всеми. Одному тяжело и страшно. Да если еще ты трусишь и этим показываешь свою слабость. Мне становилось все легче и веселее, будто с меня медленно сползал невидимый груз…
Фильм «Овод» потряс меня. Я сидел и потихоньку плакал, Артур доверился священнику и признался ему на исповеди, что состоит в тайном обществе «Молодая Италия».
И вдруг этот священник предал его! Артур попал в тюрьму. Друзья подозревают его в предательстве. Проходит много лет, Артур под именем Ривареса возвращается в Италию. Он снова борется за свободу — и снова попадает в страшный застенок. К нему в камеру приходит падре Монтанелли. Он не узнает в Риваресе своего Артура.
Я — Артур, твой сын, — признается бесстрашный Овод. — Отец, пойдем с нами! Что тебе этот бог? Выбирай, или я, или он… Неужели можно делить любовь между нами: половину мне, а половину богу? Я не хочу крох с его стола. Он или я…
Идти с тобой мне нельзя — я священник… — отвечает отец.
Артур хотел бежать, но старая рана подвела его. Он потерял сознание… И вот Артура ведут на расстрел… Святой отец спешит освободить Артура от казни. Он медленно спускается по каменным ступеням, а по Артуру уже дали один залп… После второго Артур встал и сказал:
Плохо стреляете, господа… Стреляйте в меня так, как если бы вы стреляли по врагам народа. По врагам народа — огонь!
После третьего залпа Артур падает.
В зале послышались тяжелые вздохи.
Сквозь слезы я смотрел на экран. Я готов был закричать от горя. Монтанелли приподнял тело Артура, своего родного сына, бесконечно дорогого ему…
Да где ты, бог?!! — потрясая кулаками, закричал Монтанелли. — Нет тебя!!!
О, эти слова! Они ударили в самое сердце мое, в самое больное место. И я со страхом понял, что тоже сомневаюсь в существовании его… Это, должно быть, уже давно зародилось во мне, только я сам скрывал это от себя. Даже подумать об этом страшился…
Дома мать читала Библию. Впервые я увидел ее в очках. «Еще ослепнет с этой Библией», — подумал я.
Ты чего это очки надела?
Ох, сынок, буквы сливаются, прыгают, — пожаловалась мать.
Так хоть бы лампу зажгла, а то сидишь в темноте. На улице светлынь, могла бы и ставни открыть.
Да когда мы их, сынок, открывали? Отец с дедом хозяева.
Вот из–за них и сидим всю жизнь в темноте!
А ты чой–то сегодня такой взбалмошный? Лучше почитай–ка мне от апостола Павла вторую главу. Ведь тебя в его честь назвали. — Мать протянула мне Библию.
Не буду.
Не гневи господа, Павел! — прикрикнула мать.
Я отступил назад:
Не буду!
Мать поймала меня за полу пиджака.
Не доводи до греха!
Вошел дед, подпоясанный широченным ремнем с кольцами, бляхами, его коричневые сапожищи были густо запылены. Он только что вернулся из соседней деревни.
Опять бушуешь? — спросил он.
Я бросился к нему:
Деда, окажи ей, чтоб не заставляла читать! На покосе ты обещал!
Матрена, ведь невольник — не богомольник. Сколько раз теэе говорить об этом?
Сняв со стены полотенце, он ушел к роднику умываться. Я тоже хотел удрать, но в дверях показался отец. Мать, увидев для себя поддержку, снова начала:
Ну, почитай, будь умницей.
Не буду! — уперся я.
Ах безбожник ты, безбожник, и в кого только вы такие уродились? — покачал головой отец.По–добру мать просит. Ну!.. — отец подтолкнул меня к столу.
Не доводи до греха, Павел! — припугнула мать.
Глядя исподлобья на Библию, я пятился к двери,
с трудом выдавливая угрозу:
Я учительнице все скажу…
Пусть–ка сунется!
Я весь сжался, наверное, глаза мои были злыми. Отец скрипнул зубами, вырвал из брюк ремень и ожег им мою спину.
Деду скажу! — завопил я.
Нашел защитника?! И на него управа есть! — воскликнула мать.
Это на кого? — спросил дед, вырастая на пороге. — Никишка, ведь сам детей мне на воспитание отдал, чего лезешь?
А что, разве я не отец?!
Отцовства тебя никто не лишает, а вот воспитатель из тебя плохой. Павел, ступай отсюда, я поговорю с ними.
Я юркнул в дверь…
В ИЗБУШКЕ ЛЕСНИКА
Случайно камнем я выбил окно у соседа. Дед взялся за ремень. Я взбунтовался, надерзил ему, а у него разговор короткий:
Вон из дому, балбес! Не приходи, пока ума не наберешься
А мне уж так опротивел этот дом с закрытыми ставнями, эти порки, эти баптистские моления, что я готов был бежать от них на край света. Взял я берданку, охотничьи припасы и — в тайгу. Недавно прошли дожди, и на скошенных полянах вымахала новая трава, речка Сухая забурлила, исчезли старые броды. Я забрался в самую чащобу, и мне повезло: подстрелил четырех рябчиков. Это уже не плохо — ужин есть. Я привязал их за ноги к поясу и поспешил в избушку лесника Прохора. Хозяина не оказалось. Видно, ушел в поселок за припасами.
На плите стояла теплая кастрюля с картошкой. Я раздул тлеющие угли, подбросил дровишек и поставил чугунок с водой, отыскал в кустах дикий лук–сле–зун, ощипал рябчиков, выпотрошил их, вымыл в речке. Знатный будет ужин! Я поймал себя на том, что в лесу мне хорошо, легко, радостно, точно сбросил с плеч целый молельный дом. Как только рябчики сварились, я накрошил в бульон картошки, лука, посолил все это, и скоро в избушке вкусно запахло таежной похлебкой…
Уже темнело, когда пришел лесник.
Никак Никандров внук? — обрадовался он, кладя на самодельный стол картонки с порохом и мешочки с дробью. — Ух ты, как у тебя вкусно пахнет.
Обыкновенно молчаливый, лесник Прохор сегодня был пьяненько–разговорчивый.
Ишь, рябчиков стрелял! Молодец ты. Только вот зря деду перечишь. Он хороший у тебя!
Да, хороший… Из дому выгнал, — пожаловался я.
Да ты чо это, паря? Простил он тебя. Велел домой идти, ежели ты, конечно, ума набрался. — Прохор разгладил сивые усы, которые свисали ниже подбородка, расстегнул ворот рубахи и, сняв буденовку, бросил ее на топчан.
А я откуда з.наю, набрался я ума или нет?
А это недолго проверить. Вот отвечай мне, как нужно относиться к взрослым?
Ну, — замялся я, — ну, уважать их надо… ну, не перечить им…
Во–во–во, это самое и есть. Видишь, выхсgt;дит, ты набрался сегодня ума! — радостно воскликнул Прохор. — Теперь можешь идти к деду, не тронет.
Похлебка моя сварилась, и я наполнил миски. Прохор многозначительно крякнул, вытащив из одного мешочка бутылку водки и малосольные огурчики.
Ну, как за твоего деда не выпить? Выручил.
Дядя Прохор налил себе полный стакан, а мне плеснул на донце.
Да зачем же мне? Я же еще не взрослый! — воскликнул я.
Ты так, для интересу маленечно глони, — засмеялся Прохор. Он оживился необычайно, глаза его посверкивали. Мы чокнулись. Я со страхом проследил, как он, зажмурившись, медленно высосал свой стакан. Лесник шумно выдохнул и прижал к носу горбушку хлеба. Насмелился и я, хлебнул глоток и чуть не задохнулся от омерзительно–вонючей, обжигающе–горькой влаги. Как спасение, я выхватил из миски горячего рябчика и вонзил в него зубы, присосался к нему. А через две–три минуты что–то произошло со мной: мне вдруг стало весело, и я почувствовал себя сильным и смелым, готовым сразиться хоть с самим медведем… Но это недолго продолжалось, и я скоро уснул…
СОВСЕМ ПЛОХО В ДОМЕ
Покраснела от заморозков листва на осинах. Березы на опушке стали соломенного цвета. На рябинах густо висят яркие гроздья ягод. В этот год ее особенно много, значит, быть осени дождливой. Я люблю в такое время бродить в лесу, по берегу речки, меня волнуют веселые звонкие краски осени. Кругом шуршит листва, точно кто–то невидимый, но любимый идет рядом со мной, и мне хорошо с ним, и я мысленно жалуюсь ему на свой угрюмый дом, на свою семью, в которой никто никого не любит… В такое время взберешься, бывало, на скалистый мыс реки Сосновой, и смотришь в бездну сине–зеленого неба, и слушаешь крики улетающих на юг журавлей, и ловишь плывущие серебристые паутинки. Кружатся над тобой чайки. Сердце твое переполняется невыносимой грустью, и тебе хочется улететь с журавлями и утками.
Я плакал от давившей меня тоски и старался представить моря и горы, пальмы и джунгли далеких, чудесных стран, куда улетали наши птицы.
Как–то вернулся я домой из леса, и меня встретила злая, встревоженная мать:
Где ты шляешься, идол?! Ванюшка заболел.
Я бросился к Ванюшке в комнату. Он весь так и горел. Губы его пересохли, на щеках проступил нездоровый румянец. В комнате было душно. Я закрылся на крючок, отвинтил от болта гайку и вытолкнул его. Через форточку открыл ставни. Комната наполнилась ярким светом и здоровым осенним воздухом.
Ты это хорошо сделал, — слабым голосом проговорил Ванюшка. — А то бы я совсем загнулся в этой духоте… Душно у нас в доме, душно… Вот поправлюсь я убегу отсюда.
Куда?
Да хоть на край света… Везде лучше, чем у нас… Я хоть отбиваюсь, они махнули на меня рукой, дескать, отпетый, гореть ему в аду… А тебя совсем замордовали… Не поддавайся им…
Ладно, не поддамся, — успокаивал я его. — Аты где это простыл?
В лесу ночевали с Сашкой Тарасовым… Не подстелил веток и травы, заснул у костра прямо на голой земле. Ночью проснулся, зуб на зуб не попадает. Осень уже. Вот и промерз весь.
Я никогда не видел таким брата. Он разговаривал со мной, как взрослый.
Вань, а почему они врача не зовут? — спросил я, переполненный жалостью.
Вера не позволяет. Бог у них лекарь от всех болезней, — сердито усмехнулся Ванюшка. — Они молятся, просят бога, чтобы он мне здоровья дал. Да что–то я не вижу толку. Не верь ты им. Пошли их всех к черту. Ты думаешь, это меня бог наказал?
Мать говорит, что ты не слушал ее, вот он тебя и наказал.
Легкие у меня простужены. Помнишь, в сенях замерзал? — Ванюшка закашлялся, тяжело, с хрипом. Отдышавшись, он перевернулся на спину, открыл глаза и с недоумением посмотрел на меня, точно не узнавая. Потом его отяжелевшие веки сомкнулись, и он не то заснул, не то потерял сознание.
Прогудел гудок консервного комбината, извещающий о конце рабочего дня. Вслед за ним рявкнул гудок на крыше лесхозовской кочегарки; вдали гнусаво просвистел леспромхозовский.
На следующий день Ванюшке стало полегче, и я просидел у него до вечера. За этот день мы совсем сдружились. Он захотел есть, и я притащил ему целую тарелку малосольных огурцов и помидоров да ломоть хлеба.
Уплетая все это, он рассказывал мне:
Дед злится на отца из–за того, что отец охотится за дедовыми деньгами. Боится, чтобы тот кому–нибудь не отдал их. Особенно они Фени боятся. Дед любит ее. А у деда, говорят, денег целая куча. Это он с разных общин насбирал. И еще будто грабил при царе. О деде много всяких баек ходит. И все–таки он лучше, чем отец и мать… Почитай мне что–нибудь, — попросил Ванюшка, — а то можно со скуки сдохнуть, валяясь так целые дни.
Я обрадовался и притащил «Детство» Горького Эту книгу мне дала моя учительница. И только я начал читать, как распахнулась дверь и вошел насупленный отец.
Дай–ка! — и он выдернул из моих рук книжку. — Жечь не буду, узнаю, что ты читаешь. Если плохое, выдеру. Ох, срамцы, как надоели вы мне! — Отец хлопнул дверью.
Хотелось догнать его и вцепиться в бороду. Но тут за окном затарахтело.
Что это? — спросил Ванюшка.
Сейчас посмотрю. — И я бросился в дверь.
По дороге, гремя гусеницами, катились необыкновенные ярко–красные трактора. Мальчишки бежали за ними. Побежал и я.
Эти трактора были тупорылые, на вид неуклюжие, но необыкновенно верткие. Сзади каждого находился крутой скат с лебедкой.
Котики идут! Котики! — кричали мальчишки.
Какие котики? — спросил я.
Корчевые трактора! — объяснили мне. — КТ!
Я тоже припустил за тракторами. Их оказалось целых двадцать штук. Шлепали мы по пыли до самого леспромхоза. Но тракторы не остановились там и, окутавшись дымовой завесой, покатили дальше, в лес, в сторону лесозаготовок. Там они разъехались в разные стороны. Два из них остались на ближнем участке. Сплавщики кидали в воздух фуражки, приветственно кричали. Один из КТ попятился к высокому и длинному штабелю бревен. С лебедки размотали трос, пропустили его под бревна, закрепили. Трактор опустил на землю скат. Лебедка заработала, трос натянулся и потащил бревна. Они всползли концами на скат. Трактор дернулся и потащил бревна. Вот так силища! Я от восхищения запрыгал, захлопал в ладоши.
Мужики закричали «ура», остановили трактор, вытащили из кабины тракториста и начали его качать.
Теперь дадим план, дадим! — кричали они
. — Не только дадим, но и перевыполним! Отдохнут наши рученьки!
Второй трактор подкатил к толстому пню, вацепил его тросом, рванул–и, как доктор больной зуб, выдернул из земли. Только щепки полетели!
По скипидару теперь план выполним! — не унимались мужики. — Пенек всегда будет свежий! Молодцы наши отцы, а дети лучше! Эй, Савелий, давай обмоем это дело! Что ты, как кот вокруг горячей каши, ходишь?
Я вернулся домой. Отец увидел меня, спросил:
Что там за шум?
Тракторы корневые пришли.
Сам–то видел?
Видел. Силища! Может наш дом разворотить.
Ну? Врешь, срамец!
Не вру. Сходи да посмотри.
…Не успел поправиться Ванюшка, как случилось новое несчастье. Слегла Лиза. Сердце у нее было плохое. Сестра ни на что не жаловалась, она тихо лежала в постели и с каждым днем становилась все бледнее, глаза ее выцветали, ресницы с трудом поднимались.
Окна, как всегда, были закрыты ставнями, в доме стояла мертвая тишина и такая угрюмость, что я готов был рвать на себе одежду и ломать все, что попадется в руки.
На улице лил дождь. Лиза лежала неподвижно и не то слушала его шум, не то спала с открытыми глазами.
«Ведь, умрет же, умрет, — мучился я. — Иди куда–нибудь, зови кого–нибудь. Может, и спасут ее». Но я не знал, куда идти и что делать, и терзался еще больше. Была и такая минута, когда я от отчаяния начал молиться и просить бога оставить сестренку в живых.
Но Лизе становилось все хуже и хуже. Я пытался развлечь ее.
Хочешь, сказки почитаю? — предложил я ей.
Лиза покачала головой:
Не надо.
Что у тебя болит?
Ничего, — тихо вздохнула Лиза.
В ее комнату медленно вошел Ванюшка. Он уже стал поправляться.
Конфетку хочешь? — спросил он.
Только таких, как мама приносила, кисленьких…
Ванюшка достал из кармана пятерку и подал мне.
Я быстро вернулся с кульком леденцов, но Лиза отказалась от них:
Уже не хочу…
Открылась дверь, и в нее просунулась голова Сашки Тарасова.
Косой, ты выздоровел? Молодчина!
Тише! — прошептал Ванюшка. — Лиза болеет.
А что с ней?
С сердцем что–то.
Лиза тупо смотрела в потолок.
Я позову Кузьму Валерьяновича! — сказал Сашка.
Это какого еще Кузьму Валерьяновича? — спросила мать, появляясь в дверях.
Доктора, теть Моть!
Наш доктор — господь! — сурово сказала мать. — Беги домой. Нечего тебе тут делать.
А Кузьму Валерьяновича я все равно позову! — крикнул Сашка, убегая.
Кузьма Валерьянович Лизе не понадобился, к утру ее не стало…
Я зашел в зал и увидел желтый гробик. Тетка Ивановна и другие верующие украшали его осенними цветами, а мать стояла на коленях и скорбно смотрела на безжизненное тело девочки.
Взял, господи, — шептала мать, — а зачем она тебе? Ой, прости меня, Иисус!
«И я молился ему… — подумал я. — Да ничего он не сделал. Потому, что его… наверное…» — Боясь закричать, я ушел из дома…
ШКОЛА
В нашем поселке не было семилетки, и брат уехал учиться в соседнюю деревню. Там он жил у родной тетки. Хорошо ему — ни отца, ни матери, ни деда — делай что хочешь, хоть на голове ходи!
В октябре из дому никуда не вылезешь. Ледяной дождь льет с утра до ночи. На душе так же серо и хмуро, как на улице. В зале молится мать. Она плачет н просит у бога прощенья. Света в зале нет. Из трех круглых печей, через дырки в дверцах, сочится на пол красный свет. По стенам прыгают тени.
Унылый поселок с черными от постоянного дождд избами словно оцепенел среди леса.
Холодный голый лес издали походит на бурую ленту под грядой навороченных до самого горизонта тяжелых землисто–угольных облаков. Они ползут низко, будто цепляясь за деревья. Пусто, глухо в лесу.
Длинные ночи заливают поселок чернотой, заполняют злым шумом ветра. Из углов молельного зала слышится непонятный шорох, половицы скрипят, словно кто–то ходит по ним… Зябкий, серый рассвет не приносит надежды на погожий день.
И в школе мне было скучновато. Учился я неплохо. Родители не разрешали читать библиотечные книги, и поэтому я читал и перечитывал учебники от корки до корки. Учительница объясняла новый материал, а мне было неинтересно ее слушать…
В первых числах ноября моих одноклассников принимали в пионеры. Узнав об этом от ребятишек, мать в этот день не пустила меня в школу. Вечером к нам пришла учительница. Отец читал баптистский журнал и не ответил на ее приветствие.
Здравствуйте, — повторила Александра Ефимовна.
Отец отложил журнал.
С миром приветствую. Прошу вас, садитесь.
Почему сегодня ваш сын не пошел в школу?
Да потому, что вы его насильно в пионеры тащите, а он не хочет.
Неправда! — возразил я. — Я хочу стать пионером, а бы не пускаете!
Вот видите! Нехорошо получается.
А вы не стыдите меня. Я воровать его не заставляю, — вспыхнул отец.
А вы его насильно отрываете от нашей жизни! — мягко упрекнула учительница.
Вы что, Конституции не знаете? Там ясно сказано, что каждый имеет право исповедовать любую религию или не верить в бога. А законодательство о культах? — пошел в атаку отец.
Александра Ефимовна попросила меня:
Выйди, пожалуйста.
Я вышел за дверь и хотел подслушать, о чем они говорят, но дверь закрыли плотно. Долго они разговаривали. Наконец дверь приоткрылась, и я услышал:
Не будем терять времени, Никифор Никандро–вич. Вы же сказали, что не станете насиловать ребенка. До свиданья.
С богом, но смотрите же, когда вас будет есть рак, то не обращайтесь к богу.
Не беспокойтесь. — Учительница ушла.
Отец нервно вышел в зал и налетел на меня:
Безбожник! Ихним стал?! — Он замахнулся на меня. — Душу вытрясу!
А я учительнице скажу!
Вон отседова! — Я пошел из дома, а отец крикнул мне вслед: — Не смей в галстуке домой приходить! Не пущу!
У меня был галстук, купленый на собственные сбережения. Прятал я его в мастерской. Вытащив из–под верстака, я повязал галстук на шею. Он был не из сатина, как у всех, а из шелка. И пахло от этого кусочка пламени чем–то весенним, волнующим.
Вдруг взвизгнула дверь, и передо мной возник отец. От неожиданности я остолбенел.
Что?! Слово божье не по нутру пришлось?! У сатаны слаще? — Отец схватился за галстук и чуть не задушил меня. Потом сдернул его и пошел в дом. Я— за ним, плача:
Не надо его жечь! Не надо! Пусть у меня лежит, я не буду надевать!
В нашем доме, кроме святых книг, ничего не должно быть. Грех это. Понимаешь? Господь накажет нас! — И отец бросил галстук в горящие угли.
Галстук вспыхнул, и мое сердце вспыхнуло вместе с ним.Зачем, зачем? — плакал я.Замолчи! Сатаненок!Рыдания сотрясали меня, я даже говорить не мог— заикаться стал.За то, что ты не пионер, никто тебя не осудит, а вот нагрешишь, каждый пальцем на тебя покажет.Пи… пи…о–о–о… неры не гре–шат!Знаю я этих честных! Вон Сашка Тарасов — пионер, а у меня банку пороха стащил, да еще топорик впридачу. Вот тебе и пионер, всем ребятам пример. Бездельники все они. Того же Сашку взять, чего он делать умеет? Ни шиша не умеет, а ты у меня все умеешь. Вон последняя–то модель самолета как далеко летала! Молись, верь, служи господу — и ты будешь счастлив.
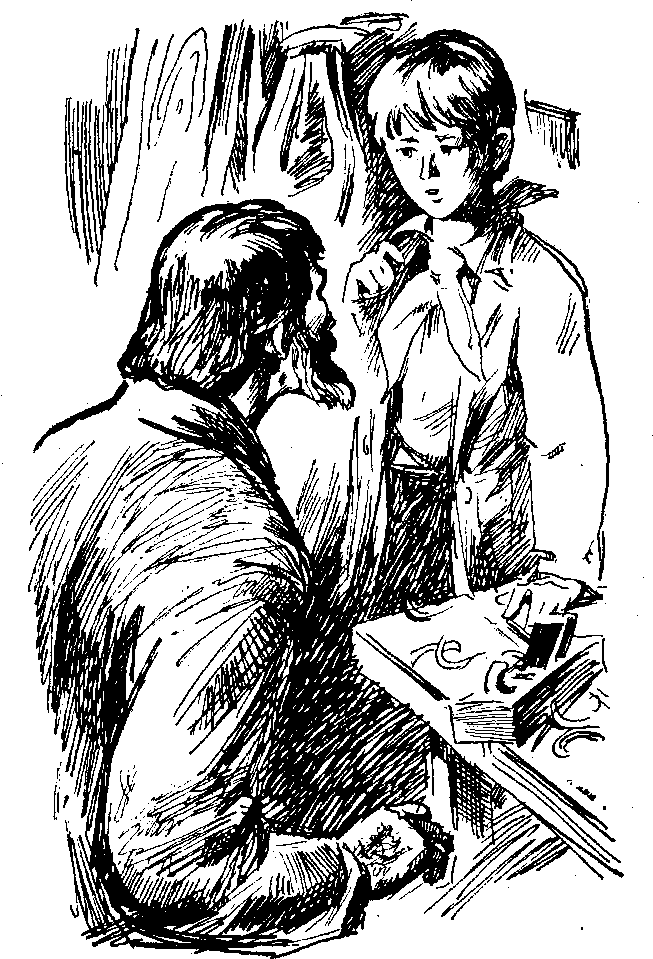 |
А я уже не мог молиться и верить. Боясь этих мыслей, я торопливо надел брезентовый плащишко и отправился в лес… Он всегда успокаивал меня… С елок свисали большие капли. Сырой тяжелый туман ворочался над полянами. По стволам сосен шмыгали поползни, сизо–серые пичужки с длинными носами. Глухо разносился стук дятла. Трещал под ногами хворост. Капли, падая с веток, шуршали в листвяном ковре. Все это помаленьку успокоило меня.И вот я пришел на свое заветное место. Не раз я бывал здесь, на моей поляне сказок. На ней, среди кустов смородины, среди пней валялись гнилушки, сучки, коряги, вырванные корни.
Но это для мальчишек были здесь просто сучки да гнилушки, а для меня это были черти, колдуны, русалки. Они так и вылезали из всяких деревянных обломков и коряжин, и я удивлялся, как это ребята не видят их? Я.любил освобождать все эти затаившиеся в дереве существа. Возьмешь сук, тронешь его ножиком, поковыряешь долотцом, а там подпалишь огоньком — глядь, и в руках твоих головастый леший с палкой. В такие минуты я чувствовал себя счастливым, и уже не существовали для меня ни отец, ни мать, ни опостылевший молельный дом…
Вот и на этот раз я притащил домой целую охапку всякого лесного добра, закрылся в своей комнате и взялся за ножички да пилки. Из одного узловатого скрюченного корня явно смотрел на меня лукаво мой дед. Долго возился я, пока не вытащил его на белый свет. Полюбовавшись им, понес его в кладовку. Там стоял тяжелый ящик из толстых кедровых досок, в нем я и прятал свои сказочные существа.
Я зажег фонарь, вытащил их, расставил на разных кадушках и опрокинутых корзинах. Я любовался ими. И тут застал меня дед. Он возник в дверях внезапно, как домовой из–под печки.
Это што у тебя тут? — с любопытством спросил он.
Лесной народец! — с гордостью ответил я. — Делаю, как ты учил.
Гм… леший, козел, ворона… Постой, постой! Это кто? Что за ведьма? — И вдруг дед зычно загоготал. — Да ведь это же одноглазая Ивановна! Ну, скажи на милость, вылитая Пелагея.
Я тоже хохотал вместе с ним.
А это кто? — Дед взял только что вырезанное мною чудище. — Ах ты, шельмец! Да неужто это я? А ведь и правда — я. Быть тебе художественных дел мастером. Кончай школу, и пошлю я тебя учиться к мастерам в Москву. Человеком станешь!
На другой день случилось неприятное. Во время большой перемены я сидел за партой и рисовал самолет. Вокруг меня столпились ребята.
Пашка, неужели тебе не хочется быть пионером? — спросил один из них.
Я неожиданно для себя заплакал, бросил карандаш и убежал на улицу. Там встретил меня рыжий Толька Пономарев.
Эй ты, бактист! Сколько раз сегодня молился? — закричал он.
Дурак конопатый! Подойди только сюда. — Я весь дрожал от злости.
Толька подошел:
Ну, что тебе, Исусик?
А ты подхалим! — Я бросился на Тольку, сшиб его с ног. — Это тебе за Исусика, Исусика, Исусика! — Сидя верхом на Тольке, я с яростью бил его по лицу. Вскочив, я начал пинать его. Тут кто–то схватил меня за руку и оттащил. Я оглянулся и увидел учительницу Александру Ефимовну.
Ой, Павел, как нехорошо, — упрекнула она.
А чего он обзывается? — Ладонью я стирал слезы со своего лица.
А ты мне говори, я сама накажу его.
Отбегая, Толька угрожающе крикнул:
Ну ладно, бактист, погоди!
Я вернулся в класс и сел за парту. «Кому я сделал плохое? — подумал я. — А меня дразнят. За что? И совсем я не баптист. Это отец с матерью баптисты. Это из–за них мне плохо. Всем можно быть пионерами, а мне нельзя, все ходят в кино, а мне нельзя, все читают книги, а мне нельзя». Эти горькие мысли мучили меня…
Когда я шел в раздевалку за своим пальто, меня остановила пионервожатая:
Павлик, ты хорошо рисуешь, помоги нам оформить пионерскую комнату.
Я разозлился и выкрикнул:
Я баптист, поняли? — И, взяв пальто, выскочил на улицу. Там меня поджидали мальчишки во главе с Толькой Пономаревым. Я схватил камень.
Ну, теперь держись, бактист! — заорал Толька и бросился на меня. Я швырнул в него камень, он схватился за плечо, завыл. Другого мальчишку я пнул в живот, и тут на меня кто–то прыгнул сзади.
Выручил меня Маркел. Он расшвырял насевших на меня мальчишек.
Не стыдно вам, на одного напали! — ругался Маркел. — А к твоему отцу, Толька, я сам пойду с жалобой. Ишь ты, какой пономарь выискался! Он тебе шкуру–то спустит.
…Через несколько дней Толька отомстил мне.
На занятия в школу я иногда приходил рано. Вот и в этот день еще не было восьми утра, а я уже сидел за партой, читал сказки Пушкина. Учительница предупредила нас, что сегодня на первом уроке истории будет присутствовать директор школы Наталья Фоминична.
Мы не любили ее за нудный характер и даже прозвали ее «Фомой». Наталья Фоминична знала это. Напротив школы находился стадион, обнесенный забором. Кто–то из мальчишек написал на заборе «Фома». Проходя мимо, ученики смеялись, показывая на надпись.
В классе, кроме Тольки, никого не было. Чувствуя отвращение к нему, я ушел в коридор. Прибежали приятели Тольки. Войдя снова в класс, я увидел на доске написанное «Фома». Как многие ребята, я недолюбливал директоршу, и заранее улыбался, представляя, как сейчас она взбеленится, увидев на доске свою кличку. Наконец прозвенел звонок, дверь открылась, и в класс вместе с учительницей вошла Наталья Фоминична. Она сразу же уставилась поверх очков на доску. Ничего не сказав, круто повернулась и вышла.
Александра Ефимовна даже побледнела.
Кто это сделал?! — тихо, но страшно спросила она.
Все молчали.
Я спрашиваю, кто это сделал?
Александра Ефимовна, это Кудрявцев написал, — мягоньким голоском произнес Толька. — Он и на стадионе тоже написал!
Мне точно ножом полоснули по горлу, и я ничего не мог сказать в свое оправдание.
Александра Ефимовна быстро подошла ко мне, взяла сумку, положила туда мои тетрадки и приказала:
Иди домой, а завтра приведи отца или мать.
Я очнулся уже на улице.
Шел дождь со снегом. Холодный ветер метался по поселку. Ледяные струи хлестали по лицу. Глотая слезы, я шлепал по грязи сам не зная куда. Не помню, как дошел до дому, бросил сумку на пол и с ожесточением запинал ее под кровать. Взяв берданку, я ушел в лес.
Самое страшное было впереди. Куда деться, что делать? Как жить дальше? «Отцу не скажу, а то он изобьет меня», — решил я.
Угрюмая седая тайга шумела, ветер взъерошивал, мотал ветви кедров и сосен. В полусумраке проносились тяжелые серые хлопья снега. Я кое–как добрался до избушки Прохора.
Куда тебя в этакое ненастье понесло? — удивился он.
Я обо всем рассказал ему.
Подлец Толька, — рассердился Прохор. — Завтра я поговорю с его отцом. Ты не отчаивайся, сынок. Все будет хорошо. Сейчас груздочков поедим, чайку с медком попьем да спать ляжем, а утром все обмозгуем.
Я лучше домой пойду.
Ты что, сдурел? Куда в темень этакую? Еще заблудишься. А вдруг волки? Не дури, малый. Вон шубу тебе постелю на печи.
Прохор вышел в сени и принес чашку соленых груздей.
Но еда не лезла мне в горло. Съел пару груздей да хлебнул два–три глотка чаю.
Ночью мне снился то отец с розгами, то сердитая директорша, то ухмыляющаяся рожа Тольки…
Утром, подходя к дому, я ждал криков, ударов, но отец поразил меня ласковой улыбкой.
Ничего, сынок, ничего ты не потерял, — обрадо–ванно сказал он. — Я все знаю. Это хорошо, что они изгнали тебя. Ты избранный, и бог защитил тебя. Теперь безбожники не будут настраивать тебя против него. До нового года отдохнешь, а там я тебя в Москву свезу. Будешь учиться на пресвитера. По моей тропке пойдешь — счастливым будешь, а их тропа — мертвая. Их и цветы ядовитые… Запомни, сын: все, что сделаешь ты хорошего, — в этом будет заслуга не твоя, это снизойдет на тебя благодать свыше. Ты — ничто. Считай себя нулем. Ты лишь пустой сосуд, который должна наполнить божья благодать. Вот она–то тебя и возвысит.
«Лучше я из дома убегу, чем буду учиться на этого самого пресвитера! — подумал я. — И почему это я— ничто? »
Выручил меня дядя Прохор. Он заставил Тольку Пономарева все рассказать учительнице. Она пришла за мной, сказала, что произошло недоразумение и я могу посещать школу.
Да чему же вы его учить–то будете? — с насмешкой спросил отец. — Обману? Несправедливости? Наветам? Нет уж, мой сын больше не пойдет в вашу школу. У него будет другая школа, школа Христа. Там не будет обмана. А теперь ступайте с богом!
Но ваш сын обязан учиться! — возмутилась Александра Ефимовна. — Никому не дано право нарушать закон о всеобщем обязательном обучении.
Вы их не учите, а только против бога настраиваете. Вы уничтожаете свободу вероисповедания.
Никто не покушается на вашу веру. Молитесь, если вам хочется, молитесь. Но только помните: детей привлекать к богослужению запрещено… А ваш сын обязан посещать школу! Запомните это!
Хорошо! Спорить не буду, вы и так его уже наполовину испортили. Пусть учится, а там видно будет. Но предупреждаю, чуть что, сразу же заберу его.
ДЕДОВА ЛЮБОВЬ
Ударил морозец, снегу немножко насыпало, веселее стало после нудного осеннего ненастья. Казалось, только одна мать ничего не замечает, ничему не рада. Стоит на коленях, молится:
Господи, дай мне силы дойти до конца нашего тернистого пути и отдохнуть от земных забот на небесах твоих, — шепчет она плача.
Я уже не могу выносить эти моления, они мне хуже горькой редьки. Потихоньку ухожу в подвал. Там ярко горят две лампы, тепло и домовито.
Дед что–то вырезал на тонкой березовой доске, Я сел рядом на чурбачок и стал следить за работой.
Дед, увлеченный любимым делом, даже не взглянул на меня. Наконец обернулся ко мне и добродушно спросил:
— Ну, как, понял, что к чему?
Я залюбовался узором на доске, который дед сплел из выпуклых, чисто вырезанных ромашек.
Научил бы ты и меня так вырезать, — попросил я.
Эх, внучек, внучек! — весело воскликнул дед. — Не до тебя сейчас пока. Женюсь ведь я, парень!
На Фене? — изумился я.
Угадал!
Эта Феня работала на нашей почте. Была она оди–нокой, и никто не знал, откуда она приехала к нам в поселок.
Дед взял со столика зеркало, повесил его на стену и долго стрекотал ножницами, подправляя усы и бороду, скоблил лицо бритвой прямо на «сухую». Грустно мне стало. Уходил из моей жизни загадочный, озорной дед. И все из–за этой Феньки. Прогнать бы ее, хоть она и красавица–раскрасавица.
Я долго бродил по двору, весь свежий снег испятнав своими следами. Когда замерз, прокрался в дом, боясь, чтобы мать не засадила меня за Библию. Я уже хотел скрыться в своей комнатенке, но слово «Фенька», произнесенное в кухне, остановило меня. Дверь была приоткрытой.
Вот женится папаша, что тогда? Как жить–то будем, Никиша? Пойдут у них дети, и все имущество к ним перейдет*— бубнила мать. — Папаша все им отдаст, а тебе что останется? Сколько силы в этот дом вложил!
Отец молчал.
Сбесился, что ли, он под старость лет? — продолжала мать.
Любит он ее, — буркнул отец.
Да ведь ей, потаскухе, тридцать, поди, а ему сколько? А потом — она неверующая. Слово божие не допускает вступать в брак с неверующим. Он идет против общины.
Ладно тебе… Господь даст, все хорошо обойдется. Может, она передумает, либо сам за ум возьмется. А нет, сами исправим дело. Поняла? — многозначительно спросил отец.
Какое там «исправим»! — страстно выдохнула мать. — Ведь она от него уже в тягости…
Будет врать–то!
Истинно говорю! Как ни придет, все солененького просит… Огурцы так и жрет с жадностью!
Исправим, не допустим, — заверил отец. — Не допустит господь этого бесовского ликования.
«Хоть бы не допустили», — с надеждой подумал я и решил вернуться в подвал и узнать, как там обстоят дела. «Может, дед на самом деле передумает», — успокаивал я себя.
Открыв дверь подвала, я не узнал деда. Лицо его выглядело моложе из–за того, что он подправил усы и бороду. Его могучую грудь обтягивала белая шелковая сорочка, талию охватывал широченный кожаный ремень с блестящей пряжкой, кольцами и цепочкой для старинных карманных часов. Отглаженные черные брюки были заправлены в голенища хромовых сапог, начищенных до блеска. Редко я видел его таким нарядным. Он хитро подмигнул мне и весело сказал:
Вот как, внучек! Седина в бороду — бес в ребро.
И хоть я не понимал смысла поговорки, я все равно засмеялся вместе с дедом.
Стукнула дверь, и мы оглянулись.
Вошла Феня с улыбкой на губах. Сняла черную плюшевую жакетку, повесила на гвоздь, сбросила на плечи платок и повернулась к деду, дескать, смотри — вот я какая.
Была она круглолицая, черноглазая, брови у нее полукруглые, губы — что калина. Полная, но не толстая, двигалась она мягко и плавно. Должно быть, деду было хорошо рядом с ней, уютной и ласковой. Он бережно провел рукой по ее гладко причесанным волосам, собранным на затылке в узел.
Огонь, полыхая в буржуйке, точно красные тряпки на ветру, до черноты облизывал березовые поленья.
Приоткрой дверь–то, — попросила Феня, — а то уж больно жарко у тебя.
Я могу и без печки, — как–то басисто проурчал дед, — мне около тебя и так тепло.
Он приоткрыл дверь, в душный подвал потянуло свежестью. В широкую щель заглядывал месяц. Клубком покатился по полу холодный, пахнущий хвоей и снежком ядреный воздух. Видя, что на меня не обращают внимания, я улегся на залавке, где был постлан овчинный тулуп, пропитанный запахом ржаного хлеба.
В подвале находился неглубокий погреб, вырезанная в полу тяжелая крышка закрывалась на замок, ключ от которого находился у Деда. Что хранилось в этом погребе, я не знал. Дед открыл его, достал бочонок и маленький мешок. Он поставил бочонок на толстенную чурку, покрытую скатеркой. Чурка служила столом. Дед что–то вытряхнул из мешка. Выдернув пробку, он налил вино в маленькие берестяные туески.
Феня подошла ко мне, тихо и ласково сказала:
Бери. — И насыпала мне полную ладонь изюму.
От Фени пахло фиалкой. Девки в поселке сушили
ее и носили в карманах для запаха. На столе в деревянной миске, вырезанной дедом, лежали золотистые ранетки и стояло в туесочках вино, сладкое и душистое, как июльские травы. Это вино дед привез с Украины. Туда он ездил по каким–то делам баптистов. Дед говорил, что мужикам такое вино и во сне не снилось. Да и на что купить–то его, если б и было где? Бабенки дрожат над каждой копейкой, монетки по уголкам платочка вяжут. В одном уголке на хлеб, в другом — на соль, в третьем — на мыло, в четвертом… Где уж до сладкого? И так ладно. Сосед к соседу за огоньком ходит. Время послевоенное, трудное. А у деда деньги дармовые, молельный дом собирал.
Дед взял туесок и о чем–то задумался. Наконец он тяжело вздохнул и сказал:
Сам на дно камнем лечу и других тяну.
Ты про что это? — забеспокоилась Феня.
Да все про то же… Все про то… Хотел я сделать так, голубушка моя, чтобы люди не знали больше зла. Хотел указать им правильный путь, а на самом деле завел их в чащобу непроходимую.
Так скажи им! —воскликнула Феня.
Не могу™ Сбегу я от них, братьев моих и сестер. Великий я грешник. А замолить грех не перед кем… Искал бога, а нашел тебя. Мне с тобой только тепло и хорошо. Земной я, весь земной! Они все восстают против тебя. Но я сделал выбор.
Дед обнял Феню, прижал к себе. Я закрыл глаза, притворился спящим и уже не сердился на деда — очень уж доброй и славной была Феня. И было мне радостно и спокойно оттого, что дед усомнился в боге. Значит, нечего мне бояться кары за мои сомнения… Значит, некому меня и карать…
Гудели дрова в печке, лампа ярко горела, освещая все углы. Пахло медом, кожей, коноплей и полынью. Я поплотнее прижался к тулупу и не заметил, как уснул…
РАЗЛУКА С ДЕДОМ
Дед вывел из конюшни Пегана и запряг его в легкий ходок. Он уезжал в город за новой фисгармонией для молельного дома. И еще хотел кому–то предложить организовать артель угольщиков.
Я, брат, знаю секрет… Деготь умею гнать душистый, скипидарчик что твоя слеза — чистый, а уголек умею выжигать звонкий, как стеклышко. И государству будет выгода, и мужики будут заняты, и у меня заведется живая копейка, в рот тебе блин, — похвалялся дед. — Наш край лесной, тут ли нет места развернуться углежогам? Самое место для смолокуренного заводика. А то ишь сколько сырья пропадает. Плохо хозяйничает наша поселковая власть. Помогу ей. А молельный дом сдам в руки отца твоего.
Ты же с Феней в город собирался, — заметил я.
Это потом. Ты об этом молчи. Понял? Ни матери, ни отцу! — Он погрозил толстым жестким пальцем. — Я тебе из города кое–чего привезу.
А чего привезешь?
Увидишь.
Дед ушел переодеться в дорогу…. Легкий морозец казался звонким, как ломкий ледок на вымерзших лужицах. Заборы и дома после дождей покрыты тонюсеньким слоем льда, будто морозец оплавил их стеклом. Из–за решетчатого забора выглядывают осинки, с них еще не все слетели листья, и они стоят тесно, прислонившись друг к дружке.
ХлеЕа, конюшни, бани, избы, твердые дороги — все приготовилось к зиме, все было чистым, как вымытые огурцы перед засолкой.
Гуси и утки тоже будто пмиолодели. Они весело гогочут и крякают, приплясывая от морозца–щипача сочно–красными лапами. Бкло мне в то утро, неизвестно почему, легко и радостно.
И дед вышел на крыльцо радостный. На нем меховая шапка, легкий овчинный полушубок, блестящие хромовые сапоги. В руке, туго обтянутой вязаной перчаткой из белой шерсти, он держал резную трость собственного изготовления. Она, пожалуй, весила не меньше пуда!
Провожать деда вышли мать с отцом.
Не задерживайся долго, — попросил отец, выводя Пегана под уздцы на улицу.
Как все выхлопочу, так и приеду, — пообещал дед, моложаво садясь в ходок.
С деньгами поосторожнее будь, не рубль с собой везешь, — предупредил отец.
Не маленький. — Дед накрыл ноги попоной. — Ну, оставайтесь с богом! Павлик, проводи деда.
Я тут же прыгнул в ходок.
Но–о! — гаркнул дед и хлестнул Пегана.
Мы покатили. На поворотах кусты репейника и полыни цепко хватались иссушенными лапами за спицы колес и отскакивали с оторванными головами. Голые березки уходили от дороги все дальше и дальше, они становились прозрачными и, наконец, как бы совсем растаяли в серо–сиреневой дымке. Кое–где белели в низинах пятна снежка.
Но–о, милай! — Дед взбодрил Пегана вожжами. — В новую жизнь мы уезжаем, внук! Со мной ты будешь. Пошлю я тебя учиться на художника! У тебя есть этот природный дар. В меня ты, видно, пошел. Да сбился твой непутевый дед с дороги. Все проворонил. Сижу вот у разбитого корыта. А сила у меня была, была… Где она теперь? На что растратил ее?.. Хочу хоть последние годы пожить по–человечески. Спасибо Фене, оживила она меня. Ты ее люби — сердце ее чистое, открытое… Ну, беги домой!
Я спрыгнул с ходка на обледеневший снежок.
Пеган всхрапнул, навострил уши, задрал кверху морду и тоскливо заржал, а когда в ответ на его клич отозвалась кобыла, он заржал снова.
Ходок, прозвенев колесами по мерзлой дороге, скрылся за поворотом.
ВЕДЬМА
После отъезда деда вечером к нам пришла старуха Фекла по кличке «Зуб на зуб, картошки надо?»
Прозвище Фекле дали мальчишки. Старуха ходила по домам и собирала милостыню. Ребята бегали за ней и горланили:
Зуб на зуб, картошки надо?!
Кличка пристала к ней, как репейник, и взрослые перестали называть старуху по имени. Часто пьяная Фекла валялась под забором. Мальчишки расписывали ее лицо сажей, прятали ее калоши, связывали ноги.
У Феклы — ведьмины глаза и толстенные губы. Но, несмотря ни на что, старуха пользовалась уважением в поселке. Она знала тайны многих трав и излечивала кое–какие болезни. Позовут ее к больному. Принесет она сухую травку, сделает отвар, даст выпить больному, глядишь, и полегчало ему.
Рассказывали, будто Фекла может присушивать парней к девкам или, наоборот, разводить их. Может сглазить малое дитя. Рассказывали шепотом, что есть у этой ведьмы и ядовитые травы. Никогда она у нас не бывала, и вдруг — приплелась. Я удивился этому. Мать турнула меня из кухни и зачем–то закрылась с ней.
Я, конечно, не выдержал и стал подслушивать, о чем они говорят.
Но ничего толком разобрать я не сумел — хоть дверь была неплотно прикрыта, они шептались еле слышно.
Я понял только одно — мать объясняла Фекле, почему Феня должна уехать.
Ты ей растолкуй, — повторила мать несколько раз, — она тайно должна уехать, иначе ей худо придется. Ведь весь поселок узнает, что Феня в тягости от старика… Она позору не оберется, ей легче в петлю будет залезть, чем эту срамоту вынести…
Вышла из кухни старуха, бормоча себе под нос. Я разобрал только одну фразу:
Дай бог вам не суетной жизни, а мне силушки доползти до могилушки…
Согнутая крючком, с грязной котомкой на спине, опираясь на отшлифованную руками березовую палку, она потащилась к магазину…
Почти сразу в комнату к матери зашел отец, я едва успел отскочить.
Ну, как, поговорила? — громко спросил отец. — Предупредила, чтобы Феня уехала, никому не сказавшись? И чтобы адрес свой не сообщала?
Все сказала. Денег Фекле дала, еще пообещала, если Фекла сделает, как условились.
Ну, тогда наше дело в шляпе. Феня, конечно, уедет. Я еще с ней поговорю. А то что получается? Дети у них пойдут — отцовы деньги к ним перейдут. А что братья и сестры скажут, если узнают, что бывший пресвитер с неверующей согрешил? А мне–то каково будет, коли заговорят, что у пресвитера отец блудом занимается?..
Дня через три зашла к нам Феня. Я обрадовался ей. Мать с отцом встретили ее приветливо, усадили обедать, напоили чаем. Прямо как с родной обращались с ней. «Это они из–за деда, — подумал я, — чтобы он не женился на ней».
Феня уходила задумчивая, грустная — видно, отец с ней тоже говорил об отъезде.
А через три дня я услышал, как судачили женщины :
Ты подумай, что стряслось–то с Фенюшкой? В одночасье собрала свои вещицы и подалась куда–то. Никому словом не обмолвилась, в какое место уезжает. А ехать–то не хотелось ей, сердечной, все слезами обливалась…
На все воля господня, — вздохнула собеседница…
Дед приехал веселым, помолодевшим. Он привез
спрятанную в ящик фисгармонию. Я крутился возле него, ожидая обещанный подарок.
Хватит дома торчать, Никифор! Артель организовать разрешили. Из города пришлют человека, он и займется этим. Мы с ним раздуем здесь кадило вовсю. Если хочешь, и ты припрягайся к нам, — громко сказал дед.Отец и мать молчали, смотрели на него испуганно.
Дед, наконец, заметил это необычное выражение их лиц. На миг тоже замолчал, пронзительно глядя на них.
Вы это чего?.. — спросил он подозрительно.
Черную весть мы должны тебе сообщить, тятя, — печально проговорил отец.
Господи! Уехала ведь наша голубка Фенюшка, — запричитала мать, и лицо ее облилось слезами.
Как это… уехала? — хрипло и глухо, словно из–под земли, спросил дед.
Я со страхом смотрел на него.
Вот так и уехала, даже не сказала куда, — с трудом выговорил отец.
Видно, известие какое–то получила, — взвыла мать, — вот и уехала…
Как это… Что же случилось? — растеряннр спросил дед и тяжело опустился на табуретку. Должно быть, ноги его подкосились.
В поселке говорят, что она будто к своему первому мужу решила вернуться, — сокрушенно вздохнул отец.
Какому мужу? Что выдумываешь. Никакого мужа у нее не было!
Я что слышал, то и передаю…
Дед хватал ртом воздух. Отец метнулся к кадушке, зачерпнул ковшиком воду, сунул его деду. Дед ударил по ковшику. Вода хлестнула мне в лицо, а ковшик, гремя, запрыгал по полу.
Приходила она сюда?! — заорал дед.
Нет, тятя, нет… Как ты уехал, мы ее и не виде–ди, — торопливо ответил отец.
Да и зачем бы она пришла к нам, если ты уехал, — поддержала его мать. — Она нас, верующих–то, не особенно жаловала.
«Как же так? Ведь приходила тетя Феня, — подумал я, — зачем они врут? Или забыли?»
Но дед был так страшен, что я промолчал. Молодцеватости его как не бывало.
Тяжело поднялся он и, мгновенно постаревший, медленно вышел из дома. Дед хлопнул калиткой и куда–то пошел по пустынной улице.
Весь день мне было нехорошо, смутно, тревожно. В предчувствии каких–то страшных событий я вздрагивал от малейшего стука. Это чувство тревоги не покидало меня и в школе. Я плохо слышал то, о чем говорила учительница, почти не видел, что писали на доске. А когда учительница задала мне простой вопрос по русскому языку, я запутался и не смог ответить.
Что с тобой? — спросила учительница. — Витаешь где–то в облаках.
Прибежав домой, я заглянул к деду в мастерскую. Он редко пускал меня сюда. А я любил эту мастеркую. Там на полках лежали всякие молотки и молоточки, рубанки и пилки, щипцы и долотца. На других полках грудились разной формы сучки, куски деревьев, обрубки корней. На полу валялись доски с вырезанными узорами, фигурные столбики, деревянные кружева оконных наличников. Дед был большой мастер по дереву. К своему художеству постепенно приобщал он и меня. В мастерской вкусно пахло политурой, лаком, смолистым деревом…
Дед сидел, облокотившись на верстак и охватив косматую голову своими ручищами. Перед ним стояли целых две бутылки водки и деревянная миска, полная соленых груздей.
Я остановился у порога. Дед тяжело повернул голову на скрип двери. Глаза его были, как у слепого, — смотрели и ничего не видели. Потом они все–таки узрели меня.
А–а… внучек… Вот как, брат… А ты… ты — брысь отседа… Завтра, завтра приходи…
И дед отвернулся от меня. Он был пьян, неимоверно пьян…
Весь вечер отец и мать таились на кухне, двигались бесшумно, иногда о чем–то шептались и легли спать рано. Лег и я. Мне хотелось, чтобы скорее прошла ночь, — не терпелось получить от деда подарок…
Как только проснулся, торопливо ополоснул лицо холодной водой и — к деду в мастерскую.
Он был угрюмый и трезвый. На нем — ватные брюки, ватная телогрейка, подпоясанная широким ремнем, на котором бренчали различные кольца, зажимы и висел большой нож в деревянных ножнах. На верстаке лежали патронташи, бердана, набитая чем–то котомка и мешок с веревками. Дед брал его всегда, когда уходил в тайгу на медведя.
Проснулся? Ну заходи, — проговорил дед.
На охоту собрался? — спросил я.
Взял бы я тебя, да учиться тебе надо. — Дед непривычно ласково погладил мою вихрастую, давно нр стриженную голову. — Один ты у меня теперь остался. Вот так–то, внучек! Только ученье поможет тебе вырваться из этого вертепа.
Он вытащил из–под верстака новенький ранец.
Тебе. Учись.
Я торопливо раскрыл ранец и принялся вытаскивать всякие сокровища. Там оказались масляные краски в тюбиках, акварельные — в коробке, кисти, цветные карандаши, тетради для рисования, большой альбом с репродукциями — «Третьяковская галерея», книги, перочинный ножичек с тремя лезвиями, со штопором и даже с вилочкой…
Я благодарно и восхищенно посмотрел на деда.
Ну, вот и хорошо, — ухмыльнулся он в бороду, а потом положил руки мне на плечи и, глядя в мои глаза, спросил:
Без меня кто к нам приходил? Баптистов не называй. Кто, кроме них, приходил?
Фекла… Тетя Феня…
Руки деда, словно железные зажимы, стиснули мои плечи. Мне показалось, что он раздавил мои кости, — так было больно. Я вскрикнул. Дед бросился из мастерской, оставив дверь распахнутой в мороз, в сиянье снега. Я торопливо столкал свои сокровища в ранец, прижал его к груди и побежал в дом. Мне казалось, что сейчас должно случиться страшное.
Шмыгнув в коридорчик, я застыл на месте. В кухне, захлебываясь, в ужасе кричала мать. Раздавались удары, грохот. Дед бил и отца и мать.
Что ты, тять?! Что ты?! — прерывисто бормотал отец.
Скоты! Звери! Звери! — хрипло выдыхал дед. Раздавался удар — и кто–то рушился на пол.
Да ты ополоумел?! — визжала мать. — Мы и в глаза–то ее не видели!
«Фекла призналась деду! — подумал я, пораженный догадкой. — Убьет он их. Зачем я только сказал?» Я бросился в свою комнату и закрылся на крючок.
Я хотел было молиться и просить бога, чтобы в доме не произошло ничего страшного, и вдруг понял, что не могу молиться потому, что уже не верю в бога. «Где же ты был, когда так жестоко обманули Феню? —подумал я. — В твоем молельном доме одна ложь! Да нет тебя, злой старик! И мать с отцом — разве в душе у них ты живешь? Дедушка правильно сказал: звери они, звери! Только обмгнывают всех в этом своем доме».
Я уткнулся в подушку и глухо завыл е бессильной ярости… В этот день я потерял не только бога, по и отца с матерью. В этот день свершилось то, что исподволь подготавливали школа, природа, люди — вся окружающая жизнь и моя жажда жить…
ПРИЕЗД ЕВМЕНА
Я с нетерпением ждал деда, часто выбегал на дорогу и глазел на опушку леса. Но тайга молчала. Она будто проглотила деда. Я боялся, чтобы его не задрал медведь. Мне представлялось, как валяется он в снегу — мертвый, никому не нужный.
Мучимый одиночеством, я уходил в сад и долго бродил там по снегу. На нем красногрудые снегири казались еще красней. Они весело прыгали по саду, выгребая из–под снега мороженую калину и рябину.
Я ходил по саду, а снег крякал под ногами, как селезень. Многочисленные следы ворон и сорок синели на нем черточками. Воздух пах смолой деревьев.
Я садился на пенек и прислушивался к голосам синиц, чечеток, клестов, к потрескиванию и скрипу морозца. Растрепанные ели стояли в снеговых шапках. Баня тоже укрылась снежным одеялом и стала низкой, маленькой. В саду были и кедры. Ветви их сгибались под снежной тяжестью. Иногда снег рушился, бухая в сугробы. Все здесь было таинственным и сказочным. Тихо и бело вокруг…
Едва оправившийся*после побоев деда отец как–то утром сосчитал деньги, собранные с верующих, вздохнул и сказал:
Мало собрал, мало. Если и дальше так дело пойдет, не то что пресвитерам платить, а и вина к вечере не на что будет купить.
Плохо мы несем людям слово божие, — всхлипнула мать.
ут уже не до новых, хоть бы старых–то братьев да сестер сохранить. Дед наш совсем откачнулся от божьего дома. Да и сама жизнь все рушит, плотского соблазна много.
В это время пришел к нам Парфен. Уши его раскраснелись от мороза. Ходил он почему–то без шапки, подняв воротник коротенького осеннего пальто.
Мир вам, — проговорил он.
Лицо его было бледным и унылым. Черные брови сошлись над переносицей.
И тебе мир, — приветствовал отец. — Проходи, брат Парфен, присаживайся.
Парфен сел на лавку.
Ты чем–то опечален, сын мой? Или с Анютой что случилось?
Горе у ней… Мать ее преставилась сегодня….
Отец сразу оживился.
Да, это истинное горе. А ты Анюту господом утешал? Да и сам–то прибегаешь ли к господу? Облегчил ли Иисус твою жизнь?
Очень облегчил. Бывает, навалится какая–нибудь беда или тоска. А помолишься Христу — и легче на душе станет. И думаешь о том, что господь для искупления наших грехов и холод, и голод, и муки всякие терпел. А мы в мелких житейских бедах своих стонем да ропщем. Он терпел и нам велел… Вот и несешь крест свой, а дух божий помогает.
Это хорошо, что ты так чувствуешь. Пусть не ослабевает твоя вера. С ней легче. Веди и Анюту к нам в молельный дом. А то ведь нельзя тебе жениться на ней.
Не пойдет она.
Пойдет, если любит, веди.
А ведь я, брат Никифор, к тебе пришел…
Знаю, знаю, брат, зачем ты пришел. Сам господь велел нам помогать друг другу. Деньги нужны на похороны?
Мне только взаймы. Помочь надо Анюте. А зарплату получу — отдам.
Ты, брат мой, пришел в общину, а мы помогаем друг другу… Мать, пойдем поможем ему. Да и с Анютой побеседуем…
Едва они ушли, как в кухню неожиданно ввалились… Редько. Ненавистные мне Редько: Пронька, тетка Ага, Евмен. Два мужика начали таскать в дом разные узлы и чемоданы. Я ничего не сказал, скрылся в своей комнате…
О, брат Евмен Стратионович приехал! — с притворной радостью воскликнул отец, когда вошел.
Братья во Христе крепко обнялись, поцеловались.
Ну, как съездил? Рассказывай. Сестра Ага, Проша, располагайтесь. Ступайте лучше в пресвитерскую, там удобней будет.
Услышав голос отца, я зашел на кухню. Пронька покосился на меня, скривив рот. Я показал ему кулак.
Мам, а чо Пашка кулак показывает? — заныл он.
А ты не смотри на него, — фыркнула Ага.
А он все равно показывает!
Ага вытолкнула Проньку и захлопнула дверь.
Я взял из шкафа кружку, налил молока и, отрезав ломоть хлеба, сел есть.'
Стало быть, опять, брат Евмен, господа прославлять в Сибирь приехал?
Христос сказал, где б вы ни были, я всюду с вами. Что поделаешь, брат Никифор! Привык я к вам, а на чужой стороне скучно, одиноко.
Ты создал там общину? Привел ли к богу хоть одну блудную овцу?
А как же, брат Никифор. Двенадцать душ привел к господу.
Похвально, брат, похвально. Господь зачтет тебе это. Отец мой по старости сложил с себя обязанности пресвитера. Община назначила меня на его место. А ты теперь вместо меня становись.
Согласен, брат, коль богу так угодно. За меня–то кто теперь?
Ивановна.
Евмен недовольно хмыкнул.
Ты поживи пока у меня, а домик купишь — переедешь. Я отлучусь на месяц, так ты собрания и проводи. Мало пожертвований, мало… Особливо за Пар–феном и Анютой присматривай. Молоды они, как бы не свихнулись…
Через неделю отец собрался в Москву по каким–то своим делам. Провожать его пришла Ивановна.
В кухне они о чем–то долго спорили, а я пробрался в отцов кабинет за «Детством» Горького. Книжку нужно было сдавать в библиотеку. Я осмотрел полки, забитые церковными книгами и журналами, но «Детства» там не оказалось. Я встал на стул и начал перебирать большую стопу книг на самой верхней полке, но тут услышал голоса и в испуге спрятался за кресло в углу.
В кабинет вошли.
Общину поручаю тебе, брат Евмен, — буркнул отец.
Пусть будет так, — сквозь зубы процедила Ивановна.
Побеседуйте пока, а я насчет автобуса узнаю. Дорогу–то перемело.
Отец ушел.
А кассу он кому поручил? — спросила Ивановна.
Кассу контролировать буду я, — заявил Евмен.
Почему же, брат, ты?
А ты чего так ухватилась за нее? Или…
О, господи, что он говорит? Не тебе говорить» брат Евмен! Ох, не тебе! — скорбно воскликнула Ивановна.
Вернулся отец, и брат с сестрой во Христе сели за стол как ни в чем не бывало.
Вот деньги, — сказал отец и бросил на свой стол кошелек. — Еду завтра в семь. Ответственным за кассу назначаю тебя, брат Евмен.
Вы побеседуйте, братья, а я пойду, что–то нездоровится, знобит… — холодно сказала Ивановна и с тяжелым вздохом ушла…
Когда я пришел из школы, в нашем доме шло моление. Я хотел было шмыгнуть в свою комнату, но мать перехватила меня, прогнала в зал.
Совсем уж отшатнулся от Христа, басурман, — варугалась она. — Помолиться лень!
Мест в душном зале всем не хватило, и некоторые братья стояли вдоль стены. Встал и я с ними. Окна были занавешены желтым бархатом. На нем сверкали пришитые звездочки. Некоторые молились, стоя на коленях. Они, должно быть, каялись в грехах, мучились
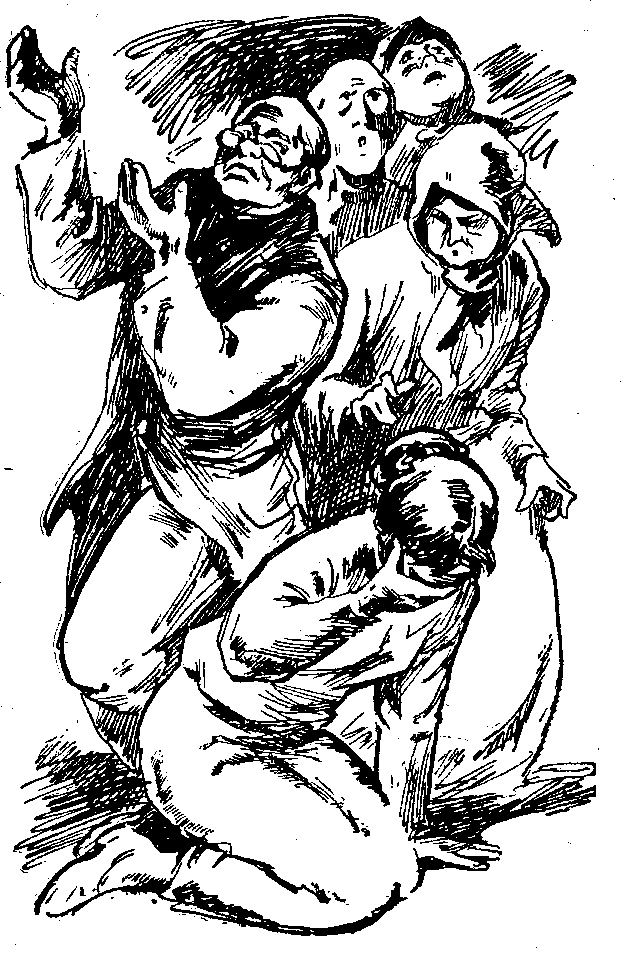 |
Мне было жаль их. В такую минуту делай с ними что угодно, хоть убей, им все равно. Они плакали искренно и молили бога о прощении тоже искренно. Они страшились кары. А Евмен и отец умели запугивать.
Я увидел тетю Аню. Она сидела рядом с Парфеном. После смерти своей матери она похудела, под глазами появилась синева. Она сидела какая–то отрешенная от всего, будто одеревеневшая. «Неужели и она будет баптисткой? — подумал я. — Неужели им удастся «обратить ее к богу»? Как только плохо человеку — они тут как тут!»
Впереди, у зеленого стола, запел хор. Пели, покачиваясь в такт музыке, так качаются легкие былинки, тронутые ветерком. Все певицы в белых платьях, и лишь в центре перед ними резко выделялся черным костюмом регент. Хор пел в сопровождении фисгармонии:
Так отдай всю жизнь Христу,
Милый друг, теперь,
Счастье, радость, полноту
Даст тебе, поверь.
Под звуки пения Ивановна обходила всех с широкой медной чашей, и в нее сыпались серебро и бумажные деньги, они звенели и шуршали.
Не скупитесь, братья и сестры, — взывала Ивановна. — Это на благо нашей общины.
Когда чаша наполнилась доверху, хор закончил петь.
Чашу Ивановна отнесла в пресвитерскую и тут же вернулась обратно.
Теперь, братья и сестры, послушайте приветы от приезжих, — произнесла она.
Из толпы послышался голос приезжего старика:
Братья и сестры, барнаульская община передает вам сердечный привет!
Мы также передаем вам сердечный привет, — ответила Ивановна.
Приветов было немало. Их привезли братья и сестры из ближних сел, со станций, из города.
Разрешите от всей нашей общины передать привет, — обратилась к верующим Ивановна.
Передаем, сестра, — хором ответила община.
Собрание кончилось поздно. Я чуть не валился с
ног. Мне хотелось и есть и спать. «Ни за что больше не пойду на эти моления, — решил я. — Пусть хоть убивают— не пойду. Из–за них я уроки не сделал».
Прежде чем накормить, мать подтащила меня к печке.
Вот видишь, видишь, какой огонь лютый, а у бога в тысячу раз сильнее, — шипела она мне в лицо. — Смотри да бойся. Согрешишь, гореть тебе в таком огне.
И я смотрел на огонь и не мог вырваться из ее сильных рук. Рубаха моя нагрелась и жгла тело. Но я не испугался огня. Я мучился потому, что меня заставляли молиться насильно. И все–таки вбитый в мою душу страх перед богом жил во мне. Я не верил уже в бога, а сказать об этом боялся. Просто не поворачивался язык сказать: бога нет. Бога не было, а страх перед ним был…
НОВЫЙ ГОД
Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет, — раздался знакомый голос. Я вскочил из–за стола — на пороге кухни стоял дед, обвешанный зайцами. Я закричал, радостно бросился к нему.
Я соскучился по тебе, деда!
Верю, верю! И я по тебе скучал… Помоги мне разгрузиться. А завтра я снова пойду.
Я помог деду отвязать с пояса зайцев. Они были стылые и стучали как деревянные, когда я бросал их на стол. И уши их, прижатые и торчащие, были твердыми, а белая шубка мягкая да ласковая. Так и хотелось все время гладить их.
А ты зачем опять уходишь?
Петли еще не все проверил.
Так будет же Новый год.
А чего он мне, Новый год! Это для меня не праздник. Вот пасха, когда все живое начинает пробуждаться, — это праздник. — Дед попил чаю, проверил свою мастерскую, положил в мешок съестное и снова залез в полушубок, нахлобучил большущую волчью шапку.
Скоро вернусь.
Одевшись в истрепанную шубейку, я проводил его на улицу. Высокий, широченный, он долго маячил на белой дороге, бежавшей к опушке бурой тайги. А я все смотрел ему вслед. Мороз, как злая гусыня, щипал меня за ухо.
«Что деду надо в дремучей тайге? — подумал я. — Зачем ему еще зайцы? Их в кладовке целая гора. Наверное, все о тете Фене тоскует. А на мать с отцом ему противно смотреть. Боится, наверное, поубивать их…»
Наступил солнцеворот, а деда все не было. Сильные морозы сменялись буйными метелями. После них все миром ходили ставить вешки от поселка до поселка, чтобы путники не сбивались с дороги. Гудели колодцы внутри, предсказывали вьюгу.
Как–то звездной, люто–студеной ночью нагрянули в поселок волки. Терзающий голод выгнал их из тайги.
Испуганно ржал в конюшне Пеган, мычала Зорька и блеяли овцы в хлеву. Далеко где–то гавкали собаки.
А наутро мы увидели во дворе волчьи следы. Особенно много их было у хлева.
В этот морозный день, рядом с солнцем появились огненные столбы. А на одной из наших елей, в гнезде, вывелись у клестов птенцы. И мороз им нипочем!.. Наконец, вот и Новый год — к весне поворот!
Паша, вставай! Чего лежишь–то?! Время девять, а ты потягиваешься! — проговорила мать, входя в мою комнату. — Другие парнишки в сельпо дрова пилить подрядились, а ты дрыхнешь. Иди. Зорьке сена дай, Пегану — овса, курам — зерно. А потом елку будем украшать.
Так начались для меня новогодние каникулы.
В кухне Евмен и Ага пили чай с пирожками. От горячих пирожков такой запах, что я поторопился на улицу — слюнки потекли.
Полдня я носился по двору то с ушатом, то с охапками сена. Помогал матери натирать хвощом полы и скоблить стол, выхлопывал половики, бегал в лавку за мылом, солью, дешевыми конфетами, которые привезли к празднику. Мальчики носились по улице, барахтались в сугробах, катались на лыжах, на коньках. Я с завистью посматривал на них…
Отец запряг Пегана в розвальни, поставил на них две бочки, и мы поехали за музгой на крахмальный завод. Выехав на маленькую сельскую площадь, увидели у поссовета елку. Ее украшали самодельные игрушки из дерева, из картона, из цветной бумаги. Их делали школьники. Вокруг елки снеговые звери: слон, заяц, медведь. Их ловко вылепил и облил водой учитель истории. Так же он соорудил и большую голову великана. Внутри головы оказалась ледяная горка. Ребята с криком бросались в дыру на затылке и с хохотом вылетали из открытого рта великана.
Отец остановил Пегана, видно, тоже захотелось взглянуть.
Такой богатой елки никогда в поселке не было.
Ишь, чего натворили, — недовольно проговорил отец.
Возле мостков с катушками стояли сказочные терема–домики. Из труб поднимался дым. Возле каждого разукрашенного домика торговали сладостями, толпились люди.
Пап, я прокачусь хоть разок? — умоляюще закричал я.
Некогда, — буркнул отец. — Не наша это елка. Ты будешь веселиться на нашей, божьей елке.И он стеганул Пегана. Я потихоньку заплакал, уж очень мне хотелось поноситься с ребятами…
В углу молельного зала отец укрепил на крестовине не очень большую, но пышную елку. И сразу хорошо запахло свежестью зимней тайги. Я повеселел. В зале скоро собрались ребятишки из семей верующих. Нас усадили за стол, дали нам ножницы, красную, желтую, синюю, серебряную бумагу, клейстер, сваренный из муки. Под наблюдением матери и Ивановны мы принялись клеить весело–пестрые цепи, мастерить сказочные домики и теремки, вырезать снежинки и разных зверушек. Ивановна и мать были непривычно приветливые, ласковые. Пришел регент, тоже добрый, праздничный, и стал разучивать с нами всякие религиозные песенки — круглый, краснощекий, пучеглазый, он восклицал:
Дети, дети! Пойте все это светло, благолепно. Вот так пойте! — и он, зажмурившись, сладким и мя–гоньким тенорком пел:
Иисус в венце терновом
За тебя страдал,
Чтоб тебе в пути суровом
Вечный свет сиял.
Нам, ребятишкам, все это нравилось. Не думали мы ни о каком боге, а просто веселились, как все дети.
Только теперь, когда я пишу эти воспоминания, я узнал, что каждый член общины обязан заниматься детьми. Даже стих на этот счет у них сложен:
Детское сердце — нива безбрежная,
Сеять там нужно ранней весной.
И они в этот день старались вовсю, «засевали» наши души. А нам интересно и весело было украшать елку, петь, бегать по залу…
Вечером шло моление, посвященное дню Нового года. И мы пели высокими звонкими голосами разученные песенки, умиленные старухи всхлипывали в платки, шептали: «Господи! Не оставь детей наших, просвети их. Без них захиреет община наша».
Праздник дня Нового года закончился для нас, мальчишек и девчонок, подарками, молитвами и угощением…
Ложась спать, я вспомнил елку у поссовета, мысленно увидел кубарем катящихся ребятишек. Они с хохотом и криками вылетали из разинутого рта большущей ледяной головы…
Нет, все–таки там было веселее. Там была воля, буйная радость, густой снегопад, свежесть площади… И — никаких молитв…
В нашем доме все уже спали, стояла могильная тишина. А я вдруг почувствовал себя таким одиноким, что у меня пропал сон. И тут я услышал негромкий стук в ставень. Неужели Ванюшка приехал?! Я выскочил в сени.
Кто?
Еще не дрыхнешь?
Я распахнул дверь, схватил брата за плечи, осыпанные снегом, и чуть не заорал от радости.
Мы шмыгнули в мою комнату, закрылись на крючок и зажгли лампу.
Ванюшка привез с собой какой–то мешочек. Раздевшись, он стал доставать из него гостинцы. Тут были и лимонад, и пряники, и бутерброды.
Это я в буфете раздобыл. Утром у нас в школе была елка, — объяснил Ванюшка.
Мы сели с ним за стол и начали пировать. Я никогда не ел колбасы, и меня восхитил ее вкус: чесноком припахивала, дымом! А лимонад чего стоил. Век бы его пил!
Давай, наворачивай! — смеялся Ванюшка. — Отгадай, что я тебе еще привез?
Книги! — восторженно прошептал я.
Ванюшка вытащил из мешка «Робинзона Крузо»
и «Остров сокровищ».
Все, что удалось достать в магазине. Только ты их спрячь, а то отец спалит чего доброго.
Вот это здорово, — все шептал я, листая книги. Как я любил в эти минуты Ванюшку!
Я рассказал брату о своей скучной жизни, о том, что случилось с тетей Феней, и о том, как дед бил отца и мать.
Запугать Феню они вполне могли, — твердо заявил Ванюшка. — Из–за денег. У деда припрятано деньжонок дай бог. Он же двадцать лет обирает верующих. Да не только наших, но и по другим селам ездит. Только ты молчи. Понял? А то они изведут тебя. Ты знай свое дело — учись, а потом навостришь лыжи в город. И крест поставишь на этом чертовом доме… Ну, я лягу, устал, а ты почитай «Робинзона».
Я бережно, с наслаждением раскрыл толстую книгу, на обложке которой был нарисован корабль с надутыми парусами…
Проснулся я позднее обыкновенного. Ванюшки уже не было, наверное, удрал к Сашке Тарасову. Ему хорошо, у него друг есть, а вот у меня… Не дружат со мной пацаны, один я. И потом — нелюдимый я какой–то. Наверное, из–за того, что боюсь насмешек…
Сотри пыль в кабинете отца, — приказала мать.
Едва я вошел в кабинет с сырой тряпкой, как появились приехавший отец и Евмен. Увидев, что я протираю подоконник, отец ничего не сказал мне. И я тоже промолчал, не поздоровался, будто мы с ним виделись уже сегодня. Какой–то сердитый и хмурый заявился он из Москвы.
Отец сел за стол, Евмен опустился в кресло.
Ладно, продолжим наш разговор. Сколько без меня пожертвований собрал? — спросил отец.
Пустая касса, брат Никифор. Пустая, — Евмен тяжело вздохнул. — Собранное едва на зарплату нам хватит, да разве еще по мелочам кое–чего для дома можно купить, вот и все.
Сторожа я увольняю. Зачем он? Я сам сторож— в доме живу. Только напрасная трата денег. Сестру Ивановну сегодня тоже рассчитаю. Пусть в лесхозе живицу собирает.
Это же наша лучшая проповедница, брат! — удивился Евмен.
Вот и пусть бескорыстно слово божье в народ несет, — отец положил в конверт пять сторублевок и что–то написал на нем. — Я без нее справлюсь. — Отец порылся в каких–то бумажках–квитанциях, пощелкал костяшками счетов, что–то записал. — А тебя я перевожу на полставки.
Но ведь моя единица положена в общине? — возмутился Евмен
А если мне платить тебе нечем? Не буду же я тебе из своего кармана выкладывать? Кстати, как у тебя с домом–то? Не подыскал еще?
Да на хороший — денег нет, а плохой — к чему он?
У брата Евмена денег нет? — усмехнулся отец в бороду. — Сам видишь — тесно у меня. — Отец положил несколько сторублевок в другой пакет и тоже подписал его. — На, отдашь сестре–И на этом кончились ее дела!
Да как же я объясню ей все? — раздраженно спросил Евмен.
А так и объяснишь, вы ведь с ней душа в душу, — отец встал из–за стола. — Давай, брат, за дело берись. Павел, выходи, я кабинет запру.
Через несколько дней Евмен купил маленький домишко и переехал в него. Я обрадовался, уж очень противной была мне вся эта семейка.
ПАРФЕН
Пришел ич тайги дед. Был он молчаливым и спокойным, должно быть, все в его душе перегорело. Придя, он и не взглянул на отца с матерью, точно их и не было в доме. Чужим он стал, замкнутым и даже мне не улыбнулся…
Как–то пошел я в лесхоз. День был студеный. «На морозе и старик вприпрыжку бежит», — вспомнил я поговорку деда.
В лесхозе Парфен учился водить автомобиль. ЗИС ехал рывками, громко стрелял. Дядя Савелий догнал грузовик и вскочил на крыло.
Остановись!
Парфен заглушил мотор, вылез из кабины.
Я же тебе велел заменить фильтр. Почему не заменил? — выговаривал ему дядя Савелий. — Почему у тебя такое позднее зажигание, а? Ты будь внимательней. И чтоб «Справочник шофера» знал у меня назубок… Иди–ка помоги Маркелу котлы почистить.
Дядя Савелий открыл кран радиатора и выпустил воду. Увидев меня, он весело крикнул:
А! Это ты, друг! Ну, здравствуй. Беги в кочегарку — погрейся.
Я побежал вслед за Парфеном.
В кочегарке Маркел мыл руки и лицо.
Э, да у нас гость, — улыбнулся он мне.
Давай я помогу тебе котел чистить, — предложил я.
Да я уже вычистил. Ну как, Парфен, овладел шоферскими премудростями?
Плохо слушается меня машина, — сокрушенно вздохнул Парфен.
Ну, чего ты хочешь! Москва не сразу строилась.
В дверь просунулась голова Евмена в вытертой каракулевой шапке и скрылась.
За тебя беспокоится, — усмехнулся Маркел. — Не любит, когда ты с нами разговариваешь.
Эти слова услыхал вошедший дядя Савелий.
Отстранился бы ты от этого молельного дома, — сказал он, садясь на замасленную лавку. — Ведь в армию тебя призывают. Как же ты будешь служить?
Как все, — буркнул Парфен. — Наша вера говорит: «Выполняй все, что возлагает на тебя правительство. Нужно служить в армии — служи, нужно строить — строй. Это не мешает в то же время служить и Христу. Ты от мира не отгораживайся. Но душой ты у Христа».
Ну, что ты будешь делать! — раздосадованно воскликнул Маркел. — Выходит, ты сейчас со мной и в то же время не со мной? А где–то на небе, что ли? Не пойму я вас никак! Христос вас учит: «Не убий! А если ты взял ружье и если начнется война, ведь придется тебе убивать.
Вот мы и говорим: «Уверуйте в Христа все, и не будет тогда врагов, не будет войны, все мы станем братьями и сестрами!» Мы на любви держимся. Бог есть любовь.
Да как же, Парфен! А вот если фашисты…
^— Подожди, Маркел, — остановил его дядя Савелий, — тут у них все не просто, и нужно кое–чего знать, чтоб разобраться… Вот ты, Парфен, сказал о любви. Ты верно сказал. Но какая у вас любовь? Вот в чем вопрос.
Тут и я насторожился и стал слушать с интересом. Отец как–то сказал о дяде Савелии: «С ним ухо держи востро! Он хоть и нечестивец, а взгляд у него зоркий и ум греховно–гибкий».
Тогда, по малолетству, я, конечно, не мог понять до конца рассуждения дяди Савелия, но теперь, вспоминая отдельные фразы, отрывки разговоров и уже зная суть учения баптистов, я попытаюсь восстановить тот далекий спор.
Мы, советские люди, считаем высшим в природе — человека, — серьезно заговорил дядя Савелий. — Для нас он всему голова. Что мы хотим?. Мы хотим, чтобы все жили в любви, в дружбе. А что это значит? — Это значит, что мы добиваемся справедливой жизни, чтобы человеку на земле было хорошо, тепло, сытно; чтобы не было богатеев и бедняков, господ и рабов; чтобы человек мог своим умом и своими руками действовать в полную силу, и не для себя, а для всех; чтобы каждый развернулся во всей красоте. Вы унижаете человека, а мы возвышаем его.
Это все — гордыня! — торопливо заговорил Парфен. Видно было, что он повторяет чужие слова и что сам–то не очень разбирается в них.
Человек — пустое место, он в грехах кипит, а сам кичится, я то–то и то–то могу, — продолжал Парфен. — А сам ничего не может. Вот как только он разлюбит себя, познает свою пустоту, так бог и изберет его. Изберет и войдет в его душу и наполнит ее любовью к богу, к себе, значит, а потом уже и к другим людям… Все это… Как это все происходит, нам неведомо… А это самое… Богу только ведомо, почему он избирает этого, а не того… А нам молиться надо. Мы сами по себе ничего не можем, даже любить не можем. Все нам бог дает. Это… Эх! Да не понять вам!
Тут Парфен совсем запутался, побагровел, замолчал.
Я ваш журнал «Братский вестник» читывал. И кое–чего уяснил, — мягко, спокойно и даже как–то дружески–улыбчиво заговорил дядя Савелий. — Вот есть у вас слова «избранный», «духовное возрождение»… Так что же это все значит? Я так это понял: охватывает человека отчаяние, страх перед вечной погибелью. Вот он и припадет к Христу… Ты, Парфен, не обижайся, но тут у вас с богом как бы торг происходит. «Спаси меня, боже, от погибели», — просишь ты. И бог как бы отворяет твою душу, делает тебя «избранным» и наполняет тебя любовью к себе. «Вот ты возлюбил меня, и теперь ты за это спасен», — как бы отвечает бог. Тут и начинается твое «духовное возрождение». Ты полон ликования — спасся. А тут бог поворачивает тебя к ближним и внушает тебе любовь к ним. Человек же сам не способен к любви. Ты это сам говорил. Ему ее внушают свыше. И получается у вас любовь «высшая» — к богу и «низшая» — к людям. Без «высшей» невозможна «низшая». Для тебя любовь к людям не твое, собственное, чувство, а божий дар. Ты — безликий в этом чувстве, и тебе все равно что за человек, которого ты любишь.
Как это так? — удивился Парфен.
Да ведь «низшая» любовь всего лишь отблеск «высшей». Выходит, что у вас любовь — оболочка, под которой скрывается ликование спасенного. Каждый из вас о себе только радуется, за свое спасение бога любит, а ближнего любит не сам по себе, а по божьему внушению… Не–ет, брат, это корыстная любовь. И бесполезная. Ну, что она дает для нашей жизни?
Неверующему — ничего, а верующему — все.
Парфен, ни на кого не глядя, поднялся с лавки и
поспешно вышел.
Дядя Савелий жалеючи посмотрел ему вслед. А потом потрепал меня по голове и сказал:
Так что, друг ситцевый, и ты подумай обо всем. Слушай все — да и мотай на ус. У тебя вся жизнь впереди.
А я думал свое. «Вот бы меня взяли в армию! — думал я, — Избавился бы я от этого молельного дома, на летчика бы выучился. А еще бы лучше моряком стать. Плавать по всем океанам. В разных бы странах побывать. Простофиля этот Парфен. Нашел кого слушать — Евмена да моего отца! Дядя Савелий — вот это человек! С ним хорошо, интересно»…
ДЕРЕВЯННЫЕ УЗОРЫ
Лютый январь сменился февралем–бокогреем. Крепка еще власть зимы, но февраль все же сшиб ей рог. Сначала робко появились под карнизом малютки–сосульки. Кое–где на крыше теплый луч прижег снег. Суметы оделись ослепительной ледяной пленкой. В теневых местах она отливала яркой голубизной. Поутру внатруску ложился иногда колючий снежок, перегоняемый несильным ветром, который в дружбе с весной. Насорит зима–лиходейка снегу, а ветерок чисто, как березовым веником, подметает его, и вновь суметы сияют серебром.
Воробьи в эту пору заватажились, громко чирикали, облепив наличники с солнечной стороны.
Ночами ветер ведьмачил, белой метлой мел дороги. В такие вьюжные ночи отец с дедом начали что–то мастерить. Они вроде бы помирились, были молчаливы и смирны.
Дед натопил, как следует, в своем полуподвале, принес туда две семилинейные лампы, запалил их и, положив на стол лист белой бумаги, что–то начал рисовать на нем.
Вскоре пришел отец. Оба, сидя за столом с карандашами, крепко думали. Наконец я догадался, что дед с отцом выдумывают всякие рисунки для украшения карнизов, ставней и ворот нашего дома. Так они рисовали несколько вечеров.
После этого дед с отцом закатили на козлы толстый березовый сутунок и продольной пилой распустили его на тонкие тесины. Целую неделю сохли они в подвале. Потом отец прошелся рубанком по этим доскам…
Дед принес в мастерскую небольшой сундучок и начал осторожно выкладывать на стол какие–то круглые, треугольные, полукруглые и квадратные резаки. Это были инструменты для работы по дереву. Среди них находились топоры, мелкие ножовки и рубанки, которые дед называл сливчиками. Сливчик был острее бритвы. После, заточки дед выдергивал из бороды несколько волосинок, клал их на жало и тихонько дул. Волосы резались пополам. Дед одобрительно крякал и начинал расхваливать немецких мастеров, изготовивших такой чудесный инструмент. Немецкие фирмы «Лев на стреле» и «Лебедь на стреле» издавна славились плотницким и столярным инструментом. Мастера Шауфлеры известны были в старой России. За их инструмент платили большие деньги. За железку для фуганка или рубанка могли прибить человека. Сколько денег выспорил дед этими железками! Вставит ев в старый рубанок, набьет в доску гвоздей и айда сбивать шляпки. Они отлетали, как срезанные бритвой, и, к удивлению спорщика, на жале не оказывалось даже самой малой зазубринки. Секрет железок заключался в стальном лобке. Спереди железка была стальная, а сзади железная. На каждом инструменте был выдавлен лев или лебедь, стоящие на стреле…
Наконец дед с отцом приступили к вырезке узоров. У деда и отца они разные. У деда по низу доски шли с такими тоненькими лепестками, что, казалось, дунь на них, и они отлетят. В середине тянулся другой узор, похожий на звездочки с колосьями ржи. В верхней части доски дед сплетал что–то похожее на сказочный лес. Все это так сочеталось и дополняло друг друга, что трудно было оторвать взгляд.
У отца все выглядело по–иному.
По низу 'Он пустил лошадей с пахарями и плугами, в середине рассыпал сжатые снопы, а вверху набросал такие гирлянды узоров, что не сразу–то можно было их понять.
Я не узнавал отца и деда. Куда делись баптисты, проповедники? Передо мною увлеченно резали дерево два добрых бородатых волшебника; такими же они были однажды на сенокосе.
Дед разрешил мне взять немецкую ножовку, которой очень дорожил. Я пилил чурбачок и вдруг как–то неуклюже дернул рукой; хрустнула ножовка–змейка, отломился ее кончик. Я так и обмер, ожидая ругани и тумаков.
Дед взял ножовку, покачал головой и неожиданно стал утешать меня: Ничего, на крупный рисунок еще годится. У меня вторая такая же ножовка есть.
Я был благодарен деду и готов был броситься ему на шею…
Ранней весной дед с отцом закончили резать узоры.
Ну, давай, Никишка, прикинем — что куда.
А что прикидывать? — возразил отец. — У меня рисунок понятнее твоего, стало быть, мой на фасад, а твой на тыльную сторону.
Это как же так на тыльную? Выходит, на твою работу будут смотреть все, а на мою только те, которые идут из нужника?
Почему так? Совсем не так. С соседней улицы твой узор просматриваться будет, — успокаивал отец.
Там же лес, чего болтаешь? Давай–ка лучше жребий кинем, — заволновался дед.
Отец согласился.
Дед вытащил из старой коробки тяжелый царский пятак.
Орел кверху — узор на улицу, решка кверху — узор со двора. Кидаем только раз, — дед подкинул пятак, тот закувыркался в воздухе и звякнул возле моих ног орлом кверху.
Дедин на улицу! Дедин на у–лицу! — закричал я. Дедовы карнизы и ставни мне больше нравились.
Ты неправильно кидал! — заявил отец.
Как это неправильно?
А вот так! Хитришь все. Дай–ка я подкину!
Уговор был раз кидать! — заорал дед.
Отец яростно засопел, прошелся из угла в угол и вдруг уставился на дедов узор и ехидно засмеялся.
Твой орнамент вообще нельзя показывать, — торжествующе заявил он.
Ты чего это? Белены объелся? — изумился дед, вытаращив глаза на отца.
Что ты изобразил? Ведь звезда получилась. Грех это. Накажет тебя господь…
Так, так… — дед побагровел и вонзил глаза в отцовский узор. — А у тебя, Никишка, вверху как бы талия женская вычерчивается. Это уже прелюбодеяние. Тобой во время работы дьявол руководил.
А тобой — сатана! Ишь ты, рассыпал звезды! — отец ткнул пальцем в узор и случайно обломил ромашку.
Эх и взъярился дед! Он схватил одну отцову доску,, да как треснул ее об верстак — она и разлетелась на половинки. Отец взвыл. Я и оглянуться не успел, как они схватили друг друга за грудки и повалились на кучу стружек и опилок. Я испугался и выбежал из мастерской…
ПОЛОВОДЬЕ
Зима еще злилась. Были морозы по утрам.
Я принес в класс стеклянную банку, налил воды и опустил в нее березовые веточки. Скоро они выпустили ребристые, липучие, душистые листочки. Зелень радовала душу.
Снег затвердел, покрылся блестящей коркой.
Ишь, весна–то покрывало выбросила! Стало быть, тепло идет, — говорили бабы.
И оно пришло. Зазвенели ручьи. Проснулся мой любимый родник. Я пришел с ним повидаться. В саду проталины курились легким паром. Под каждым деревом образовались ямки, а в них торчали кустики брусники. С елей падали сосульки и, рассыпая искры, вонзались в снег.
На завалинки, на бревна у калиток выбирались из домишек старики и старухи. В огороды скот выпускали. Мать тоже вывела в огород Зорьку. Бросила ей охапку сена, а она не ест, на солнце смотрит и мигает огромными глазищами. Соскучилась. Шерсть на Зорьке черная, блестящая. На лбу, поперек — белая полоска. Потому и назвали ее Зорькой. Я подошел к ней, погладил ее лоб. Шерсть от солнца нагрелась, пахла хлевом. Едва я отошел от Зорьки, как на ее широкую спину сели скворцы и ну перышки чистить, а Зорька стоит и не шелохнется. Почистили скворцы перышки, легли, клювы под крылышки спрятали — задремали. Тепло им, хорошо, да и хитрая кошка не подберется, — не пустит ее Зорька.
На прошлогодних огуречных грядах рылись куры.
Я пошел в лес за медунками. Они росли на буграх и солнечных полянах. Нарвал их целый пучок, очистил, съел. Вкусом они напоминали зеленую дыню. Увидел я барсучиху с детенышами. Вышли на промысел из норы, нюхали, царапали коготками землю, стряхивали с сухих былинок всяких жучков да букашек. Перед тем, как идти домой, я собрал букет подснежников. Они бывают разные. На солнцепеке — белые, а в тени — синие. Походил немного, и к моему букету прибавился желтый гусиный лук, сиреневые хохлатки и трехцветные фиалки–виолы. Вернулся домой, отдал матери цветы и вышел во двор. К обеду стало теплее, земля пуще размякла, но теневые стороны дома еще были влажны и кое–где белы от инея. Дед выкидывал из конюшни навоз. Прилетела стая воробьев, села на кучу и дружно закопошилась в ней, подняв крик. Летали первые весенние красные бабочки. Из щелей забора выползали божьи коровки. Высоко в небе пролетели гуси. Где–то на голых деревьях подняли шум грачи. Пахло дымком, дегтем от телеги,смолой от ворот, молоком и сырой землей.
В одну из темных ночей вдруг раздался треск, звон, шум — начался ледоход на Оби.
Едва рассвело, а люди уже высыпали на берег.
Силища–то какая! — воскликнул Маркел. — Вот и ожила Обь–матушка! Гляди–ка чо, корыто плывет!
Я подошел к Маркелу:
Где ты видишь корыто, дядя Маркел?
А! Кудрявцев внук! Ну, подойди ближе, покажу, — Маркел обнял меня и показал на розово–фиолетовый горизонт реки.
Экой лодырь, не мог добра вовремя прибрать! — осуждали мужики беззаботного хозяина. Они курили, опускали уши у шапок, спасаясь от сырого холодного ветра.
Гляди, волк плывет! — закричал Филька.
Я всмотрелся и на самом деле заметил волка.
Что? Попался, шкурник! — Маркел захохотал.
Волк прыгал с льдины на льдину, пытаясь добраться до берега.
И волку неохота умирать! — сказала Фрося.
А кому охота? — откликнулся Филька.
Эх, чичас бы его из берданки! — проговорил 'Маркел.
А вон ружье–то! — показал я на идущего к нам дядю Савелия.
Маркел оглянулся:
Батюшки! Савушка, родимый, быстрей сюды!
Быстрей, быстрей! — закричали мужики.
Дядя Савелий, смешно перебирая ногами, обутыми в чесанки с калошами, побежал.
Что случилось? — спросил он.
Ружье! Ружье давай! — заторопился Маркел и сдернул с его плеча берданку.
Ружье ахнуло, волк подпрыгнул и шлепнулся на льдину.
Готов! — закричали мужики.
Беги за ним, Маркел, за шкуру три сотни получишь!
Выпили бы за твой счет.
Да водки–то в магазине нет.
Есть. Для сплавщиков целую машину привезли» Аврал будет.
Это какой аврал?
Субботник, понял? — объяснил дядя Савелий. —
Для ГЭС фундамент закладывать начнем.
Так, значит, лектро в каждой избе засветится? — спросил Маркел.
В каждой, а кто на закладку придет да поработает как следует, тому электричество в первую очередь.
Ура! Братцы! Свет будет! Свет! — закричали мужики.
Белые льдины с зелено–голубыми краями шли тихо и величаво, неся на своих спинах остатки давно по- lt; тухших костров, вмерзшую лодку, обрывки тропинок, обглоданный волками скелет коровы, темные глазки прорубей, избушку–времянку рыбнадзора. Задние льдины напирали на передние и вдруг с хрустом полезли на них.
Вода шипела, вздувалась гребнями белой пены, бурлила, клокотала.
Бабы! — закричала Дора, спускаясь к реке. — Говорят, помоешься талой водой, красивее будешь.
Мойся, мойся! Может, кто и полюбит! — крикнула Фрося.
А чо? Ермолавна ничо баба, — заступился Маркел.
Дора ухватилась рукой за цветущую вербу и стала умываться.
Гляди–ка чо, и в самом деле красивей стала, сказал Маркел, тоже опускаясь к реке. — Смотри, а то враз полюбишься мне, — Маркел хлопнул ее по спине. Все бы тебе заигрывать, старый черт, — разгибаясь сказала Дора.
Да как же не заигрывать, давно на тебя зуб точу, — Маркел обнял Дору за талию. Самогончику–то небось нагнала к пасхе? Пригласи пробу снять?
Отстань! Прилип, как смола, — Дора оттолкнула его.
Мужики и бабы, толпясь на берегу, пели песни, переговаривались, смотрели на ледоход.
А между тем на одном из перекатов льдины застряли, полезли друг на друга. Неожиданно возникла крепкая плотина. Вода быстро прибывала. Хотя поселок и стоял на высоком берегу, жители забеспокоились, с опаской поглядывая на затор.
Затопить может, зараза!
Не затопит, стороной пройдет!
Прогневили бога вином да плясками!
Я смотрел, как вода с грохотом ломает лед и разливается широким половодьем.
На горе зазвонил пожарный колокол: бим–бом, бим–бом!
Тревогу бьет! Слышите? — закричал Маркел.
Ты думаешь, почему звонит?
Не знаю.
К худому… Ишь как надрывается, — Маркел не успел договорить, как из–за леса вынырнул самолет.
Э, что я тебе говорил? Сейчас затор на реке бомбить начнет! Эй, люди, разбегайся! — завопил Маркел.
И все бросились подальше от берега.
Самолет сделал над деревней два круга, набрал высоту. Послышался свист, за ним долбануло так, что вздрогнула, загудела земля, задребезжали стекла.
Сбросив взрывчатку, самолет так же неожиданно исчез, как и появился. В образовавшуюся брешь хлынула вода. Все облегченно вздохнули.
К ночи начался дождь. Я забрался на свою лежанку и читал «Родную речь». По закрытым ставням стучали дождинки. В кухне мать месила сдобное тесто. Отец топором рубил в корыте мясо на пельмени и котлеты. В доме готовились к пасхе.
Завтра мать насыплет в большой чугун кожуру от лука, опустит туда яйца, и они станут коричневыми. Мать выложит их на большой поднос и будет давать каждому, кто в пасху войдет в наш дом.
Через два дня утром верующие начали собираться: в зале. То и дело слышались восклицания:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Когда все уселись за большой стол, отец, став во главе его, начал благоговейно и торжественно ломать на мелкие кусочки буханку белого хлеба. Это называлось «преломление хлеба». По кругу передавали большую стеклянную чашу с золотой каймой. Сосуд до самого верха был наполнен темно–красным вином, которое символизировало кровь Христа. Каждый член общины молитвенно отпивал из этой чаши глоток и не съедал, а вкушал кусочек хлеба, якобы частицу тела господнего.
Когда чаша и поднос опустели, их подали к столу и закрыли салфеткой с вышитой надписью «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нае от Любви Божией*.
Христос воскрес! — во все горло провозгласил отец.
Воистину воскрес! — ответили братья и сестры и начали целоваться друг с другом.
О, Иисус! Хвала тебе, что мы еще в силах прославлять имя твое святое! — начал отец проповедь. Семилинейка из–за духоты часто мигала, готовая потухнуть в любую минуту. Свет, проникавший с улицы, разрезал закрытые ставни на три полоски. Чувствуя, что меня мутит, я выскочил из зала, схватил шапку с шубейкой и — на двор.
Глаза мои резанул ослепительный свет, я жадно вдохнул свежий воздух, оделся и залез на крышу. Там я был в безопасности. С крыши я увидел много людей возле мельницы. Они копали фундамент для ГЭС. Сегодня был объявлен воскресник…
К нашему дому торопливо шли Парфен и тетя Аня. Аня все чаще приходила в молельный дом — ее, наверное, тронула та помощь, которую оказали верующие, когда у нее умерла мать.
А потом вот что случилось.
Тетя Аня и Парфен окончательно решили жить вместе, и вдруг община запретила Парфену жениться на неверующей. Парфен должен был или выйти из баптистской общины или обратить в свою веру тетю Аню. Таков был закон баптистов. И Парфен подчинился ему.
Пришлось подчиниться и тете Ане, она очень любила Ларфена. Теперь она бывала на каждом молитвенном собрании. Ей даже стали давать поручения. Она должна была посещать больных сестер и помогать им.
Ей сказали, что она проходит этап покаяния.
По шоссейке, усыпанной галькой, бежал грузовик. Неожиданно он свернул на нашу улицу. Что такое? В кузове я вижу Ванюшку с Сашкой! Вот здорово–то! Давно мы не виделись! Грузовик остановился, высадил их. Я скатился с крыши и — к ним.
Здорово! Здорово! — закричали они.
Вы чего это? Сбежали?
Мы только на один день! Завтра обратно смотаемся, — ответил Ванюшка. — Дома что — молятся?
Да еще целуются друг с другом!
Ванюшка даже сплюнул.
Ну их к черту! Пойдемте на озеро.
На озере Толька Пономарев на резиновой лодке плавал, хвастался. Его батя на ЗИСе работает, вот и смастерил ему лодку из камеры.
Озеро было не настоящее. Просто талая вода скопилась в лощине.
Бактисты! Бактисты! Христосик воскресик, сколько стишков сегодня спели? — заорал Толька.
Ну, погоди, конопатый черт! Мы тебя на берегу схватим! — пригрозил Ванюшка.
Ждите, я не дурак, к вам плыть! Исусики!
Ванюшка швырял в конопатого камнями.
И тут нам повезло. За кустами мы увидели челнок и Проньку с веслом. Он слышал, как Пономарь дразнил нас, и поэтому сразу же дал нам челнок для расправы с обидчиком.
Челнок быстро заскользил по воде. Он был неустойчивый, и я, боясь, что мы опрокинемся, опустился на корточки и вцепился в борта. Небо лежало в озере, и водоем казался бездонным. Взглянешь на воду — и дух захватывает, а голова кружится.
Толька заметил нас и стал удирать.
На абордаж его! —крикнул Ванюшка. — В плен не брать!
Толька греб изо всех сил, но лодка его продвигалась значительно тише, чем наша. Я представил, что наша лодка — пиратский бриг. Ванюшка — Бернарди–то — Одноглазый Дьявол. Сашка —кровожадный капитан Флинт, ну а я—атаман Грей, предводитель пиратов.
Впереди испанская каравелла, груженная слитками золота и рабынями. Команда приготовилась к бою.. Все с напряжением ждали громового залпа пушек с брига. Возле капитана каравеллы я представил кра–савицу–дочь. Она с мольбой протягивала руки к небу»
Я приказываю оставить дочь капитана в живых.. Флинт и Бернардито соглашаются со мной.
У тебя гвоздь есть? — спросил меня Ванюшка.
Я пошарил в карманах и нашел целых два гвоздя.
Теперь не удерешь, гад! — закричал Ванюшка.
Челнок проскочил мимо надувной лодки, и Ванюшка успел вонзить в нее гвоздь. Толька испуганно завопил, начал затыкать пальцем дырку, но это не помогло — воздух с шипеньем 4 и свистом выходил из надутой резины. Мы торжествующе хохотали, видя,, как лодка погружалась в озеро. Скоро Толька оказался в ледяной воде: он получил по заслугам.
БАПТИСТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Придя из школы, я увидел, как несколько братьев зачем–то перетаскивали из подвала все хозяйство деда в сарай. Потом они в кухонном полу сделали люк, поставили крышку на шарниры и прикрыли домотканым половиком. Мать с Ивановной что–то шили в кухне. В подвале стучали молотками и ширкали пилами. Я хотел посмотреть, но меня не пустили.
«Что они затевают?» — недоумевал я.
Наконец, я не выдержал и спросил деда, который нес топор и мясо:
Что это будет у нас?
Вечер любви с показательным выступлением верующих, — ответил он.
Я почесал в затылке, ничего не поняв из его слов.
На другой день к вечеру начали собираться верующие. Мать ходила веселая, в ярком, с большими цветами, платье. Никогда еще я не видел ее такой красивой. Обычно она была в черном платке и в уныло–сером платье. А сейчас прозрачный платок не скрывал ее пышной прически. Меня она даже не замечала, и я чувствовал ее чужой и нелюбимой.
В столовой началось чаепитие. Мать всегда угощала братьев и сестер тем, что никогда не давала нам. Но во время приема гостей нам разрешалось сидеть за столом и лакомиться тем, что было выставлено.
Пронька уже навертывал за обе щеки пирожки с рыбой. Он подмигнул мне, дескать, не зевай, пока братья да сестры все не съели.
На длинных столах дымились пельмени, тарелки с борщом, на блюдах лежали груды пирожков, пахло перцем, уксусом. Пронька с тупыми глазами, с замаслившимся лицом уже уплетал пирожки с повидлом. Не растерялся и я, отведав всего, что было на столе.
После моления Евмен торжественно обратился к общине:
Братья и сестры! Сейчас вы будете лицезреть картину вознесения Христа с горы Елеонской. Следуйте за мной, дорогие.
И все спустились за ним в дедов полуподвал. Там горела лампа. Когда все зашли и встали вдоль стен, ее потушили. И вдруг в темноте возник голубоватый, фосфорический свет. Я разглядел горку из камней. Вокруг нее сидели двенадцать учеников Христа, одетых в белые, слабо светящиеся одежды. Среди братьев и сестер прошел шепот восхищения и умиления, кто–то забормотал молитву. Дверь в полуподвал распахнулась, и в нее бесшумно вплыл сине–зеленый призрак Христа. Я смотрел на него, разинув рот от удивления. «Христос» проплыл, как мне показалось, по воздуху и опустился на груду камней.
Я возношусь на небо, чтобы потом прийти к вам и подвергнуть вас страшному суду, — заговорил он голосом матери. — Нечестивых я низвергну в ад, а праведникам дам вечное блаженство. Идите по всему миру и проповедуйте святое Евангелие. Кто уверует в меня — спасен будет, а кто не уверует — осужден будет.
Когда кончилась душеспасительная беседа с апостолами, «Христос» вдруг отделился от камней, повис в воздухе, слабо светясь во тьме, и медленно вознесся вверх, скрылся в прорубленном люке. Кругом слышались исступленные молитвы.
Все слышали, братья и сестры, что сказал Христос? — обратилась Ивановна к общине. — Близится пришествие Христа. Спешите войти в вечную жизнь, ибо пока есть время и место в Христовой книге жизни.
Перешли в молельный зал. Евмен строго распорядился :
А теперь, братья и сестры, соберем на пропитание проповеднику, странствующему по свету и сеющему добро и исцеляющему нечистых духом. У него нет своей кровли. Поможем ему.
Перед общиной поднялся старик с длинной седой бородой и поклонился всем поясным поклоном. По кругу пошла глубокая деревянная чашка, обитая коричневым плюшем. В нее посыпались серебро и медь.
Обряд пожертвования прошел, и вся община снова села есть. А мне стало здесь так невыносимо скучно, что я оделся и ушел.
КАНИКУЛЫ
Вот и настало желанное лето. Я окончил пятый класс. В поселке строили новую школу — семилетку. Мужики стучали топорами, обстругивали бревна, веревками втаскивали их на верх сруба. Другие распиливали бревна на доски. Мальчишки бегали по духовитым стружкам, по смолистым щепкам. Земля была засыпана опилками, кучами мха — им конопатили сруб…
Меня тянуло в лес, на озеро, к реке. Это дед научил меня любить природу. Мне казалось, что деда знали все птицы, населявшие наш сад. Сидит он, бывало, ранней весной на камне у родника, а по плечу его расхаживают синицы. Одна сидит на ладони и клюет семечки.
Клюй, клюй на здоровье, — бормочет дед. — Да помни меня. Вот умру, так ты прилетай на мою могилу. Думаешь, я не услышу тебя? Я все буду слышать и видеть. Только скучно мне будет малость, вот ты и прилетай почаще. Новости сказывать будешь…
Синица наклевалась досыта и вспорхнула. Глядь, а у деда на руке уже другая птаха. И как это у него получается? Это уже походило на какое–то волшебство. А летом даже стрекозы и бабочки садились ему на палец…
Любил я ходить в лес за грибами, за ягодами. Как–то с матерью пошли мы за земляникой.
Солнце едва поднялось над лесом. На разные лады
заливались таежные птахи. Белыми шапками цвела боярка.
Сорви–ка, Павлик, вон тот цветок, — попросила мать. Я сорвал. Она понюхала цветок и ласково проговорила :
Благодать!
Редко была мать такою. Я заметил, что стоило отцу или матери хоть на малое время отойти душой от молельного дома, как они совершенно менялись, становились добрее, проще, лучше. Я нарвал «кукушкиных слезок», «кошачьих лапок» и других цветов и принес их матери.
Спасибо, сынок, — проговорила она. — Никто еще не дарил мне цветов. — На глазах ее засверкали слезинки. Мне стало жаль ее. Мы сели на полянке, и мать сплела венок и надела его на свою голову, и вдруг стала мололсе и красивее. Я с удивлением разглядывал ее. Если бы она всегда была такой! Я ведь мог бы любить ее.
Мама, а почему ты всегда сердитая и неразговорчивая? — спросил я.
Да разве я такой была, сынок? Меня такой твой отец да дед сделали, — тяжело вздохнула она. — Живу, а самой божий свет не мил.
А почему дед с отцом иногда говорят тебе: «Помни, кем ты была».
Скажу я тебе. Только молчи об этом. Когда нас раскулачили, мне папаша с отцом твоим новые документы достали. Вот и не попала я в Нарым. А теперь я уж думаю, что лучше бы сослали. А то живу здесь, мучаюсь… Хочешь, я тебе про русалку расскажу? — внезапно предложила она.
Ага, расскажи!
Вот шла я как–то с поля. Давно это было. Я еще тогда в девушках ходила. Сплела себе венок из ромашек, надела на голову. А дорога домой шла мимо пруда. Около него росла ива, ветви свои ровно зеленые косы в воде полоскала. Под этой ивой стояла скамейка. Вечерами на ней парни с девушками сидели. Гляжу, на ней девушка, да чудная такая! Сидит и расчесывает гребнем свои белые волосы, а сама грустная. И, главное, совсем нагая. Думаю, что за диво, господи? Читала я в детстве сказки про русалок. Неужели, думаю, русалка? Увидела она меня да как заплачет. И я вместе с ней заплакала. Заговорила русалка: «Отдай мне венок». Ну, я и протянула его русалке. Она схватила, надела на свою голову да и говорит: «Это ведь ты мне свое счастье отдала!» — засмеялась да и бросилась в пруд.
Но ведь это неправда, мама! — возразил я.
Не знаю, сынок, не знаю. Может, она и поблаз–нилась мне. Но только тогда с головы моей исчез венок. Да и счастья вот до сих пор нет.
И я вспомнил, каким грубым был с матерью отец. Они жили — словно чужие люди…
На другой день проснулся я от каких–то криков, доносившихся с улицы. Выскочил я во двор, и вдруг дед, хохоча, вылил мне на голову ведро воды. Я заорал от неожиданности.
С днем Ивана–купала тебя! — пробасил дед.
Эй, люди! — вдруг закричал наш сосед. — Смотрите, что на небе творится!
Все остановились, смотрели, разинув рот. Над горизонтом висело солнце, а над ним стоял светлый длинный крест! Я испугался. Бабы вдруг завыли, закричали :
К беде это! Быть новой войне! К мору это!
А Евмен с Ивановной тут как тут.
Христос со страшным судом идет, — возопил Евмен.
Будет чудо! Будет чудо! Это знамение! — кликушествовала Ивановна.
Кайтесь в грехах, люди! — приказал отец, испуганно тараща глаза на пылающий крест.
Дед, захватив в кулак бороду, хитро смотрел на небо, и вдруг загремел его бас:
Братья и сестры! Быстрее обращайтесь к богу! На гору! Все не гору!
И баптисты, да и не только они, устремились за ним. Побежал и я.
Спешите, братья и сестры! Спешите!
Когда все взобрались на холм за поселком, он властно приказал своим братьям и сестрам:
Быстрее освобождайтесь от телесных пут, с ними вы сбросите грехи свои! Я освящу ваши одежды! — Дед первый сдернул с себя рубаху, обнажив могучую волосатую грудь. — Сестра Ивановна, спеши освятить–ся, быстрее освобождайся от одеяний тленных! Ты пастырь божий, на тебя вся община смотрит! — дед расстегнул ремень на брюках.
Несколько братьев и сестер, под прикрытием кустов, уже сбросили с себя верхние одежды и простирали руки к солнцу, к кресту. Я смотрел на это беснование с испугом. Ивановна, по пояс в кустах, задрала юбку, тащила ее через голову. Увидев это, дед ликующе загоготал и бросился вниз к поселку. Я вместе с ним. Я понял, что дед жестоко посмеялся над братьями и сестрами, заставив их нелепо оголяться. Он хохотал, этот шут–чудило.
А как же, дедушка, крест откуда взялся? — спросил я на бегу.
Да это простое преломление лучей в воздухе! — объяснил он мне.
…Так взбунтовался дед и окончательно порвал с общиной, все ее дела передав отцу.
Возись ты с ними сам, а я умываю руки, — заявил дед. — Не долго уже мне осталось жить. Вот научу внука резьбе по дереву, чтобы он мог заработать себе кусок хлеба, да и сведу все счеты с земным бытием.
Бес в тебя вселился, — обличал его отец. — Ты всю паству поразгонял! Ты над чувствами верующих надсмеялся!
А ты, ирод, над моей душой не измывался? — Дед сжал кулаки, двинулся на отца. — Ты Феню уже забыл?
Дед все лето занимался со мной, учил меня резьбе по дереву. Он радовался моим успехам, приговаривая:
Художник ты, художник! В меня ты удался. И это твой путь.
Вскоре после того, как над солнцем появился крест, приехал к нам лектор. Для нас, ребятишек, его выступление было интересно, как спектакль. Дело в том, что на наших глазах лектор творил всякие чудеса. На сцене, на длинном столе, крытом зеленой скатертью, лежали и стояли всякие колбы, пробирки, пузырьки с жидкостью, книги и даже икона. За столом появились учительница Александра Ефимовна и лысый, в очках, мужчина.
Первой заговорила учительница:
Вот недавно вы видели на небе загадочное явление: крест. Верующие утверждают, что это знамение Христа. Так ли это? Давайте разберемся во всех этих «чудесах». Каждый верующий ждет от бога чуда. А чудес не бывает. Вот и придумывают их попы да проповедники. Об этом вы сейчас и услышите.
Недавно, — начал лектор, — на небе вы, товарищи, видели крест над солнцем. О подобных явлениях люди знают уже давно. На небе появлялись ложные солнца, дуги, столбы, кресты. Это явление называется гало. В такие минуты солнце затягивается белой блестящей дымкой — тонкой пеленой высоких перистых облаков. Они состоят из мельчайших кристалликов льда. Эти кристаллики имеют форму шестигранных пластинок. Поднимаясь в потоках воздуха, ледяные кристаллики, как зеркало, отражают или, как призма, преломляют падающие на них солнечные лучи. Вот тогда мы и наблюдаем различные формы гало или, как говорят верующие, знамение.
Лектор много рассказывал о разных чудесах, и меня удивило, как они легко и просто объяснялись. Взяв вместо Библии учебник по арифметике, он обмакнул вату в какую–то жидкость — я забыл ее название потому, что еще не «проходил» в школе химию — и протер ею обложку, потом брызнул на нее другой жидкостью, и все в зале ахнули: на обложке выступило красное пятно.
Вот вам и выступила на Библии святая кровь! — сказал лектор. В зале раздался хохот и аплодисменты.
Много узнал я в этот день: и отчего бывает красный снег, и про огоньки на кладбище, и про «летучего голландца» узнал, и про миражи, и про гром, и про северное сияние, и почему плакала икона, и почему зажигались свечи сами… .
Я не скажу, что только этот вечер заставил меня задуматься о боге, о нашем молельном доме, не скажу, что почувствовал какое–то потрясение. Но этот вечер в клубе, школьные уроки, фильмы, книги и сотни других, будто бы незначительных событий отодвигали меня от религии, от молельного дома все дальше и дальше, и мне становилось легче и светлее, и я уже на многое в нашем доме смотрел с усмешкой, как посторонний, чужой всему этому…
СМЕРТЬ ПЕГАНА
Дед наш совсем изменился — ходил злой, угрюмый. Все ему было и не так, и не эдак. Теперь от него постоянно пахло водкой.
Купил дед десять ульев. Меду в доме стало хоть завались. Пчелы настолько сдружились с ним, что он брал осторожно любую из них, сажал на ладонь и разговаривал:
Вот ты скажи мне, божья пчелка, почему ты такая трудолюбивая?
Пчелка жужжит на ладошке, но не улетает.
Знамо дело, для себя и деток своих. А вот я, как вор, прихожу и забираю твой мед. И вся твоя работа прахом идет.
Пчела обиженно жужжала.
Не согласна со мной? Ну и пошла вон, дура! — и дед стряхивал пчелу.
Обычно он ходил к пчелам без дымокура. Тщательно вымоется в бане, натрет лиао. шею, руки белыми цветами, пахнущими медом, рот каким–то душистым настаем прополощет, наденет чистую рубаху, и только после этого идет к своим труженицам.
Как–то он или плохо вымылся, или был в грязной рубахе, или же от него водкой пахло, только пчелы здорово изжалили его.
Прибежал он из сада, плюхнулся на крыльцо и завопил :
Мотька! Никишка! Берите гребешки! Чешите голову. Голову чешите, мать вас за ногу! Скорее!
Рядом с ним валялся, завернутый в марлю, белый, сахаристый мед. Мать с отцом прибежали, царапали частыми гребешками грудь ему, голову, руки.
Ноги чешите, чешит» ноги! — не унимался дед.
Брюки у него были засучены до колен. Я подскочил к ногам и начал вытаскизать пчелиные жала.
Да что ты! Расческой чеши! — обозлился отец и кинул мне металлическую расческу. Из складок одежды деда вылезали сердитые пчелы. Я тут же прихлопывал их.Дед чуть приоткрыл опухшие веки:
Да ты не бей их, Павел. Они сами улетят.
Кусаются они!
А ты не обращай на них внимания, и они не тронут.
Я послушался деда, и действительно пчелы улетели восвояси.
Павел, ведро воды из колодца, — рявкнул дед. Я стрелой к колодцу и обратно. Мать окатила деда с головы до ног.
Ох, как хорошо! Ай–яй! — кричал от удовольствия дед. Скоро он пришел в себя, успокоился, попросил: — Принеси–ка мне водицы студеной из родника… Угораздило меня дурня босиком на пасеку пойти… Да слышь, в берестяном ковше принеси!
Он жадно выпил весь ковш.
Эх, дни мои быстрее гонца летят, они как тень проходят…
Мне стало грустно от этих слов. И я запомнил их на всю жизнь. Будто дед что–то отравил во мне. Он обнял меня волосатой рукой и сказал неожиданно:
А завтра я высеку себе памятник из гранита… И вырублю на нем энти слова. Вы будете приходить на мою могилу. Придете, прочитаете да призадумаетесь. Скользнет тень, и нет ее, так и жизнь наша. Эх, вечно бы жить здесь, на земле! А на то — плюй, — он ткнул в небо пальцем. — Там пусто все.
Мне стало совсем легко и радостно от этих слов.
Наутро дед запряг в телегу Пегана и уехал. Вернулся он с трехметровой узкой гранитной глыбой. Пе–ган взмок от пота. Дед открыл ворота и понужнул коня. Тот рванулся, но телега будто приросла. Дед разозлился, хлестал Пегана бичом, лошадь дергалась, рвалась из хомута. Дед рассвирепел, начал пинать ее в брюхо. Пеган рванулся несколько раз и вдруг повалился на бок. Затрещала сломанная оглобля.
Отец бросился распрягать упавшую лошадь. Пеган был уже мертв.
Решил ведь лошаденку, решил, — взвыл отец. Я бросился к Пегану, увидел его незрячие глаза и горько заплакал.
Вот напасть–то! — сокрушенно пробормотал Дед. — Умный конек был.
ЧУРОЧКИ
На учебники нам с Ванюшкой родители денег не давали, приходилось самим зарабатывать.
Ребят в лесхозе я нашел сразу, чурочек они накололи целые горы.
Пошли к Косому, — сказал мне Сашка Тарасов.
Ванюшка сидел на ящике перед толстой чуркой,
ставил на нее березовые круги и быстро дробил их.
Помогать пришел? Давай. Пошли за кубиком.
Кубик — это квадратный ящик для замера чурочек. Он был с ручками, как у носилок. Мы принесли его к куче, и я стал складывать в мерку наколотые чурочки.
Да ты не так. — Ванюшка подошел к старым чурочкам, накидал их в ящик до половины, а сверху засыпал свежими.
Евмен Стратионович! — закричал Ванюшка. — Еще кубик готов!
Из–за куч вышел Редько с блокнотом и карандашом в руках.
«Переворошит чурочки, что тогда?» — испугался я.
Высыпай.
Евмен Стратионович! — крикнул Сашка.
Евмен повернулся к нему. А мы быстро высыпали
чурки в общую кучу и снова принялись за работу. Электрические циркулярки не успевали резать чурочки. Рядом с нами работала пилорама. Мужики по рельсам на тележках увозили тес. Неподалеку от пилорамы работал локомобиль. Земля вздрагивала от крутящегося маховика и работающей пилорамы. Из цеха выбежал дядя Савелий, бросился к кочегарке, открыл окно:
Маркел! Ты что там уснул, что ли? Не тянет! Току не хватает!
Из окна высунулся Маркел.
Не тянет? Сейчас я ее, окаянную! — Маркел исчез, и через некоторое время дым из трубы повалил гуще, а земля мелко задрожала.
Смотри, Пронька идет, — сказал Сашка.
Не мухлюйте при нем, а то отцу наябедничает, — предупредил я.
А мы его сейчас спровадим, — Ванюшка подмигнул нам.
Он достал из кармана стальные шарики от подшипников и начал подкидывать их и ловить. У Проньки глаза загорелись.
Ты где это взял их? — спросил он.
Нашел!
Где?
У Сухой речки, на свалке.
Поди, еще там есть?
Конечно. Поройся — найдешь.
Пронька рысцой устремился к свалке, а мы от хохота схватились за животы.
Через две недели Евмен выдал нам заработанные деньги.
Ванюшке — шестьсот рублей, а мне — триста. Брат не отдал матери все деньги, он припрятал целых две сотни. Ну, а я поменьше, — сотню. Да у меня еще хранились в укромном уголке триста рублей, вырученные от продажи карасей и ягоды. Теперь можно бы и велосипед купить, но попробуй купи. Отец голову оторвет. Откуда, мол, деньги!
В этот день мы с братом пошли в книжный магазин и купили себе учебники, тетради, карандаши.
Здание семилетки уже достраивалось, и мы теперь будем учиться с Ванюшкой в одной школе. Через год он уедет в Барнаульское речное училище. И Сашка с ним тоже собрался. Будут они рулевыми–мотористами. А когда же я–то вырвусь из этого дома? Когда я попаду в художественное училище? Дед говорит, что из меня должен быть художник–резчик по дереву.
Я — РОБИНЗОН
Сашка, Ванюшка и я сговорились попугать баптиста Миррныча. Мы не любили его за жадность.
Миронычу лет шестьдесят. Лицо у него бледное, почти желтое. На макушке лысой головы сохранился пучок белых, пушистых волос. Глаза у Мироныча большие и тоже желтые. Ходил он сгорбившись, мотая головой: вверх–вниз, вверх–вниз, будто усталая лошадь, везущая тяжелый груз.
Мальчишки даже ночью изводили его, не давали спать.
Сашка Тарасов сделал маски из картона, я покрасил их черной краской. Мы налили в пузырек керосина, припасли спички, Ванюшка стащил у матери старенькую простыню.
Темной ночью мы подкрались к избенке Мироныча. Ванюшка привязал к нитке сосновую колобашку и тихонько повесил ее на гвоздь в наличнике темного окна так, что стоило дернуть за нитку, — и колобашка начинала стукаться о стекло. Нитка была длинной, и мы залегли в высокую траву у забора.
Давай, — шепнул Сашка.
Брат осторожно дернул нитку, и колобашка застучала в окошко Мироныча. Мы фыркнули. Дергали нитку до тех пор, пока в избе не зажегся свет. Заскрипела дверь, и Мироныч глухо и сонно спросил:
Кто там?
Мы тряслись от смеха, зажимая рты.
Все чудится мне, что ли? — пробормотал Мироныч и поплелся обратно в избу. И только погасил он свет, как Ванюшка снова застучал. В окошке опять зажелтел тусклый свет, и снова затрещала дверь.
Да кто там стучит? — рассерженно крикнул Мироныч, в темноту. Подождал, послушал, плаксиво запричитал: — Господи! Избавь от наважденья. Чо это мне все чудится, господи? Покою никакого нет. — И он ушел, хлопнув дверью.
Задыхаясь от хохота, толкаясь, вырывая друг у друга простыню, переругиваясь шепотом, мы приготовили спички, керосин, надели маски. Ванюшка сильнее задергал нитку, колобашка застучала громче, Мироныч выскочил с руганью, распахнул калитку, и тут мы, держа перед собой простыню, выплыли из темноты. Сашка набрал в рот керосину и дунул им на зажженную Ванюшкой спичку. Сноп пламени метнулся в сторону Мироныча.
Старик в ужасе взмахнул руками, повалился и пополз на четвереньках к крыльцу, бормоча:
Свят, свят, свят… Нечистый пришел… За что, господи? За какие грехи?
А мы, хохоча, уже неслись по пыльной дороге…
А на другой день бабы затрещали на улице, что Миронычу видение было, что ночью приходил за ним нечистый с черным ликом, изрыгающий огонь. И что Миронычу шибко плохо стало, и он слег. А скоро понеслось из избы в избу, что это «бактистовы парнишки» ночью напугали старика. Только уже потом мы узнали, что это Сашка не вытерпел, сболтнул кому–то из мальчишек, те и выдали нас.
Убьет отец, — испугался Ванюшка. — Не ходи домой!
И убежал. Я, было, заглянул в калитку, но, увидев во дворе отца, который с яростью выбежал на крыльцо с толстым солдатским ремнем в руке, бросился в проулок и что есть мочи понесся к речке. Там я нашел в обрывистом берегу пещерку, натаскал травы, моху, веток и решил переночевать в ней. Измученный всеми треволнениями дня, я крепко уснул в своей пещерке, едва только стало смеркаться. И проснулся лишь на рассвете. Над речкой поднимался легкий туман, от воды несло холодком. Я скорчился на своей травяной постели и почувствовал себя одиноким, несчастным, никому в мире не нужным. Да еще есть хотелось так, что хоть кричи.
«Вот возьму и никогда не вернусь домой, — подумал я. — Умру здесь от голода, тогда небось узнаете». Я представил, как найдут меня здесь мертвым, как мать упадет передо мной на колени, и будет рвать волосы, и кричать, и каяться, что она меня совсем не любила…
Мне стало так жаль себя, что из глаз моих часто закапали слезы.
«Робинзон Крузо прожил на необитаемом острове двадцать восемь лет, и я буду жить один! — решил я. — Вот только схожу домой за ружьем».
Не вытерпев, днем я пошел на крайнюю улицу и уговорил одного из знакомых мальчишек стащить для меня буханку хлеба. Сунув ее за пазуху, я вернулся в убежище. В березняке набрал земляники в подол рубахи и съел ее с хлебом…
В темноте я подобрался к дому. Крыша его чернела на фоне серого пасмурного неба. Бесшумно пробрался в сад и затаился под рябиной у кухонного окна. Половинка ставни была открыта. Слабый свет падал на рябиновые ветви. Я услышал нудное, однообразное пиликанье баяна и унылый голос матери, которая тянула унылые слова:
Ты измучен бессильной, бесплодной борьбой,
Поглотившей все силы твои…
Я представил, как на скамейке сидит отец, грубыми пальцами перебирает клавиши старого баяна и безразлично смотрит в угол, где копошится тень матери. Мать оборвала пенье, глухо заговорила:
Это чего же такое? Куды они запропали? Ну, Ванька — тот привычный, вечно бродяжит. А Пашка? Не случилось ли чего? Долго ли до греха?
Да будет тебе, надоела! — буркнул отец. — Народила язычников. Прогневишь господа жалостью своей. Богохульниками да поносителями слова божьего растут.
Мать вздохнула и забренчала посудой. Я бесшумно двинулся к крыльцу. Все продукты мать хранила в ларе, в сенях. Я нажал на дверь, она открылась. В пробое ларя замка не было — вот удача–то! Приподняв одной рукой тяжелую крышку, я засунул руку в ларь и сразу же ухватил большой калач, и тут распахнулась из дома дверь и на меня упал свет. Передо мной стоял отец, черный, освещенный со спины.
Явился?! Жрать захотел?! — проговорил он. Я съежился, обмер, ожидая ударов и пинков. Отец стиснул железными пальцами мое ухо и повел меня в кухню. Я забыл бросить калач, так и тащил его в руке.
Полюбуйся на своего стервеца, — рявкнул отец. Мать ахнула, всплеснула руками, закричала:
Где это ты пропадал, холера?! Накажет тебя господь, накажет! Будешь на том свете лизать раскаленную сковородку!
Спину мою жег солдатский ремень. Отец даже крякал, хлеща меня. А я орал и извивался от боли.
Я ПОПАДАЮ В ИНОЙ МИР
А через несколько дней вот что случилось.
Тетя Тася прислала мне из Барнаула деньги, чтоб я приехал к ней в гости.
Ишь ты, видно, деньги дурные завелись, — проворчал отец. — Собирайся быстрее, а то на пароход не успеешь.
Мать вытащила мне из сундука белую, с вышитыми обшлагами и грудью украинскую рубаху, черные суконные штаны и ботинки.
Пароход швартовался к пристани, когда мы с от–дом покупали билет. Отец дал боцману полсотни, чтобы он присматривал за мной в дороге, и ушел. Боцман увел меня на верхнюю палубу, открыл дверь и сказал:
Вот твоя каюта. На пристанях на берег не шляйся, а то отстанешь. За борт не свались. Есть будешь в ресторане. Он там, на носу.
Каюта мне понравилась. В ней был диван с постелью, тумбочка с лампочкой под абажуром. У двери какая–то белая штука, похожая на умывальник. Я надавил на рычажок, и струя брызнула мне в лицо. Я отскочил, испугавшись. Потом плюхнулся на упругий диван и с удовольствием закачался на нем…
Сойдя в Барнауле на пристани, я растерянно остановился среди толпы, не зная куда идти. И тут кто–то закричал:
Павлик! Павлик!
Я обернулся и увидел женщину в красном платье, в белых туфлях. Волосы у нее рыжие, а брови черные, и глаза тоже. От женщины хорошо пахло цветами.
Павлик! Это же я, тетя Тася! — весело воскликнула она, прижав меня к себе. — Какой ты стал большой! Весь в бабку! Я тебя сразу узнала. — И она повела меня к себе домой…
Теперь я уже смутно помню, как я прожил тот месяц у тети Таси. Театр, кино, парк, мороженое, такси, магазины — все это слилось в один радостный праздник. Но самое главное было в том, что я почувствовал себя человеком. Я живу, я думаю, я дышу, и вокруг меня такие же свободные люди, а не безгласные исполнители «воли божьей», «слова божьего». Такой жизни я коснулся впервые. Как она не походила на мою прежнюю жизнь! О молельном доме я вспоминал со страхом и отвращением.
Вернулся я домой в новом костюме, с новеньким чемоданом, набитым рубашками, играми, конфетами. И еще в руках у меня были лыжи и коньки!
Шел я по берегу. На другой стороне, в ярких заливных лугах, по пояс в траве, мужики взмахивали литовками, косили отаву.
А вот и кирпичный завод. По огромному деревянному кругу сонно ходили два быка, крутили глиномешалку. Она уныло потрескивала, а парень, что сидел на рычаге, вяло подгонял быков палкой. Колесо под сиденьем парня скрипело жалобно и надрывно. Формовщики наполняли глиной формы и таскали их к полкам.
Август уже уходил. В воздухе летали серебристые паутинки с паучками.
Дома никого не оказалось. Я оставил чемодан в сенях, вошел в свою каморку, взглянул на лежанку, застланную драным одеялом, на серые, унылые стены.
«Как же далыпе–то жить теперь? — подумал я с горечью. — Когда же я уеду отсюда навсегда?»
Приехал, сынок?! Да где ты? — услышал я крик матери. Я вышел из своей комнаты. Мать держала мой чемодан и смеялась. Я взял у нее чемодан и раскрыл его. Тут появился отец, и они стали рассматривать, что мне подарила тетя Тася.
Вот костюм, это дело, а остальное — пустая трата денег, — заметил отец.
Мне неприятно было это слышать. Я утащил чемодан к себе в комнату. Скоро прибежал ко мне Ванюшка, весело крикнул:
Здорово, путешественник! — и пожал мне руку. Осмотрев мои сокровища, он озабоченно сказал:
Знаешь, с дедом плохо!
А что с ним?! — забеспокоился я.
Мама сказала, что от пьянства удар у него был. Он же последнее время все пил. Это из–за Фени. Закрывался в мастерской и пил. А потом начинал кричать, петь, плакать.
Я заглянул в комнату к деду. Он лежал на кровати поверх одеяла, одетый в новый праздничный костюм, в белоснежную рубашку, словно собрался в гости. Его волосы, борода, усы были аккуратно подстрижены. Здорово изменился дед, пока я ездил. Он как–то усох, стал меньше, старее.
Деда, а почему ты оделся так? —спросил я, чувствуя, что на глазах моих выступают слезы.
Нельзя трогать усопшего человека, — тихо и медленно объяснил он. — А то ворошат его… Туда–сюда перекладывают, обмывают, одевают. Страшно ведь это живым и противно. А я сам себя приготовил. И не трожьте меня. Сам оделся, сам улегся.
Да ничего ты не умрешь! Придумываешь только, — воскликнул я, ладошкой размазывая слезы по щекам.
Это — ничего. Это — хорошо. Поплачь, поплачь, внучек ты мой милый. Никто и никогда в жизни не плакал обо мне. А вот ты — плачешь, значит — любишь… Вот мне уже и хорошо, вот мне уже и легче.
Живи, деда! — закричал я.
Ничего, ничего… Ты не бойся. Это ведь природой так заведено, что жизнь кончается смертью… А умные люди это переиначили. У них жизнь кончается не смертью, а большими делами… У меня же этак–то и не получилось. Оглядываюсь на свой путь и ниче–го–то я хорошего не вижу.
Дед положил на мою лохматую голову тяжелую, слабую руку и погладил меня. От этого я еще сильнее заплакал — никто еще меня так не ласкал.
Ты художником будешь… Художником… В тебе есть… Слушай… Выгляни, за дверью никто не таится?
Я открыл дверь, выглянул.
Никого, — сказал я, подходя к деду.
Теперь запомни… Сначала поклянись, что все сделаешь так, как я скажу.
Клянусь тебе, дедушка!
Так вот… есть у меня деньги… Скопил на старость. Не очень большие, но все–таки… — дед слабо усмехнулся. — Хватит, чтобы тебе два–три первых года прожить самостоятельно и спокойно учиться… Отец твой, как жадный пес, крутится вокруг меня, домогается. Думает, что денег у меня хоть лопатой греби. Он и Фенюшку тогда из–за них… Зверь, зверь! Так вот что он получит, — и дед сложил кукишем свои большущие пальцы. — Твои они. Вспоминай деда… В сарае, за второй балкой от входа… Знаешь?
Ага, помню, знаю…
Как раз между торцом балки и крышей. Будешь уезжать учиться, возьмешь их.
Хорошо, дедушка, все будет, как ты велишь! Я позову доктора?
Не поможет. Я это лучше его знаю. Оборвалась во мне становая жила, а без нее жизнь не держится, как потолок не держится без матки. Рухнет… Ну, а теперь иди, парень. Ни к чему тебе смотреть, как я буду с жизнью прощаться… — Он еще раз погладил мою голову и легонько толкнул меня в грудь: иди, мол, отсюда, иди!..
Я попятился, не сводя с него глаз. Дед лежал высохший, празднично одетый… Собрался мой дед в далекий путь. Таким же вот он был однажды, когда ждал свою Феню… И последнее, что я заметил, — это из зеленой кожи портфель под подушкой, на которой лежала голова деда…
Во дворе я встретил Ваньку, и он повел меня записываться в школу.
Здание семилетки построили на горе. Вокруг нее посадили деревья. Школа оказалась среди сада. Она так и светилась новенькими смолистыми бревнами. Классы, зал со сценой, коридор пахли еще краской и известью. Очень хорошую, красивую построили школу. В ней хотелось учиться…
Меня записали в пятый класс, а Ванюшку — в седьмой. Затем мы с Ванюшкой убежали на речку, играли там с мальчишками в индейцев и вернулись домой только к вечеру. А встретил нас материн крик. Дед умер. Он спокойно лежал в своей домовине. Мать стояла на коленях у гроба и причитала в голос. Подавленные, испуганные, постояли мы с Ванюшкой в дверях и тихонько ушли в кухню. Там я увидел на столе зеленый портфель. Он уже был не пухлый, а пустой, плоский. На полу валялись скомканные баптистские журналы. На табуретке я увидел какой–то листок. Взял его и удивился: на нем была нарисована рука, показывающая кукиш. Я как бы услышал голос деда, который еще утром говорил мне об отце: «Вот что он получит!» Я тут же догадался, что произошло без нас; потом эту догадку подтвердил рассказ матери. Отец требовал, просил, умолял деда отдать ему деньги. Дед успокоил его: «Деньги в портфеле. Как отойду я, так и бери».
И действительно, как только дед затих навсегда, отец вытянул из–под его головы портфель, бросился на кухню, выдернул из портфеля содержимое и нашел в нем только баптистские журналы, натолканные для толщины, да нарисованный дедом кукиш. Дед, озорной чудило, остался верен себе. Отец взвыл от ярости и бросился во владения деда. Он все перерыл у него в полуподвале и в мастерской, но ничего не нашел…
Когда хоронили деда, было пасмурно. Небо укуталось в лохмотья туч.
Могилу деду вырыли в березовом колке, рядом с могилой Пегана. Такова была воля деда. Народу собралось много. Общими силами установили в изголовье могилы светло–серый гранитный столб–четырехгранник, на котором рукой деда было высечено:
Дни наши летят быстрее гонца.
Как тень они проходят.
И под этой надписью были изображены осколки какого–то сосуда. И слова, и осколки сияли, дед покрыл их бронзой. Толпа баптистов молча и задумчиво смотрела на эти последние слова своего бывшего проповедника…
В ШКОЛЕ
Я попал в первую смену, а Ванюшка — во вторую. И вот он — первый школьный день. Рано я заявился в свой пятый класс, а там уже сидел на задней парте веснушчатый верзила. Я его никогда не видел-— новенький.
Эй, давай сюда! — позвал он. — Я здесь с семи караулю. Ты драться любишь?
Люблю, — зачем–то соврал я.
Ну, тогда садись со мной. Дружить будем! Тебя как звать?
Павел, а тебя?
Петька. Давай порубаем, — и он достал из портфеля несколько помидоров, соль и кусок хлеба.
Мы все это быстро уничтожили.
Ты оставался на второй год? — спросил Петька.
Нет.
А я в третьем два года сидел и в четвертом тоже.
Почему?
Да с арифметикой у меня дело дрянь.
Я хоть и не любил арифметику, но учился по ней на пятерки.
Перед началом занятий нас всех построили в зале, и директор школы Сахаров произнес речь, пожелал нам успехов.
Первым уроком был немецкий. Вошла учительница, мы все встали, а она сказала нам:
Гутен таг.
Здрассте! — гаркнули мы хором. А учительница кивнула нам:
Зетцт ойх!
Мы ее не поняли и продолжали стоять.
Я сказала вам: садитесь. Зовут меня Вандой Оттовной. Я буду преподавать немецкий.
Ничего себе, имечко! — Петька хихикнул.
Ванда Оттовна ходила по классу легко, будто на цыпочках.
Учителя все были новые, и мы встречали их с интересом. Очень мне понравилась учительница истории. Была она красивой, молодой. Звали ее Анной Ивановной. Такая серьезная и добрая, с черными волосами, в темном платье. Я тогда впервые услышал от нее о древнем мире, о рабах, об ужасных сражениях греков с троянцами, о восстании Спартака.
Слушал я ее разинув рот, так интересно рассказывала она о неведомой нам прежней жизни. А потом предложила почитать нам после уроков про Одиссея.*
Запомнилась мне и учительница по литературе Валентина Степановна. Она тоже была молодой и тоже показалась мне очень красивой. Только волосы у нее были светло–русые, а платье белое в черный горошек.
Все в тот первый день выглядело в школе праздничным. И на душе у меня тоже был праздник оттого, что я прикоснулся совсем к иной жизни, чем та, что мучила меня дома: я оказался среди людей, которые резко отличались от всех этих «божьих братьев и сестер». И я как никогда пронзительно почувствовал, что существуют два мира: огромный, светлый и маленький, темный. В тот день Валентина Степановна почему–то читала нам «Дети подземелья», и читала так, что мы весь урок слушали ее замерев.
С нетерпением ждал я урок рисования. Учитель оказался инвалидом — на войне потерял руку. Знакомство началось с того, что дал он нам задание рисовать на свободную тему. Петька начал изображать морской бой, а я своего деда.
Он получился у меня как живой.
Иван Петрович забрал мой рисунок и положил его отдельно в журнал.
ПРОЩАЙ, ДОМ С ЗАКРЫТЫМИ СТАВНЯМИ!
Мать оборвала рябину и кистями повесила на чердак, чтобы вышла из нее вся горечь. Половину ягод она оставила на кустах, зимой склюют ее дрозды–рябинники и красногрудые снегири.
В сентябре установились погожие деньки. Солнце так припекало, что мужики работали в майках, помогая бабам дергать морковку и копать картошку. Лазурное небо казалось выше, а горизонт как бы приблизился.
Но было это тепло недолговечным, подкралась к поселку зима, дохнула холодом и сразу же обрушила на землю обильные снега.
В нашем доме по–прежнему шли моленья, но членов становилось все меньше и меньше… Часть уехала в город, старики умирали, молодые сторонились общины, вновь обращенных к богу почти не было. Жизнь делала свое дело.
В общине все о чем–то шептались, собирались отдельными кучками, молились нехотя, будто насильно. Отец стал нервным, раздражительным. Никто словно и не замечал его как пресвитера общины. Отец дрожал теперь над каждой копейкой.
И вот однажды он сказал матери:
Придется, Матрена, дом продать да купить поменьше. Того и гляди жевать будет нечего.
— Делай что хочешь, — безразлично ответила мать. — Господь всему судья… Его воля.
Мы с Ванюшкой переглянулись: уж очень ненавистен нам был этот дом, а тут вдруг словно бы и загрустили — все–таки мы выросли в нем. А может быть, мы просто смутно почувствовали, что теперь начинается для нас какая–то новая жизнь, и от этого стало тревожно?
Пришел Евмен потолковать с отцом о делах общины.
Дом надумали мы продавать, — заявил отец. — Все равно община маленькая стала, доходов почти никаких. Может, куда уедем.
Покупателя тебе искать не надо, он здесь, — с усмешкой объявил Евмен.
Кто?
Я. А откуда у тебя деньги–то? — отец просверлил Езмена взглядом.
Ты не спрашивай об этом, а лучше называй цену.
Сто, и ни рубля меньше.
Сто тысяч? Да ты что, сдурел, брат?
А что, не стоит разве? Семь комнат, зал, теплые сени, кухня, столовая, кладовая, теплый подвал, колодец, два погреба, сад, пасека. Это как, по–твоему? Пустяки?
Ну, нахвалил куды с добром! Много просишь, брат, много. Больше восьмидесяти не дам.
Да лучше уж сжечь, чем…
Твое дело, брат, а я могу и другой купить. Такого покупателя, как я, тебе не найти. Подумай, брат Никифор, с женой посоветуйся.
Что мне советоваться? Я — хозяин! Я! — разозлился отец.
Наконец они срядились. Евмен дал девяносто пять тысяч. Себе мы купили неподалеку неказистую избенку.
Я простился с замерзшим родником, с могучим кедром и, вздохнув, напоследок прокатился с ледяной горки.
Распродал отец и всю нашу мебель, только инструменты оставил.
Новая изба встретила нас холодом и сыростью. Стены ее были не оштукатурены и не побелены, бревна потрескались. Здесь мы зажили еще хуже. Отец продал собачью доху и надевал старую грязную фуфайку. Мать носила дешевые ситцевые платья. Даже на собрания ходила в старой суконной юбке и черной шерстяной шали с оторванными кисточками.
Община нам не помогала, братья и сестры говорили :
Носят на себе что попало, а у самих на книжке, поди, лежат тысячи. Прибедняются…
Отец съездил в город и привез какую–то шкатулку. Думая, что мы с Ванюшкой спим, он высыпал на середину стола грудку золотых вещиц: кольца, часы, браслеты, серьги…
Зачем ты это купил, Никита? — мать заплакала. — На что жить–то будем? Теперь вот смотри на это добро…
Проживем, мать, — отец сгреб золото в шкатулку и запер ее на ключ. — Я слыхал, что опять денежная реформа будет. Деньги деньгами, а это золото. Вдруг война или еще что–нибудь. На Север поедем, там у всех бешеные деньги. За каждую вещицу в три раза больше дадут, — отец положил шкатулку в окованный железом сундук, щелкнул внутренним замком да еще повесил большой висячий замок, сунул ключи в карман ватника.
На следующий день отец заколол моего любимого быка Борьку и мясо продал на базаре, а ели мы хуже некуда.
Я спросил у отца:
Ты зачем продал мясо? У меня даже голова кружится. Все картошка да капуста.
Ты должен благодарить бога за все — и за хорошую пищу, и за плохую; за удобную постель и за отсутствие всякой постели; за чай с сахаром и за чай без сахара, — сердито ответил отец.
Наш ветхий домишко состоял из двух тесных комнат. На кухне пристроили сундук, дощатый стол и длинную скамью. На стене висели ходики. В углу х’ромоздилась печь. За ней приютилась моя лежанка, скрытая занавеской. У печки всегда лежала куча дров. Спальня выглядела уютнее: широкая деревянная кровать, стол, накрытый белой скатертью, на нем тяжелое зеркало, а на стене обвитые вышитыми полотенцами портреты матери и отца… Единственной утехой тех дней были для меня книги.
Я выменял на самодельные игрушки у одного школьника электрический фонарик и несколько новых батареек.
Ночью, когда все спали, я с головой укрывался одеялом и включал фонарик. На раскрытую книгу падал яркий свет. За несколько ночей я прочитывал книгу, и каждая новая книга открывала мне новый, интересный мир.
У Ванюшки постоянного места не было. Он спал то со мной, то на сундуке, то ютился у Сашки. Так бедно и безрадостно мы жили…
Наступила весна. Пахнуло из леса сыростью стаявших снегов, прохладой из оврагов, глубоких, как сон.
Накануне весеннего праздника я встал очень рано. Мать уже побрякивала в кухне посудой.
Ты чего это поднялся в такую рань? Забота тебе, что ль, какая? — удивилась мать, открывая заслонку печи и поджигая еще с вечера приготовленные дрова.
Праздник завтра.
А тебе что до этого?
На демонстрацию пойду, надо подготовиться.
Пойдет он, — пробурчала мать, — а отец разрешил?
А мне в школе сказали, чтобы я обязательно пришел.
Без отцова спроса и не думай. — Мать навалила из ведра в деревянное корыто мелкой картошки и веселкой стала гонять ее в воде.
Взяла бы да сама и отпустила, — посоветовал я. — А я бы пока что–нибудь хорошее сделал.
Вон вскопай грядки, а там посмотрим.
Я — скорее в огород. Жирные комья чернозема весело отлетали от лопаты. Тщательно проборонив гряды граблями, я поспешил к матери:
Отпустишь?
Вон уж погладила наряд. — И правда, на табуретке лежали мой новый костюм, белая, расшитая красным узором, рубашка и черный шелковый пояс.
К братской могиле вас поведут. Помяни их там да помолись. Тяжело им в аду. Коммунисты все, — мать вздохнула и стала мять картошку толкушкой.
«Что бы такое понести, когда пойдем на демонстрацию? — подумал я. — Выпилю–ка из фанеры голубя и укреплю его на палке. К ней еще привяжу искусственные цветы».
Я так и сделал. Покрасил голубя голубой краской, палку красной, а цветы расписал под анютины глазки. Все получилось здорово.
Ночью. я спал беспокойно Уж очень мне хотелось попасть на демонстрацию. Утром просыпаюсь, а одежды нет. Я сразу к матери. А она меня огорошила:
Отец забрал. Да еще и обругал меня. Сказал, что нечего беса тешить — по демонстрациям ходить.
А как же я теперь? — чуть не заплакал я от обиды.
Иди в чем есть.
Я поглядел на свои старенькие брюки, с заплатками на коленях и «очками» на заду.
Как же я в них–то? Все наряженные придут…
Мать только вздохнула, налила молока в кружку:
Завтракай.
Не хочу я. А голубь где? — испуганно вскричал я.
Сжег отец.
Тут уж я не вытерпел, горько заплакал и бросился в сарай, где отец устроил столярную мастерскую. Я быстро выстругал палку, вырезал из картона голубя и раскрасил все это акварелью. Конечно, с первым голубем не сравнишь, но все–таки идти на демонстрацию можно и с таким. Я помчался к школе. Там уже ребята строились в колонну. Все были нарядные, веселые. Я выглядел среди них оборвашкой.
О! Паша пришел! — ласково встретила меня преподавательница литературы, молодая, светлая. От ее вида и голоса мне сразу стало хорошо и весело.
А ты красивого голубя сделал. Ну, становись в строй, вон туда, там одного не хватает.
Я встал к девчонкам, и мы зашагали к братской могиле красноармейцев, расстрелянных Колчаком…
ГОРЕ ТЕТИ АНИ
Ванюшка, к моему удивлению, окончил семь классов на четверки да пятерки.
Сразу после школы он и Сашка устроились в лесхозовскую кочегарку к Маркелу. Там поставили еще пару локомобилей. Решили работать, пока не придет из училища вызов. Домой возвращались чумазые, но гордые: мол, взрослыми стали, работаем.
Я ловил карасей, щук, собирал ягоды, колол старикам дрова и все вырученные деньги складывал в дедов тайник, над балкой в сарае. Евмен никогда не вапирал сарая, в него было легко попадать, и я решил не делать нового тайника.
Мать днями просиживала у сестер, жалуясь на судьбу и засуху.
Жара–то! У лягушек спина трескается! — говорили бабы. С самого начала июля не было дождей. Звенели на жгучем ветру иссушенные блеклые травы–Земля пересохла, окаменела. Стелился по лугам коричневый дым, разило гарью — где–то горела тайга. Ночами всходила красная луна. Играли в небе отблески огня, точно зарницы.
Не дай бог, выпадет голодный год! — стонали бабы, со скорбью глядя на чахлую картошку, на выжженные рыжие травы, на опаленные кусты ягод. Все жаждало дождя. Но лишь пыль да копоть стелились по поселку. Пахло горько и удушливо. Даль была мутной, точно смотрели на нее через грязное стекло.
Мать все молилась и молилась:
Господи! Пошли дождичка! Господи! Смилостивься над грешными! — По щекам ее текли слезы горькие, как полынь. — Ведь вымрем, как мухи, господи! Что мы значим по сравнению с тобой?
Однажды, намолившись досыта, она ушла в лес„ надеясь набрать хоть какой–нибудь ягоды.
К вечеру застлало запад землисто–угольным ковром. Сначала думали, что это пыль, а потом обрадова лись — шла гроза. Тучи надвигались тяжело, будто кто–то вытаскивал их из–за леса насильно арканом. Дождь обрушился сначала без грома, без молний» сплошной стеной. Потом рванул ветер, ударил в соседский тополь и переломил ствол. Половина его грохнулась на крышу нефедовского дома и раздавила ее.
Хозяин выскочил во двор, поохал–поохал да снова в дом. Не будешь же ремонтировать крышу в грозу.. Того и гляди в самого шарахнет молния. И она шарахнула, но только не в Нефеда, а в его злосчастную крышу. Та задымилась, но тут же потухла, залитая ливнем.
Вернулась мать. Мокрая, с двумя березовыми вениками. В корзине душица. Ее вместо чая хорошо заваривать. Мать вся так и светилась, решив, что ее молитвы помогли — дал господь ливень. Напевая баптистские стишки, она переодевалась в сухое платье.
Схожу к Нефеду, — сказал отец. — Ведь накавал его господь. Что он думает? Первое испытание для' него было послано.
Я увязался с отцом посмотреть, как разворотило крышу.
Никита, сковородник на улицу выбрось, а то молонья возле дома сверкает, — попросила мать.
Да будет тебе народ–то смешить, дура! С нами господь, — буркнул отец, но сковородник все же взял.
Испуганный сосед жался в углу. Жены его дома не–было.
Мир тебе, — поздоровался отец.
Здравствуй. Проходи, Никифор.
Ты, Нефед, садись к окну, не бойся. С нами Христос, — отец сел у окна.
Нефед только покосился на окно.
Неспроста, сосед, — начал отец, — столько напастей на тебя сразу. Дерево на дом упало, молния в твою кровлю ударила. Это лишь первое предупреждение. Одно спасение тебе — обратиться к богу. Иначе господь за один миг спалит твой дом. А когда умрете, гореть в вечном огне будете, страшно ведь это. И будут твои муки длиться веки–вечные. Вот куда заведет тебя греховная тропа…
Грянул гром, и Нефед вздрогнул.
Подумай, сосед, как следует, а вечером приходи к нам и жену приводи…
Перепуганный Нефед пришел к нам вечером на моление и жену свою привел. Рядом с тщедушным мужем его жена выглядела особенно крупной и статной. Отец с удовольствием оглядел ее заискрившимися глазами…
Дождь лил целую неделю. Травы гнили на корню. Зароды сена почернели, промокли и загорелись изнутри.
Ну, что? Вымолила у бога дождичка? — заворчал отец.
Мать плакала и снова просила всевышнего» Но теперь не дождя она просила, а защиты от него. Но бог не слышал ее и продолжал поливать землю. Земля уже не принимала влаги, и вода скапливалась целыми озерами!
На следующей неделе дождь прекратился, ветер смел лохмотья облаков, и установилась хорошая погода.
В один из жарких дней я побежал купаться и на берегу увидел тетю Аню в голубом сарафане. Почему–то вспомнилось, как приходил Парфен в общину, когда умерла мать Ани и отец дал ему денег на похороны.
Будете купаться? — спросил я у тети Ани.
Да я плавать–то не умею! — засмеялась она. — А позагорать можно.
Тетя Аня сняла босоножки и села на бревно, свесив ноги в воду. Очень мне нравилась тетя Аня, ласковая, добрая и вся какая–то беззащитная, как школьница…
Я нырнул на самое дно, и тут же, как пробка, выскочил на поверхность: у дна вода была студеная.
Когда я вдоволь наплавался, тетя Аня предложила:
Пойдем в кино? Парфен уехал, и никто меня ругать не будет.
У меня денег нет, — огорчился я.
У меня есть. Пойдем.
А какое кино?
«Приключение Артемки». Смотрел?
Нет.Тогда вылазь, а то опоздаем.
После фильма мы пошли домой. Тетя Аня шутила, дурачилась, и не знали мы с ней, что в это время грянуло для нее горе, подломившее ее.
Уже позже я узнал, что, когда она пришла домой, в кухне толпились соседи, а на лавке лежал мертвый Парфен.
О подробностях я услышал из рассказа матери. Как раз приехал отец. Он в соседней деревне проводил «господню вечерю».
Отец! Несчастье ведь у нас в поселке! — запричитала мать.
Что такое стряслось? — насторожился отец.
Да ведь Парфен погиб!
Как?
Он и брат Евмен ездили в город за товаром. Погрузили в машину и обратно поехали… Ящиков цельную гору напихали, а сами сели на них. Кабина была занята, какую–то женщину с ребятенком прихватили. Ну, поехали… А на ухабе их возьми да и тряхни. Оба они и слетели с ящиков. Брата Евмена господь спас, он только руку вывихнул, а Парфен прямо под колесо головой…
Писанием утешала? — нетерпеливо перебил отец.
Чем же человека и утешить, как не господом?
Отец удовлетворенно кивнул:
Помочь ей надо.
Да взяла уж у общины деньги. Сестры там хлопочут.
Сколько взяла?
Полторы тысячи.
Да ты что, сдурела, старая!
Перестань, Никифор. Господь трижды вознаградит нас.
Быть, старая, по–твоему, пойду к ней, — прогудел отец.
Мать, сделав постное лицо, затянула:
Точно лилия степная расцветает,
Оживи, душа моя,
Как орел, стремись высоко и далеко,
К небу, в божие края…
Ошеломленный, я бросился к дому тети Ани. У ее калитки меня встретил отец.
Нечего тебе здесь делать, — буркнул он, — тут — горе. Народу полно. Заворачивай домой. Анютушка сама придет к нам.
«Ох, лучше бы уж она не приходила к нам, — подумал я. — Закружились вокруг нее. Знают, когда прилететь».
Уже вечерело, когда пришла тетя Аня. Должно быть, тяжко ей было в доме, где лежал неподвижный Парфен.
Присев на краешек моей постели, она вдруг, уткнувшись в мое плечо, беспомощно заплакала, точно я был старше ее и она искала у меня утешения.
С миром приветствую тебя, сестра Анна, — ласково проговорил отец и погладил ее волосы.
Сестрами называют только членов общины. Неужели тетя Аня уже…
Что же, Анна, утешить тебя может лишь один Христос, — начала мать, садясь с ней рядом. — В нем и только в нем найдешь ты свое утешение.
Почему, тетя Мотя?
Несчастны те, кто не знает господа. Вот господь тебя все время наказывает. Матушку твою при–звал к себе… Ребеночек родился у тебя мертвый. А теперь вот и муж…
Да, да, да, — словно самой себе шептала тетя Аня, кивая головой.
Я прижался к стене. Они сидели ко мне спиной.
Ты возьми себя в руки, сестра. С тебя только одно и требуется: не забывать Иисуса и быть поближе к нему. Ты обопрись на него и на нас тоже. Община не оставит тебя. Ты еще найдешь свое счастье, — мать приникла к ней с одной стороны, а отец подсел с другой. Он не говорил, а как–то ворковал:
Наша община будет помогать тебе, как родной. У нас ведь христианская семья, мы братья и сестры по Христу. Твоей душе будет у нас и тепло, и хорошо… У нас не курят, не пьют, не распутничают, — ты это знаешь.
Это, Анютушка, бывает все в земной жизни, а не у нас, — пропела мать. — Мы от грешников отгорожены именем Христа.
Тетя Аня слушала, лицо ее становилось все задумчивей.
Я насторожился. Не раз приходилось мне наблюдать такие сцены. Я видел, как тетя Аня успокаивалась. И я уже знал, что это значит. О, отец умел уговаривать, увлекать!
Отойдя душевно от мирского, ты ничего не потеряешь, — убежденно и страстно доказывал он. — Ну, кто сейчас вокруг тебя в твоем «Заготсырье»? Вас там несколько человек. Суетитесь вы, хлопочете о бочках, о ящиках, о соли, о сахаре, о грибах, об огурцах да ягодах — вот и все. Вот и вся ваша духовная жизнь. А у нас ты найдешь веру, любовь, спасение души, свет господа, братьев и сестер… Ты подумай, что теряешь и что обретаешь!
И тетя Аня опять согласно кивала, шепча: «Да, да, да!»
А я — что… Я должна уйти с работы? — спросила она.
Нет, Анютушка! — воскликнул отец. — Ты должна работать, так бог велит. Да работай по–прежнему, делай там свое дело. Как всегда ты будешь там со всеми, но только не душой. Душой ты будешь с богом.
Теперь–то я понимаю всю хитрость этого баптистского хода: среди земной жизни тайно жить для бога.
Чем же я отблагодарю вас за помощь мне? — несколько растерянно воскликнула тетя Аня.
Вот, сестра, что на сей случай говорит еванге–лист Лука, — отец раскрыл Евангелие. — «Взглянув же,, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел он также бедную вдову, положившую туда две лепты; и тогда он сказал на это: истинно говорю–вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка положили в дар богу, а она от скудности своей положила все пропитание свое,, какое имела».
Аня слабо, но благодарно улыбнулась:
Это очень тяжело быть одинокой, да еще в горе,, вы — добрые… Мне легче с вами. Не бросайте меня. А то ведь я… Я уже и не знаю, как мне жить…
ЭПИЛОГ
После этого прошел год.
Я окончил шесть классов, вытянулся, стал долговязым…
Дома мне становилось все хуже. Родители бушевали: я, как и Ванюшка, окончательно отказался от всяких молений.
Порой странно, даже удивительно складываются обстоятельства: жизнь, школа, люди увели меня из молельного дома, а веселая красавица тетя Аня, наоборот, пришла в этот дом. Но не было уже прежней веселой, молоденькой Анюты, бегавшей в кино. Она превратилась в спокойную, замкнутую женщину.
Как вы живете? — спросил я однажды тетю–Аню. — Вы теперь стали какой–то не такой, как были.
Мне хорошо теперь, — ответила она улыбаясь. — Тихо, спокойно, я знаю — зачем и ради кого я живу. Если бы и твоя душа тоже просветилась.
И вдруг мне, мальчишке, стало жалко ее, и захотелось мне рассказать ей о судьбе Фени, о крушении дедовой веры, о моей нелюбви к отцу с матерью. Но я промолчал. Не знал, как ей все высказать, не мог найти слов. Меня почему–то угнетали ее просветленное лицо, ее скрытая, внутренняя отчужденность. Теперь–то я понимаю, что я тогда бессознательно почувство–вал, что она умерла для той прекрасной, земной жизни, которая так властно звала меня к себе.
Вот эта смерть для всего земного, человеческого, как говорят баптисты, «греховного», и является для них «возрождением свыше».
Тетя Аня была готова для крещения, а крещение делало верующего членом общины.
Крещение тети Ани должно было произойти в реке Сосновой.
На берегу община разбилась на две группы: мужчины с отцом ушли в заросли ельника в одну сторону, женщины с тетей Аней в другую.
Мы, ребятишки верующих, сидели в сторонке. Так нам было велено.
Девушки в белых платьях, в венках из ромашек сгрудились под разлапистыми соснами.
Скоро мужчины вышли на берег, сразу же вышли и женщины.
Отец облачился в какую–то белую одежду, похожую на покрывало, часть которого была перекинута через плечо, а часть висела на левой руке. Он напоминал древнего римлянина в тунике, такой рисунок я видел в учебнике.
Тетя Аня была одета так же. На груди ее чернел шелковый бант, завязанный в форме креста.
Они встали рядом у воды. Вдруг запылали громадные костры. Красиво запел хор девушек. Они славили тетю Аню за то, что она отдала свою жизнь богу. Ей надели на голову венок из полевых цветов.
Вот тетя Аня с отцом вошли по колено в воду. По реке скользили сверкающие блики солнца. Община цепочкой растянулась по берегу.
Дорогие братья и сестры! — торжественно обратился отец к общине. — Сестра Михайлова Анна Ивановна желает принять святое крещение!
Не возражаем, брат! — хором ответила община.
Отец зашел в воду по пояс. Белое покрывало всплыло на воде.
К отцу подошла тетя Аня. Ее длинная коса с бантом–крестом на конце коснулась воды.
Отец положил на ее голову руку и громко спросил:
Веришь ли ты, сестра, что Иисус Христос…
Дальше я не разобрал слова. Тетя Аня что–то ответила ему. Я привстал и увидел, как отец осторожно нагнул тетю Аню, и через ее спину потекла вода, относя в сторону косу. Считалось, что вода смывает все ее земные грехи…
Крещение было обставлено настолько торжественно, что могло запомниться на всю жизнь…
У меня же было такое чувство, как будто я похоронил тетю Аню. Я бросился в кусты и побежал домой.
А вечером у нас в доме разыгрался скандал. Отец напустился на меня за то, что я ушел с крещения и не был на молитвенном собрании. Я заявил, что вообще не буду молиться.
Ах ты, бесово отродье! — заорал отец и ударил меня по щеке.
Господь тебя еще не так покарает! — закричала мать.
Нет никакого бога! — в бешенстве закричал и я.
Отец ринулся ко мне, я выскочил на улицу, во
тьму.
Чтоб ноги твоей здесь не было! Нет для тебя здесь дома! — и отец захлопнул дверь, лязгнул крючком.
Я спрятался в конопле за огородом. Меня всего так и трясло. Когда я отдышался и немного успокоился, я решил немедленно бежать к тете Тасе в Барнаул. Тем более, что туда уже уехали Ванюшка и Сашка Тарасов. Они будут учиться в речном училище. Я тоже смогу там жить и учиться — ведь мне дед оставил для этого деньги, да и я добавлял к ним свои летние заработки.
И тут я поблагодарил судьбу за то, что деньги были спрятаны не в доме, а в евменовском сарае.
Я прокрался в сарай, вытащил из–за балки деньги, завязанные в тряпицу, и побежал на пристань.
Пароход причалил в полночь. Я вошел на пустую палубу и остановился у поручней.
Никто в этот поздний час не садился, никто не сходил. Сияла полная луна, но было почему–то темно, и в этой темноте тонул поселок. И где–то там возвышался ненавистный мне дом с закрытыми ставнями.
Наконец отдали швартовы, пароход дал гудок и отделился от дебаркадера. Я облегченно вздохнул…
(support [a t] reallib.org)