"Любовь и Ненависть" - читать интересную книгу автора (Эндор Гай)
Глава 1 ПЕРВОЕ ПИСЬМО
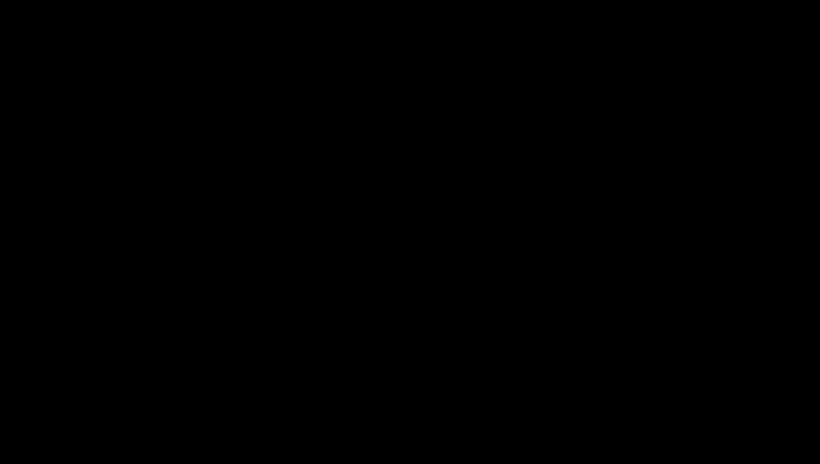 |
Вольтер! Вольтер! Как славно звенело это имя весь восемнадцатый век![1] Оно так очаровывало Жан-Жака Руссо[2], для которого имя Вольтера еще в молодости звучало по-особенному, словно клич неуловимого орла! Клич далекий, величественный, таинственный и мощный. Клич гигантской птицы, парящей над облаками с широко раскинутыми крыльями и уносящейся к самому солнцу. Разве мог он подумать, что в один прекрасный день ему, никому не известному человеку, Жан-Жаку Руссо, посчастливится стоять рядом с самим Вольтером!
Только от одной этой мысли у Руссо кружилась голова. Нет, это просто невозможно. Подумать страшно. Он так беден, а Вольтер так богат. Он, по сути дела, ничего не знает, а знания, которыми обладает Вольтер, таковы, что изумляют всех людей его времени. У него ум с ленцой, а стремительное, брызжущее остроумие Вольтера уже вошло в легенду.
Хуже всего, что он, Жан-Жак Руссо, был ленивцем. А Вольтер трудился не покладая рук, трудился и днем и ночью. Его излюбленный афоризм повторяли многие: «Как прекрасно отдыхать, если бы только отдых не наводил такую ужасную скуку».
Но, несмотря на все эти различия, которые были не в пользу Жан-Жака, он не терял уверенности в том, что когда-нибудь станет вровень с Вольтером. В один прекрасный день они наверняка встретятся, будут стоять лицом друг к другу.
Несмотря на бедность, Жан-Жак умел выкраивать деньги на покупку книг. Иногда, преодолевая природную лень, он подавлял желание поспать или помечтать, а при необходимости мог просидеть всю ночь напролет за работой. И хотя его память оставляла желать лучшего, он все же должен был овладеть солидными, фундаментальными знаниями ценой бесконечных повторений того или иного предмета. Несмотря на свою бесталанность, в чем он вынужден был себе признаться, благодаря силе воли он должен был выжимать из себя нечто удивительное, блистательное, что могло бы заставить людей обратить на него внимание.
Руссо! Руссо! Да, его имя тоже зазвенит в один прекрасный день, он в этом уверен! Он достигнет всего любой ценой, несмотря на жертвы, которые придется принести, — он должен добиться славы, должен добиться своего!
Ах этот Вольтер!
Как часто, как по-разному он рисовал в своем воображении тот момент, когда станет достойным этого великого человека и сам Вольтер раскроет перед ним свои объятия. Ноги у Руссо подкосятся. Ничего не видя перед собой из-за ручья жарких слез, он падет на колени у ног Вольтера и, рыдая от счастья, воскликнет: «Учитель!»
Но этот почитаемый всеми человек слишком благороден, слишком велик, он не потерпит такого восхваления себя и такого унижения другого. Он нежно поднимет Жан-Жака, поставит на ноги, обнимет и представит компании знаменитых парижан, и у всех глаза будут на мокром месте.
— Месье, — скажет Вольтер, — позвольте мне представить вам своего коллегу, многодостойного гражданина Женевы, замечательным литературным трудам которого вы не раз рукоплескали.
Давая возможность разыграться своему воображению, Жан-Жак предполагал, что Вольтер может сказать при такой встрече: «Его прекрасные философские изыскания будут оказывать влияние на человечество многие столетия». Или: «Его поразительные математические выкладки изменили все наше представление о мироздании».
Его грезы менялись, но главное всегда оставалось неизменным: момент триумфальной встречи с Вольтером — тот непременно заключает своего плачущего собрата в объятия.
Это будет незабываемый момент, думал Жан-Жак, напрягая воображение, он отлично знал, что шансы на такую встречу уменьшаются с каждым днем. Пока он строит воздушные замки, Вольтер благодаря поразительной усидчивости готовит свой следующий триумф.
Такой успех, как у Вольтера, еще никогда никому не сопутствовал. Его воспевали ученые-иезуиты[3], он учился с детьми принцев и герцогов — представителей «голубой» крови Франции. Остроумием, поэзией Вольтера восхищались, когда ему было всего десять. Его талант и образованность были признаны всеми, когда ему не было и двадцати. Он снискал всемирную славу в тридцатилетием возрасте. К тому же Вольтер отличался таким разнообразием талантов, какого давно, многие века, не было дано никому. Он владел в совершенстве любым литературным жанром[4], писал прозу и стихи, комические и трагические, сочинял для сцены, был автором исторических произведений. Он достиг высот в философии и в других науках.
В день премьеры «Меропы» в театре впервые раздались крики: «Автора! Автора!» Это впоследствии станет сценической традицией и захлестнет весь мир, заставляя бледнеть актеров и актрис перед поразительной личностью драматурга.
В довершение всего Вольтер удивлял своей плодовитостью в различных областях литературного творчества. Когда Вольтеру исполнилось тридцать три года (а Руссо едва шестнадцать и его еще не мучили грезы о том, как стать в один ряд с мастером), издатели уже печатали собрания его сочинений. Количество томов постоянно росло и через несколько лет достигло сотни…
Мог ли Руссо мечтать о таком бодром старте? Особенно если вспомнить, как скупо его одарила природа. По правде говоря, у него вообще не было никакого таланта. Только одни эмоции. Но они были такими сильными, что поглотили его целиком. Порой он признавал, что эти страсти могут привести его к гибели.
«Я — шпага, изнашивающая ножны, — напишет он позже. — И всю мою жизнь можно определить этой фразой».
В качестве иллюстрации можно привести один инцидент. Жан-Жак был уже давно знаком с мадам де Варенс[5], но еще не получал приглашения разделить с ней ложе…
Жан-Жак обычно управлялся с двумя блюдами, пока она заканчивала с одним. Мадам ела так медленно, что ему приходилось снова и снова приниматься за еду, а это угрожало его здоровью. По правде говоря, он сильно сопротивлялся этому: сколько лет он голодал!
Однажды Жан-Жак наблюдал за тем, как мадам, медленно отрезав кусок мяса, неторопливо поднесла его ко рту. Губы неохотно раскрылись, зубы сняли кусок с вилки и принялись лениво его пережевывать. В движениях ее губ, рта Жан-Жак видел безграничное сладострастие. Ее медленно ходившие челюсти свидетельствовали об отсутствии аппетита, что так контрастировало с ее пухленькими формами, особенно с пышной грудью. Его охватило непреодолимое желание, и Жан-Жак придумал, будто видит в еде волосок.
— Погодите! Погодите! — закричал он. — У вас волосок…
Она тут же вытащила изо рта недожеванный кусок мяса, положила его на тарелку, Жан-Жак стремительно, не давая ей опомниться, схватил его с тарелки и жадно проглотил.
Она смотрела на него в изумлении. Казалось, все тепло из ее обширной груди бросилось в лицо. У нее раскраснелись щеки. Мадам осуждающе покачала головой. «Миленький… мой маленький…» — зашептала она с упреком. У нее не было детей, она, так сказать, усыновила Жан-Жака без предварительного обсуждения этого вопроса с ним. Они никогда не говорили об этом. Она называла его «мой маленький», а он обращался к ней «мама».
Опасаясь упустить прилив любви, Жан-Жак первым нарушил тишину. Он плакал. Он просил у нее прощения. Он упал перед ней на колени, обнял за ноги. Он не смел объясниться перед ней. Он не мог признаться в страсти, которая бушевала внутри его как пожар. Он боялся признаться в том, что, найдя полотенце, которым она вытиралась, или вещицу из ее нижнего белья, он испытывал чудовищные муки, покрывал эти предметы тысячами горячих поцелуев. Он обожал место, на котором она стояла, искренне испытывал радость от того, что она рядом. Он был готов броситься перед ней на колени, словно перед рассерженной античной королевой, которой захотелось потоптать его своими каблучками.
Такие всепоглощающие, бьющие через край эмоции объясняют всего Руссо. Ему была присуща такая сила эмоций, такая страстность, которые не поддавались определению. Они сковывали его язык. Даже на закате жизни он испытывал это состояние и никогда не мог точно объяснить, что с ним происходит. Возможно, поэтому его никто не понимал до конца.
Особенно давала знать о себе его страсть к Вольтеру. Примером непреодолимого дрейфа в этом направлении служит инцидент, произошедший с Жан-Жаком и гражданином Женевы Багере, авантюристом, который когда-то работал у русского царя Петра[6]. Судьба занесла его в Шамбери; познакомившись с мадам де Варенс, он попытался вовлечь ее в какие-то спекулятивные махинации.
Однажды после обеда этот Багере предложил Жан-Жаку сыграть в шахматы.
— Шахматы? — пробормотал Руссо. Он стыдился признаться этому много повидавшему человеку в том, что не умеет играть в столь известную и распространенную игру.
— Вы хотите сказать, что не умеете играть в шахматы? — улыбаясь, спросил Багере.
— Да, конечно, — заикаясь, начал объяснять Жан-Жак. — Скорее, нет. Просто я никогда и не пробовал.
— По-моему, вы вполне сообразительный мальчишка. Давайте. Принесите доску, а я дам вам первый урок.
Боже, какой стыд! Не уметь играть в шахматы! Наверняка Вольтер играет. Несомненно, он сообразителен во всем, за что берется. А вот он, Жан-Жак, не соображает ничего в игре, позволяющей отдохнуть и расслабиться всем интеллигентным и культурным людям.
В доме мадам де Варенс шахмат не было. Багере повел юношу в кофейню. Сначала Жан-Жака сбивали с толку фигуры и ходы. Особенно когда он пытался создать видимость, что уже кое-что знает. Но уже через полчаса сообразительный юноша уловил суть игры. Туман перед глазами рассеялся, и он довольно быстро постиг азы этого искусства. Через час Руссо удалось выиграть у Багере, уступившему ему ладью.
— Ну, теперь я пожертвую вам ладью! — воскликнул Жан-Жак.
Багере только улыбнулся:
— Какой же вы задиристый молодой человек! Неужели вы не поняли, что меня больше интересовало научить вас играть в шахматы, а не выиграть у вас партию?
— Вы проиграли! — воскликнул Руссо. — Как видите, я могу у вас выиграть!
— Отлично, — сказал Багере. — Если хотите, пожалуйста. Можете пожертвовать мне ладью.
Само собой, новый приятель Жан-Жака выиграл через несколько ходов.
Пришла очередь радоваться Багере, он понял, в какую переделку попал его соперник.
— Не забывайте, юноша, я играл с чемпионами, — сказал Багере. — Я играл с учениками месье де Легаль, звезды Регентского кафе в Париже. Как это вы могли возомнить, что победите меня после первого же урока?
В воображении Жан-Жака открылся новый мир. Шахматы! Чемпионы путешествовали по всей Европе, бросая вызов самым лучшим игрокам. Их всегда и везде радушно встречали, к ним относились с большим уважением.
Почему бы и ему, Жан-Жаку, не стать победителем? Почему нет?
Он уже видел себя в роли чемпиона Европы, видел, как ему сдаются все «звезды» шахматного искусства. Он мечтал о том, как его станут приглашать в знатные дома. Он продемонстрирует, на что способен, перед высшим обществом: аристократами и лицами королевской крови. И после этого, завоевав широкое признание, он приступит к сочинению эпических произведений, драм, он будет изобретать разные машины.
Но Вольтер! Ах, каков все же этот Вольтер! Вот он-то по-настоящему вызывает уважение. Всеобщее восхищение. Однажды, обращаясь к своим друзьям, он представит его: «Месье! Позвольте мне познакомить вас с величайшим мастером шахматной доски Жан-Жаком Руссо из Женевы!»
На следующий же день Жан-Жак обзавелся шахматной доской и фигурками. Мадам де Варенс, которая постоянно находилась в стесненных финансовых обстоятельствах, всегда удавалось наскрести немного на нужды Жан-Жака. Она не могла противиться той страсти, которая охватывала его, когда он открывал для себя что-то новое.
Молодой человек приобрел «Книгу Калабриана», учебник по шахматам, написанный знаменитым греком. Ему не было равных до появления учебника французского композитора Франсуа Филидора[7], который почти четверть века спустя стал сильнейшим шахматистом Европы.
Жан-Жак уединялся в своей комнате, как только мадам де Варенс освобождала его от работы, связанной с приготовлением медикаментов и эликсиров, необходимых для ее здоровья. Он покидал ее, но не для того, чтобы отдыхать или пребывать в праздности. Он занимался изучением шахмат: штудировал начальные ходы и варианты защиты. Классические комбинации он старался как можно сильнее прочувствовать, чтобы они стали неотъемлемой его частью.
Он сидел над разбором комбинаций до рассвета, покуда сон не овладевал им окончательно.
Однажды он вышел из своей комнаты похудевший, побледневший от недосыпания. Ему казалось, что наконец-то он овладел искусством шахматной игры. Теперь Жан-Жак мог пожертвовать Багере не только ладью, но даже королеву!
Так он считал. Жан-Жак уселся напротив Багере за столиком в кафе и, глядя в его насмешливые глаза, объявил сопернику, что жертвует королеву.
Любители шахмат начали собираться вокруг играющих, с интересом наблюдая за странным соревнованием между новичком и мастером. Все были настроены скептически к Жан-Жаку, и он ощущал это. От этих людей, как ему казалось, шел холодок, который мог в любую минуту обернуться презрительным смешком.
Ладно, он им еще покажет! Он даже откажется от жребия и от белых фигур.
Багере, как обычно, начал игру. Только после третьего хода стало выясняться, в каком направлении развивается партия. Если Багере передвинет своего офицера на четвертое поле[8], то у Жан-Жака не останется иного выхода, как…
Минуточку! Что же он в таком случае предпримет?
Жан-Жак почувствовал туман в голове, но сразу взял себя в руки и теперь точно знал, что ему делать.
Ну а если Багере поставит офицера на третье поле? Или вместо него двинет вперед пешку? Что тогда?
Он старался контролировать себя. Жан-Жак страшно удивился, когда увидел, что Багере сыграл королем. Он начал понимать, насколько расплывчатыми и зыбкими были его знания.
Ему придется сыграть пешкой… Нет, лучше конем.
Жан-Жак стал колебаться, слушая советы любителей, собравшихся вокруг столика.
Стараясь скрыть свое смущение, он сделал быстрый ход. Ему почудилось, что за его спиной кто-то хихикнул. И это доконало его. Ему казалось, что мозги стали плавиться. Все ходы и контрходы слились для него воедино. Он был не способен думать.
Багере сделал очередной ход. Жан-Жак, казалось, был абсолютно уверен в себе. Он все еще нагловато улыбался. Не отдавая себе отчета в том, что делает, чувствуя неизбежное фиаско и желая, чтобы все поскорее завершилось, Жан-Жак переставлял фигуры наобум. Услышав за спиной очередные советы собравшихся, он вдруг рассерженно закричал:
— Тишина!
Но тут же пожалел об этом. Он понял, что эта ярость — мальчишеская уловка, стремление переложить вину за свое поражение на кого-то другого. Ему стало стыдно за такой очевидный и неуклюжий маневр. Игра подходила к концу. Сделав еще один ход, Багере произнес: «Шах!» Жан-Жак увидел, что его король находится в безвыходном положении.
Пристыженный, в отчаянии, он резким жестом отодвинул от себя доску, да так, что фигурки посыпались на пол. Вскочив со стула, он кинулся прочь из кафе. Смех зрителей летел за ним по пятам. Пробежав по улицам, Жан-Жак бросился дальше — куда глаза глядят. Он не понимал, что делает, но ему было на все наплевать. Он хотел только одного — убежать, спрятаться подальше, спрятаться навсегда от других.
Вольтер! Вольтер!
Мечты так и останутся мечтами. Вольтер и впредь будет для него недосягаемым. Жан-Жак упал на землю в полном изнеможении. Его охватил приступ рыданий, он закрыл руками рот, стараясь сдержаться. Жан-Жаку хотелось только одного — умереть, умереть как можно скорее.
Сколько ночей потрачено впустую! Он так и не сумел никому ничего доказать. Жан-Жак вновь услышал смех собравшихся в кафе любителей шахмат, он звенел в ушах, не давая покоя. По ударам своего сердца, по холодному, выступившему на лбу поту, по горению внутри он чувствовал, что ему осталось жить немного.
Но ведь он еще так молод, разве можно умирать в таком возрасте? У него полно сил, нельзя же беспомощно валяться на земле после первого поражения. У него есть красавица мама, его мадам де Варенс, у него есть любимые книги, учеба. И еще — учитель Вольтер!
К тому же оставались и шахматы. В конце концов он убедится, что узнал гораздо больше, чем предполагал.
Через несколько лет в Париже он будет прогуливаться со своим хорошим другом Дени Дидро[9]. Тот уже станет знаменитым писателем, а он, Руссо, все еще будет пребывать в неизвестности (и, судя по всему, это никогда не кончится!). Они частенько будут заглядывать в кофейню Могиса, чтобы немного выпить и сыграть партию в шахматы. Руссо всегда будет одерживать скорую и убедительную победу над Дидро.
— Ты постоянно выигрываешь, — станет жаловаться Дидро, — причем не даешь мне даже опомниться.
— Просто ты не вникаешь в суть игры. Купи «Книгу Калабриана». Выучи основные гамбиты[10] и защитные варианты. Ну, то, что я сделал сам.
— Я тоже учился! — воскликнет Дидро. — Но ты все равно ушел далеко вперед.
— Ты наверняка сможешь меня нагнать, стоит только попытаться.
— Ну а как насчет пожертвования мне фигуры? — предложит Дидро.
— Что такое? Неужели тебе так нравится выигрывать? В таком случае я готов пожертвовать тебе не только ладью, но и королеву, и ты у меня обязательно выиграешь. И не важно, заслуживает твоя игра выигрыша или нет.
— Ты меня неверно понял, — станет оправдываться Дидро. — Мне просто хочется знать, какое удовольствие получаешь ты от постоянной победы надо мной. Если ты сам себе создашь дополнительные трудности и при этом выиграешь — тем больше тебе чести.
— Если ты считаешь, что игра нечестна, — возразил Руссо, — то стоит ли вообще играть?
— Нет, я этого не говорил. Просто подумал, что тебе скучно постоянно у меня выигрывать.
— Нет, не скучно. Ну, если ты не против, то будем играть как прежде. Идет?
— Отлично, — согласится Дидро, мирясь с ролью постоянного неудачника.
Впоследствии, когда оба они добьются большой славы (причем Руссо затмит Дидро) и они расстанутся после крупной ссоры, Дидро напишет: «Какое неистребимое желание у Руссо чувствовать себя выше меня! Даже в таком пустяке, как игра в шахматы».
Дидро, судя по всему, так и не понял своего бывшего друга. Он никогда не понимал, как важна шахматная игра для Руссо. И почему ему так необходимо было выигрывать.
Причиной был Вольтер.
Чтобы понять до конца, как Вольтер превратился в навязчивую идею для Жан-Жака Руссо, нужно обратиться к его первому письму, отправленному Вольтеру. Сколько воображаемых писем составил он до появления настоящего предлога, чтобы взяться за перо и бумагу!
«Месье!
В течение пятнадцати лет я стремился стать достойным Вашего внимания, которое Вы уделяете обычно молодым людям, в которых обнаруживаете талант…»
Молодые люди? Увы, он ведь не так молод! Ему почти тридцать три, кажется, так. И у него куда больше оснований писать знаменитому композитору Жану Филиппу Рамо[11], чем Вольтеру. Ему как музыканту предложили просмотреть пьесу-буфф «Принцесса Наваррская», написанную Вольтером на музыку Рамо по случаю бракосочетания французского дофина с испанской инфантой. Ее премьера должна была состояться в Версальском дворце[12]. В оперу требовалось внести кое-какие изменения, на которые ни у Вольтера, ни у Рамо не было времени. Оба они уже работали над другой оперой-буфф «Храм славы», которая прославляла боевые победы Франции над Англией[13].
Короче говоря, это была музыкальная «халтура». Так, для нетребовательного зрителя. И Руссо это отлично понимал. В связи с этим он писал:
«…каким бы успехом ни увенчались мои слабые усилия, он тем не менее станет для меня славным подспорьем, если в результате мне будет оказана честь познакомиться с Вами, чтобы я мог выразить Вам лично свое восхищение и то глубокое уважение, которое я, месье, питаю к Вам как Ваш преданный и скромный слуга…»
Витиеватый стиль письма присущ переписке того времени. Жан-Жак на самом деле считал, что добьется своей цели, если его «слабые усилия» помогут ему познакомиться с Вольтером.
Особенно серьезной выглядит первая строка: «В течение пятнадцати лет я старался стать достойным Вашего внимания…» Никогда в жизни ни к одному писателю Руссо не обращался столь выспренне — только к Вольтеру. «Написано с болезненным тщанием» — так прокомментировал эти строки первый издатель письма. Да, на самом деле оно было написано с «болезненной аккуратностью». Для Вольтера это не имело никакого значения, но для Жан-Жака, жившего на чердаке, практически никому не известного литератора, вечно нуждавшегося в деньгах, это значило все на свете. Он был никем, и этот «никто» писал важной персоне.
Их встреча произошла в декабре 1745 года. Они встретились в Париже, — Вольтеру было пятьдесят один, а Руссо — тридцать три.
Имя Вольтера в то время было, как никогда прежде, у всех на устах, так как он только что завершил свою поэму, посвященную битве при Фонтенуа[14] — великой победе, одержанной французами над англичанами, и типографии не справлялись с постоянно растущим спросом на его книгу. Парижане гордились тем, что знали наизусть строки из этой поэмы в честь столь редкой для них победы над англичанами. Вольтер не только опередил остальных поэтов своим триумфальным произведением, но и сумел упомянуть отличившихся героев. Это понравилось всем, в том числе королю Франции[15], который присутствовал на поле брани.
В результате Вольтера назначили официальным историографом Франции, а потом и первым камер-юнкером[16], что принесло ему солидное жалованье, бесплатную квартиру в королевском дворце в Версале. Кроме того, благодаря неутомимой поддержке новой любовницы короля — Жанны Антуанетты де Помпадур[17] — имя Вольтера было внесено в список кандидатов на получение вакантного места во Французской академии. Правда, Вольтер так уж не нуждался во всех этих почестях. Да и в деньгах тоже. Он давно стал знаменитым, его книги переводили и издавали во всем цивилизованном мире. К тому же он и сам был неплохим, довольно хитроумным финансистом. В сделках ему всегда сопутствовал успех. Он стал одним из первых предпринимателей, понявших преимущества искусственного ажиотажа для получения прибыли. К тому же он получил целое состояние после смерти своего старшего брата. Став очень богатым человеком, Вольтер вложил свои деньги в ценные бумаги Парижской ратуши, в крупный банк — «Пари-Дюверни» и его торговую фирму. Он щедро давал в долг крупные суммы важным людям, среди которых был знаменитый герцог Ришелье[18], племянник «серого кардинала». В результате Вольтер стал одним из самых богатых людей во Франции.
Он не нуждался в комнате в Версале и очень редко ею пользовался. У него была прекрасная квартира в Париже. К тому же его любовница мадам дю Шатле[19] предоставила в его распоряжение свой родовой замок.
Ничего этого Руссо не знал. В это время он был безработным домашним секретарем. Кстати, Вольтер как-то с присущим ему сарказмом выразил свое отношение к людям этой профессии: «За хорошего повара нужно платить пятнадцать сотен в месяц. За такую сумму можно нанять целых трех секретарей». Но Руссо, писавший ему письмо на чердаке одного из домов на улице де Кардье, ничего об этом не знал. Ему, безусловно, было известно, что Вольтер в Париже нарасхват, что ему каждый день приходится обедать в трех или четырех знатных домах, что, перехватив кусочек там и здесь, окатив собравшихся потоком своего остроумия, он вскакивал в карету и, извинившись, уезжал — его ждали в другом месте. Руссо же, даже попав в модный салон, мог отобедать лишь за столом для слуг, так как к барскому его не приглашали.
Это всегда больно било по его самолюбию, и Руссо, разъяренный, убегал прочь, возвращался на свой чердак, там ему приходилось коротать вечер без ужина.
Удавалось ли Руссо видеть хотя бы издалека, мельком великого Вольтера? Несомненно, в сутолоке театрального фойе кто-нибудь восхищенно нашептывал ему на ухо: «Вон Вольтер. Видите? Ну вон тот, с острым лицом и длинным, крючковатым носом, с ногами, похожими на черенок курительной трубки».
Но на самом деле никто и не собирался указывать на Вольтера. Это было лишним. Кто же его не знает в лицо? Кто же его не заметит? Правда, он всегда появлялся в сопровождении друзей, был окружен поклонниками и просителями. Стоило лишь однажды увидеть Вольтера — и его невозможно было забыть или спутать с кем-то. Худющий, словно щепочка. У него был страшно искривлен позвоночник — возле правого плеча выделялся небольшой горбик, а левое, наоборот, чуть проваливалось. Это лишний раз подтверждало, что великий мыслитель всю свою жизнь просидел склонившись над книгами. Когда он шел — напоминал цаплю или какую-то другую водяную птицу. Из-за чрезмерной худобы и горбика Вольтер казался человеком среднего роста. Его похожий на клюв нос увеличивался по мере уменьшения количества зубов. Рот по той же причине все сильнее проваливался, на узком лице постоянно присутствовало какое-то ненасытное выражение: казалось, ничем на свете нельзя было насытить его всепоглощающего прожорливого любопытства. Но, повторим, больше всего поражала его худоба. Вольтер уже давно вывел жестокий закон своего существования: «Ma besogna in verita morir da fame per vevire» — «По сути дела, мне приходится умирать с голоду, чтобы продолжать жить». Эту фразу однажды он написал по-итальянски, на языке, который обожал и знал в совершенстве, хотя никогда не был в Италии, этой чудесной стране. Только так ему удавалось бороться с мучительными коликами, когда кишки его переплетались, словно змеи на голове Медузы[20].
Умирать с голоду, постоянно умирать с голоду — такую цену требовала от него жизнь за право на существование. И он с радостью шел на такой обмен. Его раздражало, что все на него глазеют. Однажды в Германии, выходя из экипажа перед гостиницей, он увидел толпу зевак, которые не спускали с него глаз. Сбросив с себя камзол, он закричал: «Отлично! Вам не терпится увидать ходячий скелет. Так вот он перед вами!»
Все в этом человеке, даже состояние здоровья, постоянно вызывало глубокий интерес. Кстати, Вольтер сам поддерживал его своими письмами к друзьям.
— Я родился мертвым, — любил повторять он. Вольтер рассказывал, что повитуха сочла его мертворожденным и отодвинула в сторону, как нечто ненужное.
Знаменитая фраза Вольтера: «Я прерываю свою предсмертную агонию» — у всех всегда вызывала улыбку. Она была ужасно забавной, так как ему на самом деле приходилось, с трудом преодолевая себя, подниматься со своего «смертного ложа», чтобы написать еще одно, последнее, письмо, еще одну, последнюю, поэму, пьесу, книгу…
Его многочисленные враги любили позлословить:
— Кто же наконец похоронит этого человека, ведь он давным-давно умер!
Но друзья любили его еще больше за постоянную готовность умереть в любой момент. В конце концов, разве это не судьба, выпавшая человеку?
— Если я долго прожил, — объяснял Вольтер, — то только потому, что родился инвалидом.
И миллионы людей, понимающие, как трудна и хрупка человеческая жизнь, благодарили его за умение посмеяться над общей трагедией и с радостью рукоплескали ему, когда он отзывался о себе как о человеке, который «одной ногой стоит в могиле, а второй брыкается».
Какая буря эмоций охватывала Жан-Жака при виде этого великого человека, как сладко волновалось его сердце! Какой соблазн — броситься перед ним на колени! Но это же глупость! Какая нужда Вольтеру поднимать его на ноги, чтобы представить своим друзьям? Кто он такой? Что он до сих пор сделал, чтобы заслужить хотя бы минутку его внимания?
Прежде нужно показать, на что он способен, и только тогда его коленопреклонение перед Вольтером приобретет смысл. К тому же не так просто упасть на колени перед человеком, который постоянно окружен толпой поклонников и искателей его благосклонности. Среди них — этот надоедливый, вызывающий раздражение Никола Тьерио, друг детства Вольтера. Его прозвали «громогласной трубой» — судя по всему, его единственным занятием в этой жизни было прославление великого мыслителя.
Много лет назад он был простым стряпчим в той юридической конторе, в которой работал, а скорее бездельничал Вольтер. Отец упрямо отказывал молодому Вольтеру в желании посвятить свою жизнь писательской карьере. Упрямый молодой человек имел такое влияние на своего приятеля Тьерио, что они оба расстались с юриспруденцией: один это сделал из-за желания писать, второй — чтобы прославлять что есть мочи сочинителя.
Тьерио был буквально привязан к Вольтеру, исполнял любые его поручения, работал его курьером. Когда Вольтер покидал Париж, его замещал Тьерио. Он ревниво следил за тем, чтобы во время отсутствия хозяина о нем не забывали в столице. Тьерио целыми днями шатался по парижским кварталам и то и дело в разных компаниях повторял последнюю изысканную остроту Вольтера. Он вынимал из кармана последнее письмо Вольтера, зачитывал что-нибудь вслух, сообщал о его литературных планах. Такая тактика открывала перед Тьерио все двери Парижа: он сидел за самыми обильными столами самых знатных домов, на светских раутах встречался с сильными мира сего. И если даже оперативная «Меркюр де Франс» публиковала свеженькое письмо Вольтера, сливки столичного общества уже знали его содержание от Тьерио. Он зачитывал эти письма размеренным гнусавым голосом, за что и получил кличку Нищенствующий Монах.
Таким был Тьерио, «альтер эго» Вольтера. Он частенько занимал деньги у великого француза, забывая вернуть долг. Он прикарманивал его гонорары, что вызывало со стороны Вольтера лишь недоумение. Он даже ухитрялся красть рукописи Вольтера и продавать их богачам, с нетерпением ждавшим появления его новых произведений. А Вольтер ничего не предпринимал против литературного вора. Тьерио жил интересами Вольтера, дышал его воздухом. Однако, когда у него возникали трения с властями, что бывало довольно часто, он напрочь забывал о своем покровителе. Он был способен и на предательство. Но Вольтер всегда прощал его.
Вокруг Вольтера крутилось немало скользких типов, к примеру Муссино, управляющий его делами с 1727 по 1741 год. В любую минуту он мог принудить Вольтера поставить подпись под каким-нибудь «важным» документом, вырвать у него согласие приобрести права на проценты от поставок алжирского хлеба или на выдачу кому-то денег.
Не лучше был и протеже Вольтера — Линан, Бекуляр д'Арно или Жан Франсуа Мармонтель (он все еще щеголял в фиолетовой сутане аббата, хотя и не носил парика). А атласные наряды и кружева, которые он вскоре надел по примеру Вольтера, заставили его навсегда распрощаться с карьерой священника.
Вольтера, само собой, окружали актрисы, стремившиеся получить роль в его новой пьесе. И даже привратники, старавшиеся всучить ему приглашение в ту или иную театральную ложу, на званый обед после спектакля.
Как жадно взирал Жан-Жак на эту обожаемую всеми фигуру! Вольтер излучал безукоризненную элегантность и изысканность — от завитков его прекрасного парика (самого дорогого по тем временам, сделанного из естественных серых конских волос) до его обтянутых ярко-красными чулками ног. Он был человеком редкого самообладания. Его добродушная улыбка, готовая в любой момент сорваться с губ тончайшая острота, его фонтанирующий талант и широкая эрудиция вызывали у многих зависть, граничившую с отчаянием.
Однажды его спросили, не чувствует ли он себя робким в присутствии сильных мира сего. Вольтер ответил: «Пока нет. Но у меня одна-единственная душа, и я непременно почувствую себя смущенным и косноязычным в присутствии человека, у которого таковых две».
Разве Руссо не поразила глубокая пропасть, разделявшая, и возможно навсегда, их двоих? Ну кто он такой? Без гроша в кармане, человек, который ведет отчаянную борьбу за свое место в обществе и который в данный момент живет с грубой, неотесанной женщиной по имени Тереза Левассер, прачкой и официанткой. Ей оставалось совсем немного до карьеры проститутки. Это невежественное существо так и не удосужилось научиться читать и писать, она не могла даже перечислить двенадцать месяцев года. И рядом, совсем рядом, он видел Вольтера, у которого в это время продолжался известный всем страстный любовный роман с богатой, блистательной красавицей и ученой женщиной — мадам дю Шатле. Вся Франция знала об этих двух философах — мужчине и женщине, — о том, как они превратили ее старинный замок в подобие физико-химической лаборатории и театра, о том, как прекрасно они там жили, посвящая свою повседневную жизнь научным экспериментам, учебе и чтению (маркиза была занята своим трудом о математике Ньютона[21], а Вольтер писал сочинение о нравственности и привычках человечества, которое, вероятно, станет его очередным шедевром). Вечера, как правило, они посвящали домашним спектаклям. Вольтер не только сам принимал в них участие, но и охотно писал новые пьесы.
Ну а кто такой Руссо по сравнению с ним? Никто. Ничто, вызывающее жалость.
И то письмо, которое он составлял, сидя у себя на чердаке, было, по сути дела, призывом, несущимся из темных глубин к светлым высотам. Как же его писать, если не с максимальной аккуратностью? Ведь сколько зависело от его успеха!
Как зло он кричал: «Потише!», когда его крошка Тереза стучала спицами для вязания. И это ограниченное, покорное создание притихало, словно испуганная мышь, даже не подозревая, что она тоже вовлечена в эту борьбу и что любимый ею человек готов пожертвовать как своей жизнью, так и ее, Терезы (что и произошло на самом деле!), словно речь шла о пожертвовании пешкой ради целой партии. Не зря же его первый издатель произнесет эту фразу: «Написано с болезненным тщанием».
Вольтер привык писать все в одном экземпляре, ничего не переписывая. Он писал, по собственному выражению, «currento calamo» — как Бог на душу положит, то есть так, как скатывалось с пера. Потом отдавал рукопись своим секретарям, которые снимали с нее копии и отправляли на почту, а один экземпляр обязательно оставляли в личном архиве Вольтера. Такая практика была не по вкусу Руссо. Это право Вольтера, если принять во внимание его легкий, искрометный талант к сочинительству, — он в любой момент мог прервать повествование и перейти на стихи. Он проделывал такое и когда был ребенком, и когда приближался к своему восьмидесятилетию. Как-то, отправляя герцогине Шуазель первую пару шелковых чулок со стрелками — изделие своего нового предприятия, — он приложил к нему письмо с дивными стихами, которые начинались так: «Мадам, я падаю у Ваших ног, чтобы узреть на Вас дизайн прекрасных стрелок…»
Особенно Руссо огорчал тот факт, что он никак не мог достичь совершенства во французском. Вольтер родился и вырос в Париже и говорил на чистейшем французском, говорил с такой предельной ясностью и точностью оттенков, что слушать его было наслаждением. А в речи Руссо все еще сохранились эти упрямо не желавшие его покидать женевские словечки и выражения. Совсем недавно ему удалось издать небольшой памфлет (к несчастью, его тираж так и не был отпечатан до конца), и тут же рецензент, причем один-единственный, набросился на автора за его «варварский французский язык». Все это и многое другое ему приходилось постоянно удерживать в голове, что, несомненно, и привело к тем первым трагическим строчкам письма Руссо к Вольтеру: «Месье, вот уже целых пятнадцать лет я, стараясь сделать себя достойным Вашего внимания…» Разве не чувствуется в них внутренняя боль? Крик о помощи?
Вольтер! Вольтер! Это длилось пятнадцать долгих лет…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |