"Фотокамера" - читать интересную книгу автора (Грасс Гюнтер)
Моментальные снимки
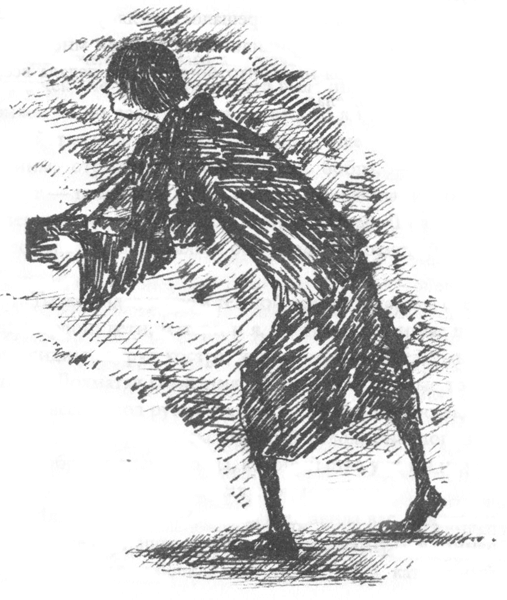 |
Настал черед самой младшей. «Наконец-то», — говорит Лена Нане, поспешно пригласившей братьев и сестер в свою небольшую комнату в квартире, которую она делит с друзьями и которая находится в гамбургском районе Сан-Паули; после долгого молчания, когда она исполняла роль слушательницы, очередь дошла и до Наны. Стулья взяты взаймы, а заодно бокалы и тарелки.
Приехали все, поэтому гостям тесновато за столом, где выставлены вегетарианские кушанья: пюре из зеленого горошка на растительном масле, приправленная разными травами баклажанная икра, рис в виноградных листьях, эндивины, которые надлежит макать в пюре или икру, турецкие лепешки. К сему подан натуральный яблочный сок. Между банок со свежесрезанными цветами примостились микрофоны, которые отец навязал Жоржу.
На улице моросит дождик, подтверждая общее мнение, что лето выдалось сырым, если не сказать беспросветно дождливым. Сначала Нана уклоняется от прямого разговора и не хочет, как советует Лена, «просто выложить все начистоту». Потом она начинает что-то бубнить скороговоркой, поэтому Таддель — или Жорж? — ее останавливает, предлагая «сбавить обороты». Она рассказывает об удачно принятых родах, попутно жалуется на постоянный стресс, ибо в ее клинике, как и в других, не хватает медицинского персонала, то есть говорит она о своих акушерских буднях и лишь вскользь упоминает короткий отпуск, проведенный в Антверпене: «Ах, до чего же там было хорошо вдвоем».
Проявляя заботу о сестричке — и не давая встрять Пату и Жоржу или Ясперу, готовому вновь пуститься в долгие сетования по поводу трудностей нынешнего кинопроизводства, — Лара, которую все слушаются, замечает: «По-моему, твой фламандский друг действует на тебя благоприятно, ты прямо расцвела. Сразу видно. И более откровенной стала. Ну, начинай!» — и, о чудо, Нана откашливается и…
Как вам известно, мне в принципе больше нравится слушать. Ведь о том, что вам довелось пережить или перестрадать, я ничего не знала. Да и Лена даже не догадывалась о существовании маленькой Наны, пока папа — ей было уже лет двенадцать или тринадцать, а мне исполнилось семь или восемь — не рассказал ей, потому что, видимо, больше не мог хранить свою тайну: «А ведь у тебя есть сестричка, такая миленькая», — или что-то в этом роде. Стало быть, росла я единственным ребенком, хотя и знала, что у меня есть еще много братьев и сестер, которые, когда мы порой встречались, относились ко мне очень хорошо. Правда! Но потом Пат и Жорж уехали на учебу, Лара занялась гончарным ремеслом, что мне очень нравилось, так как я тоже люблю что-нибудь делать своими руками… А Тадделю, которого я почти не знала, разрешили жить в деревне, где кроме него были еще Яспер и Паульхен, которые хоть и не являлись мне родными братьями, но в принципе — как говорил папа — различий тут нет, и все вы были одной семьей. Только, к сожалению, без меня. Чаще всего я оставалась одна, но втайне желала, чтобы мы стали настоящей семьей, такой уютной! Особенно сильно мне хотелось этого, когда папа навещал нас; он всегда разговаривал с мамой исключительно о книгах, об их издании, о забытых или запрещенных книгах, поэтому я в конце концов останавливала их разговор: «А обо мне забыли!» Но часто мы втроем — и это бывало чудесно — выходили куда-нибудь, например в кафе-мороженое или купить мне какие-либо вещи, которые мне-то были вовсе не нужны, потому что я никогда не хотела себе ни платьев, ни игрушек, ни даже куклу Барби, а всегда мечтала о другом, чего нельзя купить. Когда я подросла и пошла в школу, мне даже нравилось, что у меня такие старые родители и у них всегда есть о чем поговорить, а не совеем молодые люди, как у моих одноклассников. При этом, в принципе, папа и мама вечно рассказывали друг другу одни и те же истории, будто были знакомы целую вечность. Речь шла обычно о тех, кто тоже делает книги сейчас или делал их раньше, или хотя бы пишет про чужие книги. Помнится, однажды мы поехали втроем — за рулем сидела мама — в Восточный Берлин, где она забрала какую-то запрещенную рукопись, обещавшую большой успех, если книгу издадут на Западе. Все это будоражило, потому что сразу после пограничного контроля нас стала преследовать другая машина, на обратном пути — тоже. «Это — секретный агент, — объяснил папа. — Ему контора за слежку платит». Но обычно все бывало вполне безобидно, мы ходили на уличные праздники с увеселительными аттракционами. Самым большим народным гуляньем стал праздник германо-французской дружбы. Он состоялся в Тегеле, где я снова и снова каталась с папой на огромной цепочной карусели. Ах, до чего же здорово! Мы никак не могли накататься. Опять и опять мы взлетали вверх, кружились, летели. Вы же знаете, папа всегда обожал цепочную карусель. А мама трусила, ни за что не соглашалась прокатиться с нами. «Вы меня туда не заманите! — говорила она. — Ни за какие коврижки!» Тогда же я познакомилась с вашей Старой Марихен, которую папа привел на народное гулянье и к которой я — как и ты, Лена, — поначалу отнеслась с опаской, потому что она оставалась в сторонке, наблюдая за нами, и никак хотела прокатиться на цепочной карусели: «Даже за миллион не соглашусь!» Зато тайком она несколько раз щелкнула нас с папой своей фотокамерой, про которую позднее моя старшая сестра — правда, Лена? — наговорила мне всяческих чудес и даже ужасов. Моментальные снимки: мы кружимся под небесами и оба по-настоящему счастливы. Папа летит то позади меня, то надо мной, то впереди, а то рядышком, сиденье к сиденью, так что мы можем взяться за руки. Мы даже вертимся вокруг друг друга, сначала вправо, потом влево, и я ни чуточки не боялась, правда, потому что папа рядом, только со мной. Ах, до чего же я была счастлива! А позднее, когда он вновь приехал нас навестить и показал нам те моментальные снимки, мы с мамой удивились и не могли поверить собственным глазам; на всех снимках мама летела вместе с нами на цепочной карусели, ее каким-то чудом присоединили к нам, как я всегда об этом мечтала: мы — втроем, настоящая семья. Он позади, она впереди и я посредине, а потом наоборот. Ах, как здорово! Как-то очень уютно, потому что все вместе, рядышком. Могли держаться за руки. Однако мама, которая на всех снимках смеялась и иногда даже взвизгивала от радости или немножко от страха, вдруг сделалась серьезной и строгой. Заговорила об «оптическом обмане» и «искусном искажении реальности». Потом рассмеялась: «Вот что бывает, когда слишком много крутишься на карусели и не можешь остановиться…» Но о сестричке, которая на несколько лет старше меня и которую зовут Лена, ваша Старая Марихен почему-то не обмолвилась мне ни словечком. А мама ограничивалась смутными намеками. Зато позже, много позже, когда Старой Марихен уже не было на свете, а мне исполнилось четырнадцать или пятнадцать и мы близко познакомились с Леной, даже по-настоящему — ведь правда? — подружились, папа впервые повел меня в Тиргартен, где мы целый час катались по озеру на лодке. Папа дал мне грести, а сам рассказывал — если я правильно помню — о гугенотах, о Варфоломеевской ночи, когда пролилось море крови, и о других ужасных вещах. Потом мы переехали с ним в Восточный Берлин, что после падения Стены сделалось просто, и пошли в Трептовский парк; по папиному выражению, «в поисках мотивов». Ах, до чего было весело! Вы бы посмотрели, как на площадке аттракционов мы три раза подряд прокатились на «русских горках» — не только потому, что папа любит их не меньше цепочной карусели, но и потому, что ему нужен был этот мотив для еще далеко не законченной книги, где главный герой, старик по прозвищу Фонти, катался со своей восемнадцатилетней внучкой на «русских горках», на лодке и еще на чем-то. Поэтому мы и пошли в Трептовский парк, где папа купил билеты сразу на несколько поездок подряд. «Русские горки» были старенькими. Может, остались еще со времен ГДР? На поворотах все стонало и скрипело — вот-вот развалится. Но Старой Марихен уже не было на свете, а то, в принципе, она могла бы оказаться с нами, если бы таким необъяснимым образом не… Сами знаете, что я имею в виду… Папа тогда вздохнул: «Интересно, что увидела бы наша Марихен со своей бокс-камерой?..» Хотел, наверное, сказать, что если втайне чего-нибудь сильно пожелать, то мечта иногда исполняется, как это было на огромной цепочной карусели, когда мама, я и папа летели под небесами…
Известное дело! Старик не только тебя, но и Паульхена, Лену и меня непременно хотел покатать на «русских горках», когда все мы — не было только Тадделя — проводили каникулы на Мёне и в развлекательной программе значился выезд в Копенгаген. Он хотел нас повеселить, о'кей. Он водил нас с Ромашкой в «Тиволи», где толпился народ и было множество забавных аттракционов. Однако никто из нас не пошел на «русские горки».
Он один пошел.
Похоже, мы его разочаровали.
Я и говорю: он непременно решил прокатиться на сверхмодерновых «русских горках» с сумасшедшими виражами, крутыми спусками — выглядело это довольно опасно. На гигантское колесо или еще что-нибудь поспокойнее я бы еще согласился. Даже на цепочную карусель, куда он затащил Ромашку, но на «русские горки» никто из нас не пошел, даже Паульхен, хотя обычно готов угодить Старику. Но потом я все-таки поддался, и он совершил с нами поездку по «русским горкам», после чего я сразу кинулся в кусты, чтобы отблеваться. Хорошо еще, не было Марии с ее фотокамерой. А то не знаю, что она там бы нащелкала, пока я блевал.
Все-таки жаль, что Мария не поехала с нами в «Тиволи»; ей пришлось остаться дома, чтобы присматривать за нашей собакой, которая вообще-то считалась моей.
Зато всякий раз, когда по соседству с деревней на верфи спускали на воду новое судно, Старая Мария оказывалась на дамбе, чтобы стоя или вприсядку поймать объективом момент спуска.
Обычно ее сопровождала наша собака Паула, которую она угощала яичным желтком, хотя Ромашке это не нравилось.
Мне довелось носить ее сумку с пленками. «Ты — мой ассистент, Паульхен», — говорила она.
Верфь спускала у нас на воду моторные суда каботажного плавания.
По каждому такому случаю устраивался праздник. Собиралось много народу. Сходились жители Вевельсфлета, но приезжали и политики. Ясное дело, на трибуне всегда стоял бургомистр по фамилии Заксе. Произносились речи. Даже под дождем. Дама в шляпке, как водится при крещении судна, разбивала о борт бутылку шампанского. У деревенских трубачей и барабанщиков хватало работы. Но ими Марихен не интересовалась. Она следила только за судном, которое сначала медленно, потом все быстрее съезжало в Штёр, вздымая волну, а затем успокаивалось неподалеку от другого берега, где рос густой камыш. Марихен снимала навскидку, прямо от живота, из полуприседа, под дождем или палящим солнцем, отщелкивала две-три пленки. Объектив глядел только на судно. Я помогал при перезарядке. Она называла это «моментальными снимками». После чего она скрывалась в темной комнате, оборудованной в доме за дамбой.
Мы его так и называли — «дом за дамбой».
Папа купил его, когда после толстого романа выпустил книжку потоньше. Обычно каждая новая книга издавалась большим тиражом и хорошо расходилась.
Даже не знаю, мы все не знаем, как он ухитрялся выдавать один бестселлер за другим независимо от разносов, которые учиняли газетные критики.
«Деньги важны для вашего отца лишь затем, — говорила Марихен, — чтобы сохранять независимость. Для себя ему нужно совсем немного: табак, чечевица, бумага да время от времени новые штаны…»
Купив дом за дамбой, он сказал мне: «Иначе его приобрела бы верфь, снесла бы и поставила на это место бетонный склад под крышей из гофрированной стали».
О такой возможности он прослышал от бургомистра Заксе, обеспокоенного, что будет испорчен красивый пейзаж.
Папе пришлось действовать быстро и назначить более высокую цену, чем верфь. «Такой дом нужно обязательно сохранить, — говорил он. — Ведь ему не меньше двух веков. Жалко его потерять».
Но, возможно, он купил дом за дамбой потому, что дом приходского смотрителя стал для него чересчур шумным. Слишком много суеты, беготни по лестницам вверх-вниз. Постоянно множество друзей, приезды-отъезды. Уверен, Старик именно поэтому устроил свою мастерскую в доме за дамбой, поставил там конторку, ящик с глиной, скульптурные станки, перевез туда свои бумаги.
Утром уходил работать, возвращался выпить кофе, снова исчезал.
Да еще обзавелся крысой в клетке.
Хотел остаться наедине с самим собой и со своей крысой.
Даже Ромашка редко заглядывала к нему.
Неправда. Крыса появилась позже, гораздо позже.
Но побыть одному ему хотелось всегда и везде, еще в доме из клинкерного кирпича.
Он, наверно, давно хотел обзавестись крысой, чтобы наедине с ней…
И все-таки я часто наведывался в дом за дамбой, потому что наша Марихен оборудовала себе темную комнату в задней части этой старинной постройки, а Ромашка обставила ей там уютную квартирку. Иногда мне позволялось проникнуть в «святая святых», как Марихен называла темную комнату, только сначала полагалось хорошенько вымыть руки с мылом. Всегда было жутко интересно. Ведь я видел, что у нее получалось там — причем, честное слово, безо всяких трюков и фокусов — из пленок, которые она отщелкивала с дамбы своей бокс-камерой, когда спускалось на воду очередное моторное судно каботажного плавания… Пользовалась она самым обычным проявителем. Марихен присутствовала на каждом спуске со стапелей, а потом на ее снимках можно было увидеть, куда отправляются построенные и спущенные на воду суда — в Роттердам или вокруг Ютландии, причем даже в самую штормовую погоду. Про одно судно — не помню названия — бокс-камера «Агфа» предсказала, что оно перевернется и затонет у острова Готланд. На восьми снимках, если не больше, было отчетливо видно, как высокая волна сдвигает на палубе контейнеры, тащит их до тех пор, пока не происходит сильный крен, два контейнера падают за борт, судно переворачивается, некоторое время еще держится на плаву килем вверх, затем проваливается в глубину, и на поверхности остается лишь всякая рухлядь, бочки и прочее… Не верите?
Все было четко видно: жуткая катастрофа. О ней написала позднее вильстерская газета. Ромашка прочитала нам эту заметку о том, что «Агфа» знала заранее, уже при спуске судна на воду, а я увидел в темной комнате на дюжине снимков. Двое моряков даже погибли, их тела прибило к шведскому берегу. «Боже мой! Боже мой!» — причитала Марихен, когда, проявляя снимки, поняла, что должно произойти с этим судном. «Только в деревне никому не рассказывай, — шепнула она, — а то деревенские сделают из меня ведьму. Еще совсем недавно люди на костре жгли таких, как я. Поводов находилось достаточно. Всегда. Тут никакие молитвы не помогут. Подобные дела быстро делаются». Чуть помолчав, она добавила: «С тех пор мало что изменилось».
То же самое она говорила мне всякий раз, когда щелкала для папы, по ее выражению, «исторические снимки»: «Мало что изменилось с тех пор, разве что мода».
По папиной просьбе она отщелкала целую серию снимков в гостиной дома приходского смотрителя, где не было ни души, отчего ярко выделялся желто-зеленый кафель на полу; но потом, когда она развесила у себя на кухне мокрые отпечатки, только что принесенные из темной комнаты, оказалось — верно, Паульхен? — что посреди гостиной за длинным столом уселась дюжина бородатых стариканов в причудливых костюмах.
У всех в зубах длинные глиняные трубки.
А в конце стола восседает наш папа, на нем завитой парик, накрахмаленная рубаха топорщится.
Интересно, как она ухитрялась создавать подобные виртуальные сцены без современной спецтехники, с одной только бокс-камерой?..
Именно так, Яспер, только с примитивной бокс-камерой «Агфа»! Наша Мария сняла еще у церкви целую серию надгробий с витиеватыми надписями, после чего на отпечатанных фотографиях папа Тадделя уже вышагивал за гробом, одетый в черную пасторскую сутану с большим белым воротником. Помнишь? Следом Ромашка, выглядевшая скорбящей вдовой, и мы трое…
У нас черные штаны до колен и уморительные прически.
Вся сцена выглядела вовсе не страшной и была похожей на эпизод исторического костюмного кинофильма.
Но оставалось только гадать, кто же лежит в гробу.
Этого не знала даже фотокамера.
Может, крыса, которая подохла, когда он наконец дописал свою крысиную книгу.
Крыса еще долго лежала в морозильнике Старушенции.
В глубокой заморозке — на тот случай, если он решит разморозить крысу, чтобы с помощью фотокамеры…
Теперь вы сами выдумываете небылицы, вроде папы…
Но ведь так оно и было!
Я мог бы рассказать еще много невероятных историй, потому что почти всегда присутствовал при проявке снимков, среди которых попадались очень забавные. Она даже сделала историческую реконструкцию верфи; ведь если наш дом до сих пор зовется «Юнгов дом», то и верфь задолго до получения нынешнего названия «Петерс-верфт» именовалась по фамилии прежнего владельца, мастера-корабела Юнге. Юнгова верфь спустила на воду множество китобойных судов. С командой, набранной из жителей деревни, китобойное судно ходило под парусами до Гренландии и обратно. Одно из таких судов, возвратившееся с приливом по Штёру домой из дальнего плавания, каким-то образом попало в объектив нашей Марии, которая, стоя на дамбе, щелкнула его своей фотокамерой, а на проявленных снимках был хорошо виден ты, Таддель. Я давно хотел рассказать тебе об этом, правда. Ты снят юнгой, на голове матросская шапка с помпоном. Ну и страху ты, должно быть, натерпелся в открытом море, да еще при сильном шторме и качке. Вид у тебя был тот еще. Как у призрака. Поневоле посочувствуешь. А капитаном на китобойном судне — конечно, папа. Кто же еще?
Ну и что? Ничего удивительного. В раннем детстве в рассказах папы про агиткампанию мне почему-то чудилось слово «кит», и, когда он уезжал выступать на предвыборных собраниях, я считал, что папа отправляется на китобойный промысел с гарпуном в руке.
Странно только, что на другой серии исторических снимков папа запечатлен в образе мастера-корабела Юнге.
Вполне логично. Ведь в своих книгах он и впрямь выступает то главным действующим лицом, то второстепенным персонажем, то в одном костюме, то в другом, но неизменно речь все-таки идет о нем самом, будь у него главная роль или нет.
Поэтому один из снимков, который Марихен даже увеличила, хотя обычно не делала этого, и запечатлел его как мастера Юнге в большой кафельной гостиной дома приходского смотрителя. Перед ним — модель его знаменитого китобойного судна. Похожая на те Юнговы модели, что ныне выставлены в альтонском Музее судоходства. У него окладистая черная борода, на голове шапка с помпоном.
Во рту наверняка трубка.
Может быть. А мы втроем, ученики с верфи, стоим вокруг. За ним хорошо видны на стене изразцы, завезенные вроде бы из Голландии.
Бело-синие, из Делфта. Только на черно-белых снимках фотокамеры этого не понять. Ты, Паульхен, тогда еще не знал, что раньше с капитанами китобойных судов расплачивались делфтскими изразцами. А капитан, в свою очередь, платил изразцами за новое китобойное судно. Изразцы служили твердой валютой. Это я прочитал в книге про китобойный промысел. Так, вероятно, изразцы и попали в наш дом.
Они до сих пор висят приклеенными на стене.
На них — ветряные мельницы или девушки, пасущие гусей.
А еще библейские истории.
Ромашка нам их рассказывала, она в библейских историях толк знает.
Папа велел Старушенции снять каждую библейскую плитку отдельно, чтобы у него мотивы не переводились.
Свадьба в Ханаане. Схватка Иакова с ангелом. И много чего другого: Каин и Авель, неопалимая купина. И конечно, вселенский потоп, потому что Старику были нужны подобные ужасы для его крысиной книги, где…
Остается только удивляться, брат, сколько эта троица навидалась всего в деревне, пока я с утра до ночи возился с коровами и вел фермерское хозяйство…
И пока я был в кёльнском профтехучилище…
О'кей, но мне в деревне не нравилось: скукотища, глухомань…
Зато Тадделю и Паульхену в деревне жилось неплохо. По крайней мере, мне так казалось, когда я приезжала туда на выходные; только это бывало редко, потому что гончарный мастер меня почти не отпускал.
Мы ходили на деревенские праздники.
Б Вильстере даже устраивались большие народные гулянья.
И дискотека бывала, где я позднее…
Жаль, что тебя, Нана, не было с нами — ведь на гулянья привозили старую цепочную карусель…
Да, почему ты не приехала в гости?..
Потому что…
Могла бы с папой раз десять прокатиться.
Но я…
А наша Марихен наверняка щелкнула бы вас…
К сожалению, у меня не получилось приехать, так как…
Держалась бы с папой за руки…
Нет, потому что Ромашка…
Или папа…
Хватит! Довольно!
Мне с мамой жилось, в общем-то, хорошо, хотя у меня иногда возникали тайные и неисполнимые мечты. Мне интересно, что вы рассказываете про вашу Марихен — или Старушенцию, как ее называет Таддель, — про чудеса, которые она вытворяла своей фотокамерой: снимки, где оживает прошлое…
А, Старшой? Нам-то обоим эти чудеса известны с раннего детства. С тех пор, как появился Таддель, и задолго до того, как Ларе подарили Йогги.
Вас, Лена и Нана, тогда еще и в помине не было… И про мороку мы узнали рано, кто да с кем и кто начал первым…
Старая Мария отщелкала своей бокс-камерой «Агфа-специаль» весь наш дом из клинкерного кирпича, снаружи и изнутри, потому что отцу хотелось увидеть, кто раньше жил там и кто обретался на мансарде, где он теперь сам писал или рисовал. Это оказался художник, который даже прославился одной картиной.
Он был маринистом, любил «морские сюжеты». Трехмачтовик под полными парусами или океанский лайнер. Когда началась Первая мировая война, их сменили броненосцы и прочие военные корабли; наши и английские суда стали топить друг друга в Северном море. Художник написал картины с битвами при Доггербанке и Скагерраке. А еще он написал полотно, посвященное сражению у Фолклендских островов, что находятся далеко, около Аргентины. На нем был изображен подбитый крейсер «Лейпциг». Позади дымили английские суда. А впереди, на носу тонущего крейсера, часть которого выступала из воды, стоял посреди волн матрос. Одной рукой он держал знамя, похожее на то, с которыми теперь носятся бритоголовые неонацисты, когда их показывают по телевизору. Полотно называлось «Последний боец».
Именно эту картину и вспомнила фотокамера Марихен…
Ясное дело, ведь ее чудо-ящичек был ясновидящим.
Помню, как она снимала виды из большого окна, а сама отворачивалась при этом и косилась через плечо…
В такой же позе она фотографировала и в деревне, на дамбе — выставляла объектив, сама отворачивалась, будто сзади у нее прошлое, а впереди только пустота. Выглядело это абсолютно дико.
Отец увидел то полотно еще не законченным, на подрамнике. Перед подрамником — художник с палитрой и кистями. За ним большое окно отцовской мастерской. Хотите верьте, хотите нет, но рядом стоял человек с аксельбантами, с нафабренными усами.
Когда мы спросили про него Марихен, она ответила: «Старый Вильгельм, тогдашний император».
Помню, я спросил и отца, а он сказал: «Все верно, Марихен права. Император был здесь завсегдатаем. Об этом можно прочесть в летописи Фриденау. Вильгельм Второй навещал художника-мариниста Ганса Бордта в моей мансарде. Перед домом дежурил полицейский в островерхой каске».
Фотокамера даже его воскресила своей особой оптикой. Полицейский замирал по стойке «смирно», когда его величество соизволяли выйти из дома.
А художник впал в меланхолию после того, как во время Второй мировой войны от бомбежки сгорела его другая — далемская — мастерская. Вскоре он умер, бедный и забытый, в доме для престарелых.
Старый император давал художнику советы: «Здесь у волны должен вспениться гребешок». Поэтому художник — как его звали? — постоянно дописывал картины. Это заметно при сравнении нескольких снимков.
Вот насколько хороша память у чудо-ящичка.
Такое уж у него было свойство: чудо-ящичек не только исполнял желания, но и хранил в памяти прошлое, как компьютер, хотя тогда еще не существовало ни жестких дисков, ни дискет.
Мы донимали Марихен расспросами: «Что там у него внутри?» Но она ни словечком не обмолвилась. «Я, Пат, и знать про то не желаю. Пусть это остается загадкой. И баста! Главное, мой ящичек видит, что было раньше и что будет дальше».
Бокс-камера «Агфа-специаль» знала заранее все, что потом произошло с нашим домом: во время войны его крышу пробили зажигалки, которые во множестве сбрасывали англичане и американцы до того, как их авиация стала разрушать город воздушными минами и фугасами.
Но зажигалки быстро тушились, поэтому отец, купив уцелевший дом из клинкерного кирпича, обнаружил у себя в мастерской лишь несколько обгорелых половиц, остальное огонь не тронул.
Бокс-камера умела заглянуть и назад.
Да, на снимках было видно, как зажигалки…
Зажигательные авиабомбы.
…я и говорю. Было видно, как они горят, а другой художник, проживавший там после мариниста и писавший свои картины, тушит зажигалки песком из ведер…
Кругом дым, человека с ведром опознать невозможно. Потом отец в сотый раз рассказывал: «Неудивительно, Жорж, что фотокамера показывает прошлое. Ведь она многое пережила: пожар, целиком уничтоживший ателье нашей Марии. Не только темную комнату, но и все имущество, принадлежавшее ей и Гансу…»
Дальше всегда говорилось: «Ганс был тогда на фронте, снимал своей „Лейкой“ всякие события там и сям. Сначала блицкриг и наступления, потом сплошные отступления…»
Ну да, была же еще «Лейка», и «Хассельблад» тоже.
Но они не умели заглядывать ни в прошлое, ни в будущее, как бокс-камера. Вы же сами могли убедиться в ее способностях, да и я не раз убеждалась: сначала с морской свинкой, потом с моим Йогги. Лена тоже, особенно когда Старая Мария показала ее на сцене в комическом амплуа. А ведь тебе хотелось играть трагические роли, со слезами, отчаяньем…
А Яспер и Паульхен наверняка ужаснулись, когда она сфотографировала корабль, который позднее, попав в сильный шторм…
…да и я ужаснулась, увидев себя в амплуа комической старухи… Не, я мечтаю о совсем других ролях. Например…
А мы с мамой хоть и заглянули в будущее, но оно было у нас не трагичным, как у вашего затонувшего корабля, а прекрасным. О таком можно только мечтать; ведь мы познакомились с вашей Старой Марихен уже под конец, когда папа, изредка навещая нас, приводил ее с собой — тогда она и продемонстрировала нам способности своей фотокамеры, которая была ясновидящей не только по отношению к прошлому, но и знала все наперед. Однажды в погожий день мы прогуливались вчетвером вдоль Стены, которая уже тогда с нашей стороны была разрисована яркими надписями, исполненными замысловатыми шрифтами, странными знаками и абсурдными картинками. Мы дошли до того места, откуда сразу за Стеной виднелась верхушка Бранденбургских ворот. Тут Старая Марихен выстроила нас троих — маму, папу и посредине, как я всегда того хотела, меня — перед расписанной Стеной, после чего, держа фотокамеру на вытянутых руках, принялась снова и снова щелкать нас; мама при этом смеялась. А потом — о чудо! При следующем кратком визите она продемонстрировала нам способности своей фотокамеры; на всех снимках мы увидели, что Стена — невероятно! — разрушена. На каждой фотографии Стена разрушалась все больше, а на последней наша троица — я посредине — уже стояла перед большой дырой, размером в платяной шкаф, с рваными краями и торчащими кусками арматуры. Через этот пролом можно было разглядеть мертвую пограничную зону, за которой открывался вид далеко на Восточный Берлин. Не верите? Вот и Таддель считает, что это жульничество, Яспер — тоже. Мы сначала также не поверили, слишком уж радужный оптимизм исходил от снимков. Ведь до политического решения проблемы было еще очень далеко. До сих пор слышу мамин голос: «Слишком оптимистично, чтобы быть правдой». К сожалению, папа забрал все эти снимки. Якобы «для архива». Он сказал: «Они понадобятся мне позднее, когда все это сделается явью». Спустя несколько лет Стена действительно исчезла, а вместе с ней и многое другое; не стало вашей Старой Марихен, пропала ее фотокамера, но оказалось, что папа уже тогда задумал книгу про разрушение Стены и открывающееся за ней широкое поле; мне он объяснил: «Вот так, малышка Нана. Наша Марихен верила своей бокс-камере, которая знала, что было и что будет, а также то, о чем можно только мечтать, — например, чтобы исчезла Стена».
Щелкала-то небось с пьяных глаз.
Да, в ту пору она уже катилась под горку.
А когда она начала пить?
Тайком она всегда поддавала…
Наверное, прятала бутылку в своей темной комнате.
Нет! Ромашка говорит, что это неправда.
Не могу поверить, чтобы наша Старая Мария была алкоголичкой…
И тем не менее…
Когда Таддель, набравшись наглости, спрашивал: «Ну, Марихен? Опять хватила лишнего?» — она орала: «Врешь, стервец! Ни капли я в рот не брала!»
У отца собственный взгляд на вещи. Она всех вас любила, не только Паульхена. Ее малоформатные снимки подсказали Тадделю выход из трудной ситуации. Она предвидела блестящие выступления Лены в главных ролях на больших и малых сценах. Серия снимков запечатлела, как почти уже взрослый Пат провозит контрабандой запчасти для ксерокса в Восточную Германию, что было строго запрещено. Да, там печатались на ксероксе листовки. Она беспокоилась о Пате, о каждом из вас. Она пыталась отыскать коварную иголку в ноге у Наны, которую столько раз тщетно оперировали… А когда Жорж начал обкусывать ногти…
Я щадил вас. Я строго запретил Марихен показывать хоть одну из жутких фотографий — сделанных, признаться, по моей собственной просьбе — наших так называемых альковов. Ведь я мог аж до XVII века проследить, кто спал в этой затхлой постели под балдахином, кто с поджатыми ногами, кто в чепце или ночном колпаке, беспробудно, хладным сном: сморщенные старухи, беззубые старики, дети, безвременно скончавшиеся от чахотки или — позднее — от испанки. «Нет, — сказал я Марихен, — эти снимки с мертвецами оставим для внутреннего пользования».
Даже Паульхен, который, исполняя обязанности ассистента в темной комнате, ведал гораздо больше, чем признается сейчас, не видел этой альковной серии. Всех усопших: приходских смотрителей, их жен, мастера-корабела Юнге и, наконец, его дочь Альму. В ее лавке продавались лакричные палочки и леденцы по пфеннигу за штуку не только для Лены, Мике и Рике, но и для всех деревенских детишек…
Однако вам этого то ли мало, то ли чересчур много. Да, дети, знаю: Быть отцом — это притязание, которое нуждается в постоянном подтверждении. Поэтому мне приходится лгать, чтобы вы мне верили.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |