"Фотокамера" - читать интересную книгу автора (Грасс Гюнтер)
Загадай желание
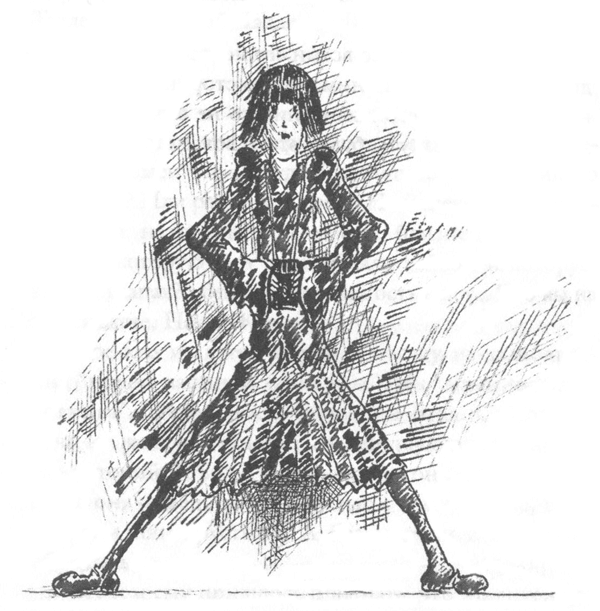 |
Прошло столько времени, а слезы никак не высохнут… «До сих пор больно», — говорит Нана, но все-таки улыбается. Сегодня Таддель прибыл вовремя, однако громко заявил, что у него остались незаконченные дела. Яспер и Паульхен, хоть и обещали прийти чуть позже, но собираются говорить в другой раз, когда настанет их черед. А Пат и Жорж, о которых уже шла речь, решили, по словам Жоржа, «временно прикусить язык».
Но Пат захотел все-таки кое-что уточнить, да и Жорж вдруг засомневался, правда ли на протяжении долгих лет они имели дело с фотокамерой модели «Агфа-специаль». По его мнению, в тридцать шестом году, то есть к Берлинской олимпиаде, Старая Мария вполне могла купить другую модель, а именно «Агфатроликс-бокс» с корпусом из бакелита, которая тогда шла нарасхват, потому что стоила всего девять с половиной рейхсмарок; однако потом Пату припомнилось, что у этой модели имелись особые приметы вроде закругленных углов корпуса, которые отсутствовали у бокс-камеры Старой Марии: «Наверное, это была все-таки „Агфа-специаль“».
В фахверковом доме под Касселем поскрипывают балки, лестничные ступени и половицы. Только нет уже на свете той, что могла бы воспроизвести на фотографиях прошлую жизнь старого дома. На улице идет дождь, лето предпочло быть сырым. Но о погоде разговор не заходит, лишь мимоходного упоминания удостаивается и хорек, придушивший намедни пяток кур.
Встретились у Лары. Трое ее старших детей от первого брака теперь живут отдельно, пытаясь стать взрослыми, двое младших — уже спят. Муж Лары, не желая участвовать в «семейном перемывании косточек», расположился в соседней комнате и, видимо, размышляет о пчелах: стеклянные банки с закручивающимися металлическими крышками содержат рапсовый мед — подарки для приехавших в гости братьев и сестер.
Сначала их потчевали густой похлебкой, вареной телятиной с фасолью и картошкой. Кроме того, к столу поданы пиво и соки. Нана пока ограничивается ролью слушательницы: «Я ведь присоединилась к вам позже». Поэтому все подначивают «приступить к исповеди» Лену, которая только что в лицах изображала свою работу в театре, а заодно и свой новый — скорее мимолетный — роман, не скупясь на сценические жесты и комичные диалоги. Без особых промедлений Лена пробует установленную на столе технику: «Алло, у микрофона Лена!» — и начинает рассказ.
Все было как в кино. Только фильм, к сожалению, получился неудачным, хотя сюжет имел небезынтересные, порой весьма захватывающие повороты. Ведь речь шла о любви, даже — о большой любви, поэтому оба считали, что им нельзя расставаться. Папа до сих пор говорит о настоящей страсти. Однако, пока я училась ходить, он уже опять исчез. Поэтому знаю лишь то, о чем мне рассказывали мои сестры от другого отца, который, к сожалению, тоже исчез; больше рассказывала Мике, которая всегда считалась рассудительнее, чем Рике. Мой папа им нравился, хоть и готовил он такие блюда — например, мелко рубленные свиные почки под горчичным соусом, — от которых Мике воротила нос. И все-таки, видимо, хорошо с ним было в большом доме, который он приобрел специально для нас и который мама, будучи по образованию архитектором, с большой любовью и профессиональным знанием дела реконструировала целиком, до мельчайших деталей, придала ему первозданный вид, отчего интерьер стал вполне пригоден для киносъемок, чтобы экранизировать что-нибудь классическое, вроде «Всадника на белом коне» Теодора Шторма. Это было жилье приходского смотрителя или Юнгов дом; несколько веков назад, когда его строили, вся округа находилась под властью датчан, и они поставили здесь своего наместника, «приходского смотрителя», потом в доме жил корабел Юнге, а еще позже уже только его дочь Альма, про которую в деревне ходили слухи — об этом мне рассказала Мике, — будто она до сих пор колобродит привидением по чердаку и кладовой. Большую комнату внизу теперь занял папа, он подолгу просиживал там, вырезая на медных досках свои диковинные гравюры. Например, сломанную куклу моей сестры Рике; кукла вываливалась из распоротого рыбьего брюха, ноги врастопырку, глаза удивленные. Или же писал свою книгу, где, как вам известно, речь идет о говорящем Палтусе, он писал ее и писал, но, к сожалению, никак не мог закончить, потому что у него самого, или у мамы, или у обоих вместе любовь постепенно, а может — внезапно угасла или, наоборот, слишком разгорелась… Словом, жаль…
Такое бывает сплошь да рядом.
У меня так было, у Лары и у тебя тоже…
Скверно, что от разрыва страдают дети, верно, Лена?
Да, особенно я…
А я разве нет?
Конечно, и ты, Таддель. Но сегодня я говорю о себе. Не! Забудем! Я свое пережила. Вы тоже. Поговорим лучше о старом доме. Мне хорошо запомнились плитки на полу большой комнаты, ведь я по ним ползала, а потом делала первые шаги. Они были глазурованными, желтыми и зелеными; там, где стоял длинный стол приходского смотрителя, за которым более двух веков заседали деревенские старейшины, плитки были так истерты, что от цветной глазуровки почти ничего не сохранилось. Папа был помешан на старинных домах, он и тут сказал Мике и Рике: «Здесь, за столом, курили трубки старейшины, обсуждали насущные дела: как поднять или залатать дамбу, чтобы от наводнений не погибало столько людей и скота». А еще он перечислил, сколько непомерных податей выплачивали датчанам натурой местные крестьяне и приэльбские рыбаки: зерно, окорока, засоленная сельдь. Жаль, я не помню, как ты, Лара, приезжала к нам погостить со своим песиком. Совсем не помню. Зато по рассказам Мике и Рике знаю, как папа торговался с настоящим цыганом, ударил с ним по рукам и купил для Лары, но все-таки немножко и для нас лошадку-трехлетку. Только моя старшая сестра Мике не хотела на ней ездить. Не! Совсем не хотела. Поэтому без Лары лошадка лишь стояла в хлеву или паслась у крестьянина и скучала. Может, вы думаете, что лошади не скучают? Еще как! Вот я и говорю. Я научилась ездить верхом гораздо позже, когда любовь у мамы с папой прошла и мы переехали в город. Теперь и я, как раньше ты, Лара, сходила с ума по лошадям — такое бывает с девочками в определенном возрасте. Наверное, поэтому я очень любила ходить на каникулах в конюшню для пони; Таддель тоже ходил. Только ты верхом не ездил, потому что ужасно боялся лошадей, зато присматривал за нами, малышками. Ох и задавался же ты тогда…
Подумаешь!
Строг был с нами. Вечно командовал: «Слушать сюда! Раз Таддель велел…»
Я же отвечал за вас, за малышню.
Да уж. Нам приходилось тебя слушаться, поэтому спозаранок, еще заспанные, мы говорили тебе хором: «Доброе утро, Таддель!»
Зато мигом вылетали из постелей, ангелочки.
М-да, воспоминания. Помнится, внутри дома, за входной дверью — там, сами знаете, звонил колокольчик, когда дверь открывалась или закрывалась, — находилась старая торговая лавка. В ней, к сожалению, уже никто не торговал, но сохранился деревянный прилавок. На стене, за прилавком, размещалось множество ящичков, выкрашенных охрой, с эмалевыми табличками, где значилось, для чего каждый ящичек предназначен: для цукатов, гречки, картофельной муки, крупы, корицы, красных бобов и всякой всячины. Мы с сестрами часто играли там, поэтому ваша Старая Мария, которая порой сопровождала папу, когда он приезжал к нам на две недели, а потом вновь на две недели уезжал, щелкала нас своей диковинной фотокамерой, Мике, Рике и меня. В следующий раз она привозила отпечатанные снимки; мы выглядели на них как-то странно, будто из сказки. Словно вышли из старинной книжки с картинками. В передниках, длинных шерстяных чулках. На голове ленты, на ногах деревянные башмаки. Такими мы, соплячки, стояли перед прилавком. А позади него снимки запечатлели пожилую женщину; седые волосы собраны в тугой пучок и заколоты длинными шпильками. Именно так выглядела Альма Юнге, про которую в деревне судачили, будто ее привидение бродит по чердаку и кладовой, а здесь она продавала моим сестрам Рике и Мике и даже мне, хоть я была совсем кроха, цукаты и длинные лакрицы на палочке. Забавно мы смотрелись, даже мило. Может, поэтому я до сих пор обожаю лакрицы…
А я тащусь от «Нутеллы»; когда мне бывало тоскливо, наша домработница…
Не, Таддель, сейчас моя очередь. Мама не видела фотографий, которые снимала ваша Марихен, но Рике ей все разболтала, и тогда мама устроила скандал: «Что за глупости! Чушь, предрассудки! Россказни про привидений!» Несколько раз мама довольно сильно ругалась с вашей Старой Марией, потому что папа постоянно шушукался с ней, она слушалась только его, а он прямо-таки души не чаял в Марии и ее фотокамере, которой она по его просьбе делала снимки, якобы необходимые для новой книги, — вы же знаете, ему понадобились картинки из каменного века, из времен великого переселения народов, из Средневековья и так далее вплоть до нынешней «мороки», причем для каждой «эпохи» он — в силу типично мужской фантазии — выдумывал новый женский персонаж с типичной, по его мнению, женской историей, но потом работа зашла в тупик, и папа не знал, что делать дальше.
Зато позднее книга стала настоящим бестселлером.
Даже газетные критики на время оставили его в покое…
Только некоторые феминистки разбушевались, потому что…
Пусть Лена дальше расскажет, почему застопорилась работа над «Палтусом».
У папы с мамой, при всей страстной любви, накопились проблемы и серьезные противоречия, их отношения крайне накалились. Больше всего страдала от этого сама любовь, поэтому однажды папа взял незаконченную рукопись под мышку и ушел, просто сбежал, чтобы больше никогда не вернуться, к сожалению. Не знаю, кто больше виноват. И знать не хочу. Не! От поисков виноватого мало проку. Но иногда, Лара, я задаюсь вопросом: может, у мамы натура такая, что для нее ссора — дело обычное, ничего страшного, а вот папа совершенно не выносит ссор, особенно дома, здесь ему нужен покой, полная гармония. Мне жалко обоих, однако я сама не раз убеждалась, что любовь редко бывает долгой, а теперь я играю в пьесах, где прочные вроде бы отношения неизменно рушатся.
Театр живет за счет кризисов, так называемой войны полов…
Наш Пат может тебе много про это рассказать, верно, Старшой?
Как и Лара…
Не о том сейчас разговор! Речь идет о временах, когда мы были детьми…
Давай, Лара! Твой черед.
Не знаю, с чего начать; из-за тогдашней неразберихи или «мороки», как говаривала Старая Мария, отец стал появляться дома чаще, а потом возвратился совсем — такой жалкий; мама вряд ли обрадовалась, когда он неожиданно возник на пороге со словами: «Привет, я вернулся!» Он вновь обосновался у себя в мансарде, но теперь лишь на время. Он сидел наверху, мрачный, перебирал кипы бумаг. Дело не сулило ничего хорошего, ведь мама жила внизу со своим молодым человеком, которому папа помог выбраться из Восточного блока, из Румынии, а теперь этот молодой человек стал маминым любовником. Вообще-то дом был просторным, места хватало всем, потому что Пат давно жил у своей взрослой подруги и ее дочери, Жорж постоянно торчал в подвале, а потом и вовсе уехал в Кёльн, где отец устроил его на место ученика в телестудии. Оставались только я и Таддель. Но он пропадал с друзьями, вечно ходил с развязанными шнурками — по-моему, в знак протеста. Такой уж он был. Ему нравилось считаться трудным ребенком. И все — под одной крышей, к тому же папа выдавал порой сентенции, которым, похоже, верил сам: «Не обращайте на меня внимания. Посижу себе тихонько наверху. Надо кое-что закончить. Недолго осталось…»
Хорошо, что он работал…
Иначе, пожалуй, свихнулся бы…
Но ведь из-за Лены он мог бы и вернуться, разве нет?
Не! Там все было сказано. Да и не думаю, что мама смирилась бы с этим так просто: «Здравствуйте, а вот и я!»
Может, и смирилась бы. Однажды, Лена, твоя мама приезжала к нам, только без тебя, потому что, по ее словам, хотела хорошенько поговорить с нашей мамой как женщина с женщиной. Представляете, папа даже приготовил для них обоих, а еще для Старой Марии, которую позвал на подмогу, какое-то рыбное блюдо, чего уже давно не делал. Твоя и моя мама говорили только о нем, о его проблемах, о том, что он хороший и заботливый, но вот, дескать, беда — страдает «материнским комплексом». Как рассказывала мне Старая Мария, обе женщины решили, что нужно что-то предпринять, чтобы он избавился от своей закомплексованности, не убегал от конфликтов и так далее. Но папа заупрямился. Не хотел идти к психоаналитику…
А по-моему, они в чем-то были правы.
Его сильные женщины проявили настойчивость…
…да еще в два голоса.
Бедняга!
Вот как? Теперь и вы его жалеете.
Поначалу он только прислушивался к разговору, но потом заорал: «Вы меня на психоаналитическую кушетку не затащите!», разозлился, поэтому обе женщины съежились, когда он крикнул: «Не позволю никому другому зарабатывать на моем материнском комплексе!» Женщины притихли, занялись рыбьими костями, а он добавил: «На моем надгробье будет высечено: „Здесь покоится с неизлечимым материнским комплексом…“» Впрочем, понятно, Лена, что твоя мама захотела вернуть его в деревню, к вам. Наша мама, естественно, была не против, так как папа хоть и сидел себе потихоньку в мансарде, однако мешал им с молодым человеком, у которого из-за непростого характера и без того имелось немало проблем. Короче, пока обе женщины обсуждали папин «материнский комплекс», Старая Мария щелкнула, как она выражалась, «по-быстрому» несколько застольных снимков. Фотографии, проявленные в темной комнате, она никому не показала.
Остается только гадать, что…
Спорим, там наш папа лежал на кушетке, а рядом на стуле сидел мамин любовник в роли психоаналитика?
Ясное дело, он же начал учиться на психиатра…
…а потому попытался — на снимке — заставить папу рассказать, как тот уже в детстве донимал свою мать всяческими небылицами…
Он до сих пор обожает небылицы.
Стоп, я точно вспомнила, какое блюдо приготовил тогда папа твоей и моей маме: тушеный палтус с фенхелем. Он и свою книгу, которую никак не мог закончить, назвал в честь этой рыбы…
А в книге как раз рассказывается, как сначала две женщины, а потом все больше и больше обсуждают некоего мужчину, из-за чего…
Короче, он сидел у себя в мансарде или стоял за конторкой, тюкал на своей «Оливетти», но через некоторое время пошел слух: «Наконец он принялся за поиски квартиры». Хотя мы с младшим братом часто ссорились — верно, Таддель? — но тут мы были едины: «Он же никому не мешает, сидит себе наверху». А маме я сказала: «Если папа уйдет, я тоже уйду».
Не знаю. Помню только, что запахло грозой. А вскоре мать Лены переехала с дочерьми из деревни обратно в город. Верно, я тогда вечно ходил с развязанными шнурками, порой наступал на них, падал в грязь на Перельсплац или где-то еще. Кричал: «Вот дерьмо!» Сам был готов сбежать. Никому до меня не было дела. Более или менее ладил я только с приятелем Готфридом, который жил в дворницкой за углом. Иногда приходящая домработница угощала меня хлебцами с «Нутеллой». Даже Старушенция не хотела меня щелкать своей дряхлой фотокамерой. «Такая морока даже моему ящичку не под силу, — говорила она. — Сделаем перерыв». А папа, если не просиживал в своей мансарде, занимался якобы поисками подходящей квартиры. Однако вместо квартиры нашел новую женщину, а потом — кажется, на вечеринке по случаю дня рождения — еще одну, которая наконец оказалась той, что надо.
То-то Марихен обрадовалась.
Верно, Старшой! Ведь ей этот тип женщины приглянулся еще тогда, когда построили Стену.
…она нарочно притащила его к контрольно-пропускному пункту Чекпойнт-Чарли, чтобы щелкнуть своей бокс-камерой блондинку с фальшивым шведским паспортом…
…и итальянца, который помог ей сбежать…
…причем на «альфа-ромео»…
Глупости говорите, оба. В то время папа еще не дозрел до этого. А пока что, когда не находился то у одной, то у другой женщины, он забирал тебя, Лена, от твоей матери. Ты была очень хорошенькой. Глазки мышиные, голосок тоненький, писклявый, ты любила петь или плакать. Сидела наверху, у папы, играла пуговицами, которые я брала для тебя у Пата из его галантерейной лавки, чтобы занять тебя чем-нибудь ярким, разноцветным, пока папа исписывал страницу за страницей, заканчивая свою книгу. Играть с тобой, Лена, у него не получалось.
Он и с нами никогда по-настоящему не играл, когда мы были маленькими.
Правда, Лена.
Да и с тобой, Нана. Разве не так?
Зато он рассказывал про книгу, которую никак не мог закончить, про сказочную говорящую рыбу, про рыбака и его жадную старуху, требующую все больше и больше.
Да уж, рассказывать истории он мастер.
Только совсем не играл со своими детьми, как это делают другие отцы.
Ну и что? Он этого не умеет, поэтому не хотел портить игру.
Со временем наш дом поделили.
Но это случилось уже тогда, когда он окончательно сошелся с матерью Яспера и Паульхена, про которую Марихен заранее почуяла, что именно эта женщина ему нужна.
А в промежутке произошло еще кое-что, о чем мы узнали позже — слишком поздно.
Стоит ли об этом?
Мы ведь тогда действительно ничего не знали, Нана. Я имею в виду роман нашего папы с твоей мамой.
Кажется, он начался задолго до того, как поделили дом.
Одна женщина, другая, а между ними — еще и третья…
Не в своем уме был наш старик…
Постарайся понять его, Таддель, пусть даже это трудно. У обоих, у нашего папочки и у матери Наны, были свои проблемы. Эти проблемы их и сблизили.
Значит, я — результат их проблем?
Любовь и такой бывает!
Ты, Нана, у них очень даже удалась, сразу видно…
Все тебя любят.
Не надо плакать… Вот и хорошо.
Короче, наш дом разделили, поскольку я сказала, что если папа уйдет, то я тоже уйду. Он получил меньшую часть, слева от лестницы, вместе со своим логовом наверху. Из каморки ему сделали кухоньку, прежняя родительская спальня стала его жилой комнатой, к ней пристроили душевую, а внизу разместилось его бюро, где сидела секретарша и печатала на машинке письма. Подруги смеялись: «Кошмар! Берлинская стена посреди дома. Не хватает только колючей проволоки».
А в нашей части дома соорудили винтовую лестницу к верхним комнатам.
Пожалуй, иного выхода, в принципе, и не было: вашей матери при этой мороке тоже не хотелось, чтобы ей мешали с ее молодым человеком, ведь она его любила…
Именно так. Теперь он сидел на кухне, где раньше папа готовил нам, например, бараний кострец с чесноком и листьями шалфея. Он занимал место и в нашем «пежо» рядом с мамой, которая была за рулем, поскольку молодой человек тоже не имел водительских прав, как и наш папа.
В утешение папе достался еще и задний дворик, который к тому времени совершенно зарос.
Помню, мы смотрели из окна на кухне, как он в одиночку его перекапывал…
Я даже испугалась тогда, до того он вспотел с непривычки от работы лопатой. Он заказал чернозем и перевез его на тачке через парадное на задний двор. Твои приятели, Готфрид и еще кто-то, ему помогли. Работая, папа нашел игрушечные модельные машинки, которые ты когда-то украл у близнецов и закопал в песочнице.
Машинки отдали играть тебе, Лена, но ты предпочитала пуговицы… А еще то пела, то плакала…
Сначала я думала, что он рехнулся-таки вконец, поскольку никогда раньше не занимался садовыми работами, потом решила: пар выпускает. А может, роется от радости, что нашел новую женщину, с которой закончит свою книгу. Ведь это оставалось для него главным. А тут еще пришла Старая Мария и принялась со всех сторон щелкать чудо-ящичком, как он копает землю; я тогда подумала — теперь-то мы узнаем, что с ним будет дальше, но она никому не показала проявленные снимки. Когда я про них спросила, она лишь сказала: «Размечталась, куколка. Пусть это останется тайной моей темной комнаты».
А потом состоялся развод.
Но этого события никто из нас не заметил, потому что родители все сделали на свой обычный манер, без шума…
В деле участвовали только адвокаты и — ясное дело! — Марихен, которая всегда была тут как тут, когда с отцом происходило что-нибудь особенное.
Позднее выяснилось, что имущество разделили поровну, полюбовно…
Во всяком случае, без споров.
Они вообще никогда не спорили.
Иногда я думал, пусть уж лучше поругаются — с криком, с битьем посуды, не важно из-за чего. Может, тогда бы они до сих пор…
Но тогда бы не было нас, Наны и меня.
Наверное, развод был необходим, потому что папа непременно хотел…
А дальше — послушай только! — уже после того, как он со своей новой женой, Яспером и Паульхеном поселился в деревенском доме, том самом, где раньше жили мать Лены и Ленины сводные сестры Мике и Рике, даже после того, как там при стечении множества гостей была отпразднована шумная свадьба, в этом безумном мире прибавился еще один человечек, потому что твоя мама родила тебя, маленькую Нану…
У старой Марии снова появилась причина заохать и запричитать про мороку.
Мы-то вообще ни о чем не догадывались, а если и узнавали что-нибудь, то лишь задним числом и понемножку.
Может, у него еще есть дети?..
Не, мне пришлось совсем не по душе запоздалое папино признание, что у меня есть маленькая сестренка по имени Нана.
…например, в Сицилии, где он бывал в молодые годы…
Сказал, дескать, не хотел меня травмировать.
…и про которых не ведал даже чудо-ящичек нашей Марихен…
Я только позже узнала, сколько у него детей на самом деле, и, в принципе, обрадовалась, потому что если растешь единственным ребенком, то порой чувствуешь себя очень одиноко, а так…
Ну, что натворил наш папа — это еще полбеды, разве нет?
Да, ничего страшного. Ребенком меньше, ребенком больше.
Теперь к нам добавились Яспер и Паульхен.
А вот и вы, очень кстати. Мы как раз добрались до вас, до вашей жизни в деревне.
Понятно. Что ж, пусть будет так. Во всяком случае, с приездом к нам Тадделя он оказался среди нас старшим, а не я.
Я, говорят, расплакался, когда Таддель мне сказал: «Теперь ваша мама тоже развелась и может выйти замуж за моего папу».
Ну, плакал не только ты, Паульхен, я тоже немало слез пролила. Часто прямо-таки рыдала, Мике и Рике утешали меня…
Да и я чувствовала себя не лучше; отец у меня вроде бы был, пусть и навещал мамочку нерегулярно, однако накануне Рождества или моего дня рождения он всегда приезжал, только я все равно грустила, и слезы накатывали — вот сейчас опять подступили; Лена и Паульхен рассказали, как тогда плакали, вот и мне хочется всплакнуть: я вообще чуть что — в слезы…
Ну, не надо!
А все из-за того, что нашему бедному папочке пришлось так долго искать…
Что я слышу? Опять его жалеют?
Ты права, Лена! Я тогда тоже не на шутку злился, по крайней мере некоторое время, хотя семейство наше жило нескучно. Это уж точно. А потом сказал себе: ничего не поделаешь. Он всегда имел дело с сильными женщинами, такими были все четверо, даже пятеро, если считать Марихен. Позже, гораздо позже, когда она совсем усохла и стала похожей на былинку, которую можно сдуть — отец ее так и называл «мазурской былинкой», — она показала мне стопку фотографий этих женщин, снятых по отдельности, и все действительно сильные, хотя каждая по-своему. Я тогда уже занимался экологическим сельским хозяйством, обзавелся в Нижней Саксонии собственным подворьем, а в политическом отношении поддерживал «зеленых». Однажды, выкроив пару свободных дней, я навестил Марихен в ее берлинском фотоателье, где она жила только на вареной картошке да маринованной селедке. Настроение у нее было скверное, но мне она обрадовалась и сказала: «Послушай, Пат, я сейчас тебе кое-что покажу — глазам не поверишь!» Тут она исчезла в своей темной комнате, и мне пришлось ее дожидаться, хотя уже давно было пора уходить, чтобы проведать друзей в Восточном Берлине, потому что там… Но когда она вышла из темной комнаты, я и впрямь глазам своим не поверил. Целая пачка снимков форматом шесть на девять, и все запечатлели папиных женщин такими, какими он, вероятно, хотел бы их видеть — каждую по-своему сильной. На первом снимке я узнал отца и маму, когда они еще были молодыми. Разумеется, они танцевали, только не на паркете или на лужайке, не на твердой поверхности, а на пушистом облачке. Что-то зажигательное, вроде танго…
…может, рок-н-ролл?..
Больше всего они любили выдавать блюз…
…особенно под диксиленд.
«Я щелкнула их, когда они разводились, — сказала Марихен. — Наклепать свадебных снимков может каждый, а вот сделать бракоразводное фото с радостной ретроспективой в прежние времена, когда у обоих от любви кружилась голова и все давалось так легко, будто они танцуют на облаках, — на такое способен только мой ящичек. Он все помнит, даже — вот, смотри! — не забыл про заколку, потерянную в танце». Тут Марихен сморщилась, как всегда, когда злилась, и добавила: «Не показала я им их танец на облаках. Развелись, и точка». Правда, я не был уверен, что отец и мать поставили друг на друге точку. Но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается. Следующие фотографии из стопки, которую Марихен принесла из темной комнаты, были похожи на кадры немого кино. Отец с окровавленной повязкой на голове лежал, прислонившись к колесу фургона, такого, в которых американские переселенцы ехали на Запад: «Go West!» Рот открыт, лицо мертвенно-бледное. А рядом выпрямилась мать Лены, высокая, русоволосая, кудрявая и — не вру, честное слово! — с винчестером в руках. Глаза прищурены, будто она осматривает прерию до самого горизонта, выискивая индейцев, скажем — команчей…
Не! Не думаю. Стоит мышке из норки выглянуть, мама тут же на стул запрыгивает от страха…
И все-таки это была она. Стоит, как последний солдат. Из-под брезента испуганно выглядывают Мике и Рике, а между ними — ты, Лена. На всех троих старомодные чепчики. Ваша мать — настоящая блондинка, ты, Лена, чуточку потемнее, потому что… Перед фургоном не меньше дюжины застреленных индейцев. Видно, такое твоей матери вполне под силу. Отец мог бы с ней в огонь и в воду, но не захотел. А Марихен, сложив эти снимки с нападением индейцев обратно в стопку, сказала: «С такой женщиной можно хоть коней красть. Но твой отец предпочитает покупать лошадок. Что он и сделал».
Купил лошадку для Лары. Наверное, хорошо она смотрелась, когда скакала через деревню на своей Накке.
А мой верный Йогги несся за нами…
Другие снимки были еще поразительней, правда. Вы не поверите, и ты, Нана, тоже. На других фотографиях из той стопки отец красуется в бескозырке. Похож на революционного матроса. Рядом смеется твоя мама. Волосы растрепаны. Правда, они вместе. И никаких размолвок. Оба смеются. Стоят у баррикады. Им весело. У нее через плечо — лента с патронами. На другом снимке она лежит за пулеметом времен Первой мировой, куда-то целит, а может, даже стреляет.
Слева развевается флаг, похоже, красный. Ведь Марихен показывала черно-белые снимки. «Такое происходило здесь, в Берлине, когда была революция», — объяснила она. Но никакая сильная женщина не затащила бы отца на баррикады, даже мать Наны. Ему всегда претили революции. Он всегда был реформистом. Однако Марихен только хихикнула: «Видно, мать вашей сестрички Наны мечтала, чтобы он был таким, да и сам ваш отец тоже немножко этого хотел. Вы же знаете, моя камера умеет исполнять желания».
На самом деле мамочка у меня совсем другая. Вы же знаете ее — Пат, Жорж и ты, Лара. Она всегда имела дело только с книжками, которые писали другие и которые ей приходилось править, фразу за фразой…
И все-таки, Нана, может, у нее была такая тайная мечта…
Ну уж нет! Разве что отец мог подобное выдумать.
Но самые поразительные вещи чудо-ящичек выдал в четвертой порции снимков. Там красовался настоящий дирижабль средних размеров, пришвартованный на аэродроме к высокой мачте. У просторной гондолы, как на групповом фото, выстроились наш папа и ваша мать. Перед ними — Яспер и наш Таддель. Впереди всех сидишь ты, Паульхен, самый младший. Однако капитанской фуражки удостоился вовсе не отец, нет; капитан воздушного судна — его вторая жена.
Ясное дело, отец даже с велосипедом не справляется, не говоря уж об автомобиле.
То есть он сумел уговорить вашу мать, чтобы она получила лицензию на управление дирижаблем средней величины?
Вполне возможно.
Папочке всегда хотелось обходиться без постоянного места жительства, он мечтал обзавестись дирижаблем, куда поместился бы его нехитрый скарб, конторка и все семейство, чтобы можно было приземляться то тут, то там, по настроению, вечно в пути и никогда не…
Вот Старая Мария и исполнила его желание: за штурвалом сильная женщина, а сам он преспокойно занимается своими писательскими делами…
…причем с большим удовольствием.
«Вашему отцу всегда хочется быть другим и находиться в другом месте», — сказала она. Я сам такой. Видно, от него унаследовал. «А есть фотографии, где ты сама вместе с отцом? — спросил я Марихен, когда она собралась отнести снимки обратно в темную комнату. — Такие, где исполняются желания?» Она долго молчала, потом сказала: «Твоему отцу своих баб хватает! Ему не до меня. Мое дело — щелкать, когда для него нужно снять что-нибудь особенное. Затем — марш в темную комнату! Вот и все. Дерьмовая ситуация, голубчик. Для вашего отца я всегда оставалась Щелкунчиком, и только».
Наверняка старуха сильно переживала. Может, она все-таки была его любовницей в промежутке между другими историями?
Я уехал от нее в Восточный Берлин, на Пренцлауэр-Берг, потому что там…
Похоже, мы еще многого не знаем…
…из того, что щелкала Старая Мария…
…и что интересовало нашего папочку из чисто профессионального любопытства…
…отчего позднее никогда не знаешь, где правда и где вымысел…
Неужели то, как мы здесь сидим и разговариваем, тоже всего лишь его фантазия, а?
Уж это-то он умеет: выдумывать, фантазировать так, что вымысел становится явью, которая отбрасывает тень. Он говорит: «Ваш отец научился этому с раннего детства». И все-таки, дорогая Лена, мы знаем, что жизнь — не спектакль, разыгрываемый на сцене. Помнишь, как мы, оставив Запад далеко позади, двинулись все дальше и дальше на Восток, кругом май, цветет сирень, а я, еще до отъезда в Польшу, попросил тебя убрать из затейливой прически бабочек и птичек, снять слишком яркие побрякушки, поскольку экстравагантные украшения могли шокировать нашу кашубскую родню? Жалко, что Марихен не было с нами, когда мы сидели на кушетке между дядей Яном и тетей Люцией и ты отказывалась есть холодец из свиной головы. Ах, как я гордился своенравной дочкой…
А тебя, малышка Нана, она ловила объективом своей бокс-камеры даже тогда, когда меня не было рядом, но я мысленно держал твою ладошку, которая целиком умещалась в моей ладони. Ведь Марихен знала наши потаенные желания. Поэтому я все-таки оказывался рядом, когда ты вновь теряла ключ от квартиры или карманные деньги. Я помогал искать, проходил с тобой всю обратную дорогу до школы. Холодно, говорил я, теплее, тепло, тепло, горячо… Иногда находилось даже больше, чем было потеряно. Мы оба радовались находке.
Мы смеялись и плакали вместе. Нас можно было увидеть вместе гуляющими рука об руку по Тиргартену или стоящими перед обезьянником в зверинце Цоо. Я навещал тебя чаще, чем это зафиксировал бы документальный подсчет. Сколько нащелкано фотографий, запечатлевших эти счастливые моменты. Ах, если бы сохранились все эти снимки, на которых мы оба…
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |