"Мать и сын" - читать интересную книгу автора (Коршунов Михаил Павлович)
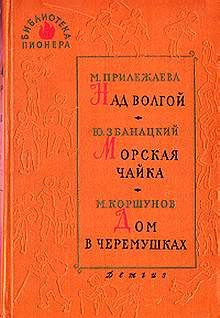 |
Михаил Коршунов Мать и сын
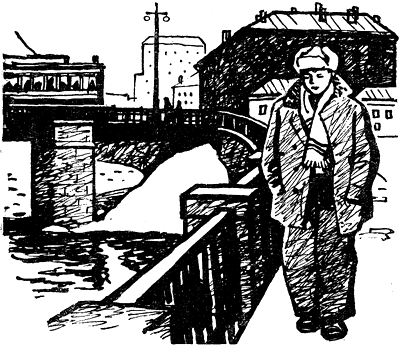 |
В коридоре стоит мать в сереньком платье, в темном шарфе. Прижимает к груди веточки буксуса.
Сына рядом нет: с утра убежал из дому.
Мать одна уходит на кладбище. Она понимает, что Лёне на кладбище будет тяжело и страшно, поэтому и уходит одна: заслоняет собой сына.
…Два дня назад Леня утром провожал отца до газетного киоска. В киоске отец купил свежий номер журнала по радиотехнике, сунул в карман плаща, помахал Лёне кепкой, и они расстались: отец отправился на работу, на завод электромоторов, а Леня — в школу.
Когда Леня вернулся из школы, ему поспешно открыли двери.
Но это была не мама, хотя на фабрике она сегодня не работала, а была Даша из соседней квартиры.
Леня не удивился, что Даша у них: она часто приходила к маме. Леня не удивился даже тогда, когда Даша оказала, что ждет Леню: ведь у него нет ключей, а маме понадобилось срочно уйти.
Леня поверил. Но будь он повнимательнее, заметил бы и напряженное лицо Даши, и мамину перчатку в углу у порога (значит, мама ее обронила и не искала), и разбросанные на тумбочке возле кровати шпильки: мама не заколола волосы, а только накинула шарф. И на плите в кастрюле громко кипела вода, разбрызгивалась и обдавала кухню паром, а Даша точно не слышала.
Леня ни на что не обратил внимания. Привык, что в семье всегда спокойно и устойчиво. Его любили, о нем заботились. И он в ответ любил. Единственной его заботой было сдавать экзамены и переходить из класса в класс.
Привык, что по вечерам в квартире фонили динамики, трещали разряды конденсаторов, хлопали переключатели: отец увлекался радиотехникой, беспрерывно что-нибудь строил и испытывал.
В штепсельных розетках частенько сгорали предохранители, и тогда пахло горячей резиной. Или вдруг становилось опасным прикасаться к радиаторам парового отопления и водопроводным трубам, начинало трясти электрическим током. К запаху горячей резины иногда примешивался запах соляной кислоты и канифоли — это от паяльника.
Недавно отец решил сконструировать свой звукозаписывающий аппарат — не магнитофон, а шаринофон. Звук должен был записываться сапфирным резцом на кинопленку.
В работе над шаринофоном помогали мама и Леня. Мама смывала с пленки эмульсию, а Леня на специальном станочке резал пленку на две полоски.
В квартире появился новый запах, запах ацетона. Отец склеивал ацетоном пленки, если они случайно рвались при звукозаписи.
Леню увлекали опыты с шаринофоном. Он мог час за часом сидеть в наушниках, контролировать, как идет запись «с эфира», снимать пинцетом стружку, которая выбивалась из-под сапфирного резца, рассматривать сквозь увеличительное стекло звуковые бороздки на пленке — достаточной ли они глубины и какова сила звука, модуляция.
А сколько было радости, когда проигрывали очередную опытную пленку и запись на ней получалась вполне понятной!
Если играла музыка, то можно было догадаться, что это играет музыка. Если кто-то пел, то можно было догадаться, что все-таки пел.
Иногда среди ночи отец будил маму и просил сказать что-нибудь в микрофон, который он приносил на длинном шнуре, а сам бежал к шаринофону, следил, как идет запись «с микрофона».
Мама сонным голосом давала счет или читала газету.
Отец вскорости прибегал с проигрывателем и запускал пленку, чтобы мама послушала свой голос.
Она слушала и улыбалась. Можно было вполне догадаться, что мама не пела, а читала газету и что она не кашляла, а давала счет.
Так было недавно. Так могло быть и сегодня, и завтра, и послезавтра, если бы в тот день не зазвонил телефон.
К телефону заспешила Даша. У Лени это опять не вызвало никаких подозрений, хотя Даша ответила в трубку: «Да, это я», — будто ей часто сюда звонили.
Леня, в это время потушил газовую плиту, чтобы вода в кастрюле перестала, наконец, кипеть.
Даша по телефону больше молчала или говорила односложно.
Вдруг сказала:
— Он уже дома. Вы хотите сказать ему сейчас? Хорошо, я его позову.
Леня подошел и взял трубку.
С тех пор прошло два дня.
Отец умер в городской больнице, куда его привезли на «скорой помощи». У него развилась острая сердечная недостаточность, которая и привела, как сказали врачи, к внезапному летальному исходу, к смерти.
Леня закрывал глаза и видел отца у газетного киоска в распахнутом плаще, с журналом в кармане, с кепкой, зажатой в руке.
В эти дни Леня думал о себе, о своем горе. О матери Леня не думал, точно забыл, что она тоже одна со своим горем.
К ним в дом приходят люди с завода, товарищи отца по армии, соседи. Но какие бы хорошие люди ни приходили, это горе они не унесут, оно останется. И будет с ними, с Леней и с матерью.
Леня вернулся домой, но никого уже не застал: уехали на кладбище.
В квартире было непривычно грязно, не убрано: полы затоптаны, в пепельницах полно окурков. Стулья и диван завалены бельем, подушками, одеялами. В письменном столе выдвинуты ящики: в них что-то искали.
Дверца гардероба приоткрыта, и Леня увидел среди маминых платьев пустую деревянную вешалку. С вешалки вчера сняли и увезли новый коричневый костюм отца.
Леня не выдерживает один в притихших комнатах и убегает в город, где все то, что присуще было отцу: движение, энергия, озабоченность.
Весна залила город снежной топью, разбросала осколки солнца — в лужи, в ручьи, в опавший с крыш битый лед. Улицы пахли мокрыми деревьями и зелеными почками.
Лёне не верилось, что сейчас, когда пробуждаются жизнь и тепло, где-то на краю города уходит из жизни отец. Медные трубы оркестра поют для отца последние песни!
Леня встал на мосту, облокотился о перила и смотрел на весеннюю воду реки, которая гнала и кружила в быстром половодье щепки, бревна, ветки деревьев.
Река успокаивала, уносила наболевшие мысли.
Леня простоял над рекой, пока не продрог, и тогда побрел по городу. Разглядывал витрины магазинов и фотоателье, останавливался у цветочных палаток и театральных реклам — только бы ни о чем не думать, а вот ходить, смотреть и ждать!
Леня замерз. Зашел в букинистическую лавку погреться.
В лавке было мало народу. Продавщица спросила:
— Ты какую книгу ищешь?
— Я? Я не ищу.
И он снова шагает по улицам — автобусные остановки, объявления портных и зубных врачей, металлические кнопки «переходов», толпятся стекольщики у хозяйственных магазинов, окрик: «Эй, паренек! Остерегись!» А-а, тут ремонтируют дом.
Хорошо бы теперь чего-нибудь съесть. Он не ел и не пил с утра.
Леня опять на мосту. И опять смотрит на воду. А вода бурлит, напирает на бетонные опоры моста, вскипает и отваливается от них белой пеной.
Леню трясло, но он не знал отчего: то ли от холода, то ли от нервного возбуждения.
На дне реки разбросаны осколки солнца. Они перекатываются по дну, сверкают, слепят. От этого сверкания и потока воды начинает кружиться голова.
И вдруг Леня вспомнил о матери. Одна она там… Она ведь ждет!.. А он бросил ее… И он мучительно, до боли в сердце, захотел немедленно увидеть мать, обнять ее за плечи и сказать: «Мама, я здесь! Я рядом с тобой».
Все дальше уходил тот день весны, когда похоронили отца.
Каждое утро Леня и мать вместе завтракали, потом Леня брал портфель и торопился в школу. Мать мыла посуду и уходила на фабрику.
Леня старался пробыть в школе после уроков как можно дольше. Помогал в библиотеке наклеивать бумажные карманчики на книги, рисовал стенгазету, работал в зоологическом кабинете: кормил кроликов, чистил аквариумы и птичьи клетки, грел синим светом больных черепах и ужей.
Только бы не идти домой, где на отцовском столе сложены в коробках радиодетали, валяются бруски олова, клеммы, индикаторы.
В каждой из этих вещей был отец: ощущалась теплота его рук, виделись его глаза, прищуренные от дыма папиросы, которую он всегда держал в углу рта. Увлекшись работой, отец не замечал, как папироса гасла. Тогда он ее прикуривал от горячего паяльника и вновь щурился.
У отца была любимая пепельница — высокая консервная банка, в которую мама бросала на кухне горелые спички.
Мама сердилась на отца, что он таскает банку в комнаты. Покупала нарядные фарфоровые пепельницы, но отец оставался к ним равнодушным и снова приносил из кухни консервную банку, потому что на нее удобно было класть паяльник.
Вот и теперь на этой банке долгие дни лежал паяльник.
Над столом отца возвышается самодельный барометр. Стрелка барометра летом и зимой показывает на «великую сушь». Отец изредка стучал по барометру пальцем, пытался передвинуть стрелку, но барометр стрелку не передвигал и продолжал настаивать на «великой суши».
В ванной комнате на гвозде висит щиток для шаринофона из толстой фанеры, которую отец оклеил грушей, протер пемзой и приготовил для полировки.
Отец умер, а вещи отца не хотели умирать! Они продолжали жить, и это было самым страшным. Поэтому Леня и не спешил из школы домой.
А мать была вся в хлопотах. Она готовила еду, убирала квартиру, стирала белье, гладила. Продолжала беречь Леню от повседневных забот, из которых слагается жизнь. Лишь бы он почувствовал, что по-прежнему все устойчиво и спокойно и что его забота остается такой же, как и при отце, — сдавать экзамены из класса в класс.
Леня понимал, что он теперь должен помогать матери, быть с ней внимательным, но пока не мог ничего с собой поделать. Дом, в котором не было отца, не было человека, которого он так любил, стал для него тягостным, гнетущим своей тишиной.
Часто наведывалась Даша. Рассказывала маме содержание новых кинофильмов или учила маму вышивать японской штопкой.
На имя отца поступали письма. Леня письма не вскрывал, а передавал матери. Она медленно распечатывала. При этом бледнела, и губы ее дрожали.
Все в письмах, все слова были обращены к отцу. Леня отводил эти удары от себя, и они ранили мать.
И к телефону Леня старался не подходить: случалось, спрашивали об отце. А Леня не хотел отвечать, и это опять делала мать.
Ночью Леня проснулся. Проснулся неожиданно, как просыпаются от тревожного сна.
Дверь в комнату матери была закрыта. Щель в дверях светилась зеленым светом от настольной лампы.
Мать не спала. Тихо плакала. Леня догадался, что мама достала фотографии отца и письма, которые хранились у нее в кожаной сумке.
И как тогда, на мосту, Лене захотелось обнять мать за плечи и шепнуть ей: «Мама, я здесь! Я рядом с тобой!»
Леня приподнялся на кровати, но зеленый свет в щели погас, и наступила тишина.
Может быть, мать почувствовала, что Леня проснулся, и поэтому погасила свет и перестала плакать.
В эту ночь Леня долго лежал без сна.
Прошло еще несколько дней.
Теплее становились весенние ветры, звонче пели птицы. Развернулись на тополях свежие трубчатые листья, подсох на улицах асфальт и булыжник.
Леня рано вернулся из школы, пообедал, помыл посуду и сел читать книгу «Юный натуралист», которую взял в библиотеке.
Зазвонил телефон.
Леня подошел, снял трубку. Незнакомый мужской голос спросил маму.
— Она еще на фабрике.
— А это кто? Леонид, что ли?
Леня запнулся с ответом, так непривычно прозвучало для него собственное имя: Леонид.
— Да. Это я. А со мной кто говорит?
— Смольников. Доводилось от отца слышать?
— Доводилось.
Леня вспомнил, что Смольников — секретарь парткома завода. Смольников помолчал, потом сказал:
— Я вот по какому делу, Леонид, — нужно сдать отцовский партийный билет.
У Лени нырнуло сердце.
— Сдать? Кому?
— Мне, дорогой, и сдать. А я передам в райком. Придет мать, пускай возьмет билет и принесет на завод. Ну, а ты что поделываешь? Как учеба?
— Учеба ничего, — с трудом ответил Леня.
Он представил себе, как мама побледнеет и как вздрогнут у нее губы, когда узнает, что партийный билет требуется отнести на завод. И вновь она одна. Ей надо идти, а он остается, он в стороне, он опять ждет.
И вдруг Леня тихо, но решительно сказал:
— Позвольте мне принести партийный билет отца.
— Тебе? Что ж, приноси. Кстати, и разговор найдется.
Леня повесил трубку, прошел в комнату к матери и нашел в тумбочке старую кожаную сумку. В ней среди фотографий и писем лежал партийный билет.
Леня взял билет, открыл обложку. Крупными красными цифрами был обозначен номер — 00253497. Под номером было написано Емельянов Андрей Власович, в партию вступил в 1936 году. Личная подпись отца (тушью), подпись секретаря райкома (тоже тушью) и круглая печать, которая краешком захватывала фотографию. Отец был снят в коричневом костюме, в белой рубашке и при галстуке.
Чтобы не заплакать, Леня поскорее убрал в карман билет, громко захлопнул дверь квартиры и выбежал на улицу.
В проходной завода потребовали пропуск.
— Я к товарищу Смольникову.
— Емельяновым будешь, что ли? Андрея Власовича сыном?
— Да, Емельяновым.
— Иди в заводоуправление. Справа, двухэтажный корпус.
Леня попал на заводской двор. Прямо перед Леней по узкой колее паровоз тащил платформу. На платформе были сложены отливки моторов. В стеклах кузнечного цеха отражалось пламя нефтяных горнов. Пламя вздрагивало от ударов паровых молотов. У складов по эстакаде двигался кран. Подхватывал обвязанные тросом ящики с маркой завода, грузил на пятитонки «МАЗы».
Леня пропустил паровоз с платформой и направился в заводоуправление. На втором этаже отыскал дверь с надписью «Секретарь парткома», постучал.
— Входите!
Леня вошёл.
— А-а, это ты, Леня. — И Смольников поднялся из-за письменного стола, пошел Лене навстречу.
Он был в сапогах, в галифе и в кожаной куртке на «молнии». Левый глаз закрыт черной повязкой.
Смольников обнял Леню, и они начали прогуливаться по ковровой дорожке. В кабинете в кадках росли деревца лимонов. Возле окна стоял несгораемый шкаф. Рядом висел план завода, расписанный и размеченный цветными карандашами. Стол был завален образцами проволоки, слюдяными прокладками, графитовыми щетками от моторов. Это напомнило рабочий стол отца. И здесь, в незнакомом кабинете, было близким и понятным. Леня почувствовал себя спокойнее, исчезло смущение.
— Ну, Леонид, расскажи о вашем житье!
— Житье ничего.
— Денег хватает?
— Хватает пока.
Слышно было, как ухали в кузнечном цехе молоты, тонко свистел паровоз.
— Ну, а мать как? Как она у тебя?
Леня смутился: впервые услышал, что мать у него, а не он у матери.
— Мать у меня ничего.
— Что ты заладил — ничего да ничего! Ты, Леонид, следи за матерью. Сам попусту не дергай и другим не позволяй. Ей точно в грудь выстрелили. Ты понять это должен.
— Я понимаю.
Смольников подвел Леню к столу, усадил в кресло. Леня догадался, что наступила минута, которой он особенно боялся. Леня достал из кармана партийный билет отца и протянул Смольникову.
Смольников взял билет, раскрыл и долго, как Леня в квартире, смотрел на первый листок.
Леня сидел неподвижный и взволнованный. Вдруг Смольников начал осторожно отклеивать фотографию с билета. Когда отклеил, протянул Лене:
— Возьми, храни у себя.
И Леня осторожно принял от Смольникова фотографию отца, на которой был отпечатан краешек круглой печати Компартии Советского Союза.
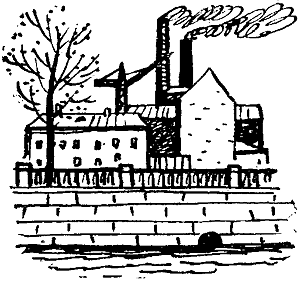 |
(support [a t] reallib.org)