"Об эстетическом отношении Лермонтова к природе" - читать интересную книгу автора (Анненский Иннокентий)
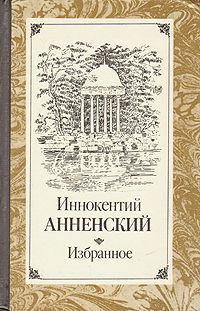 |
Иннокентий Анненский Об эстетическом отношении Лермонтова к природе
Милостивые государи! Речь моя посвящена памяти Лермонтова. На школе лежит долг хранить и поддерживать память о родных поэта. Неблагодарность есть недостаток самосознания. Для русской школы имя Лермонтова не только одно из немногих классических имен, но и неотразимо симпатичное имя. Есть в лермонтовской поэзии особенное, педагогическое обаяние: ей одной свойственна та чистота, почти кристальность изображения, какую мы встречаем в пьесах «Ангел», «Три пальмы», «Молитва», «Ветка Палестины». Боденштедт сказал, что если бы от Лермонтова осталась одна только «Песня про купца Калашникова», этого было бы довольно для его славы;[1] я убежден, что если бы от нашего поэта остались только эти четыре стихотворения, без которых теперь не обходится ни одна хрестоматия, то русская школа все-таки поминала бы его имя с почетом и благодарностью. Говорить о Лермонтове всего естественнее в эти дни, когда память о нем ожила среди нас, благодаря пятидесятилетию со дня его смерти, и сотни тысяч книг с его именем, портретом, стихами хлынули по всей России такой благодатной волной.
Приемы современной истории литературы неблагоприятны для эстетического изучения поэзии. Как ни важна биография поэта, но в ней, к несчастью, минуты, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»,[2] тонут в тех годах, когда «меж детей ничтожных мира / Быть может, всех ничтожней он».[3] Крупнейший представитель исторического метода Тэн,[4] этот натуралист от литературы, порвал с эстетикой и почти уничтожил самый термин «поэзия»: он вдвинул поэтов в ряды литераторов. Еще дальше от поэзии как искусства отвлекает работающих сравнительный метод: тут все силы направлены на исследование сюжетов и мотивов, на литературные влияния и заимствования литература изучается экстенсивно. Третье новейшее направление, так называемое научно-критическое, ставит себе задачей познать писателя и его произведения на основании влияния его на общество — здесь поэзия уже совсем сошла с подмостков и вместе с литературой низведена на степень
Для меня поэзия — прежде всего искусство. В этом ее обаяние, неувядаемость ее славы и ее трагизм.
Поэты — люди особой породы.
Провиденциальное назначение поэта — в переживании сложной внутренней жизни, в беспокойном и страстном искании красоты, которая должна, как чувствует это поэт, заключать в себе истину. Эти искания, в их дисгармонии с прозой жизни, заставляют поэта страдать.
Но его слеза — «жемчужина страданья».[9] Из нее родятся элегии.
Стихия поэта — природа и духовная независимость. Как человек, поэт, конечно, подчинен общим этическим законам, но смешно налагать на него обязанности общественной службы: он вовсе не должен быть учителем или публицистом, проповедником или трибуном. В общей культурной экономии его значение определяется тем, что он своими образами фиксирует смутно и бегло переживаемые нами идеи и ощущения: мы даем ему уголь, а он отдает нам алмаз. Как искусство, поэзия имеет три характерных черты: во-первых, она универсальна — на пир поэзии придет и царь, и убогий, и старый и малый, и слепой и глухой — для глухого поэзия будет живописью, для слепого — музыкой; во-вторых, поэзия дает чисто интеллектуальные впечатления; она не дает непосредственного наслаждения, как музыка и скульптура; чтобы наслаждаться ею, надо думать; в-третьих? поэзия есть самое субъективное из искусств. Живописец дает картину, музыкант — сонату, создания, объективно познаваемые и объективно прекрасные. Поэт отдает нам с произведением свою душу: я вижу его
сказал Лермонтов про поэта. Я не говорю уже о внутренней добумажной работе: черновые рукописи обыкновенно полны поправок, а бросание в огонь неудачных набросков вошло в пословицу. Можно с уверенностью сказать, что высокое поэтическое создание никогда не выходило готовым ни из головы Зевса, ни из пены моря[11] — это скорее феникс, вечно возрождающийся из пепла. Огонь пожрал вторую часть «Мертвых душ», но, кто знает, сколько поэтических созданий возродил он в форме, более близкой к идеалу поэта.
Красота в поэзии есть тот признак, по которому поэты ищут истины. «Истина успокаивает мою совесть», — скажет человек, ищущий истины, чтобы водворить ее в своей жизни. «Истина очевидна», — скажет ученый. «Истина прекрасна, и прекраснейшее создание есть лишь тень прекрасной истины», подумает поэт.
Чувство красоты в поэте обыкновенно тесно соединено с чувством природы. Наука доказала, что эстетическое отношение к природе вовсе не есть нечто исконное: оно развивается с другими душевными свойствами человека. Индусы времен «Ригведы»[12] или греки в эпоху Гомера, конечно, видели в спектре и голубой, и фиолетовый цвет; однако в индийских гимнах небо, украшаясь десятками эпитетов, ни разу не названо голубым, и у Гомера фиалка оказывается черной, а море — пурпурным. Ощущение, очевидно, не было фиксировано. Вот здесь-то на помощь обыкновенно и является искусство, особенно поэзия. У англичан, под туманным северным небом, теперь самый богатый словарь красок, а есть африканские племена, которые под экваториальным солнцем различают цвета только в своих стадах, даже не цвета, а масти. Причина не в природе, очевидно, а в культурности. Кто теперь, увидев Альпы, не подпадет их обаянию: краски серебряные, кисти потоков, розовый, слоистый туман, а между тем Тит Ливии[13] спокойно назвал их «отвратительными» (roeditas Alpium), и едва ли не Руссо первый открыл миру, что в самом сердце Европы покоятся целые залежи чистейшего эстетического наслаждения.[14]
Из всех русских поэтов Лермонтов, может быть, всего непосредственнее и безраздельнее любил природу; он тонко понимал ее. Один живописец Кавказа мне говорил, что нередко поэзия Лермонтова служила ему ключом в кавказской природе. Говоря о природе, наш поэт был замечательно точен. В этом отношении даже пылинки теперь сдуты с его памяти: вроде упрека за «столпообразные руины»,[15] которые повели одного критика к заключению о риторичности Лермонтова (они оказались тополями ранними),[16] или за львицу с косматой гривой на хребте, которой не мог простить поэту покойный профессор Рулье[17] — в последнем очерке «Демона», вместо львицы, оказалась тигрица и уже без гривы.[18]
Много причин способствовало развитию в Лермонтове чувства природы. Природа Кавказа подействовала на него в годы самого раннего детства, когда духовный мир его еще складывался; над ней выучился он мечтать и думать, так что позже, в следующие свои поездки на Кавказ, он останавливался не на новом, а как бы углублял свои ранние впечатления. Далее, несомненно подействовал и самый темперамент нервно-мечтательный, способный и к быстрым восприятиям и к глубоким впечатлениям. В ранних тетрадях поэта сохранились воспоминания о снах, какие он видел трехлетним ребенком, о песнях матери, о детских иллюзиях под вечерним облачным небом. Не одна из его чудных пьес объясняется живучестью детских впечатлений. Так, впечатления восьмилетнего ребенка ожили у него в изящнейшем поэтическом образе через 17 лет:
Важно для безраздельного чувства природы было и то, что у нашего поэта была не пристрастная к людям душа: и жизнь так сложилась, и в натуре у Лермонтова не было экспансивности. Пушкин был поэтом дружбы, Лермонтов посвятил ей всего одно стихотворение: при себе он терпел только друзей-нянек вроде Монго-Столыпина[20] или Ст. Аф. Раевского,[21] и в «Герое нашего времени» осмеял дружбу, впрочем не без горечи. А рядом с этим вспоминается «Мцыри»
и почти дикая любовь Печорина к природе.
Болезненность также косвенно повлияла на развитие в Лермонтове эстетического чувства природы. Хилый и самолюбивый мальчик хотел себя закалить — это его пристрастило к физическим упражнениям, к движению, к верховой езде и еще более таким образом сблизило с природой. Поэты часто обнаруживали потребность движения, перемещения среди природы. Байрон переплывал Дарданеллы, Шелли был мореход. Клопшток[23] и Гете были страстными конькобежцами, вспомним гоголевскую «Тройку»… Может быть, поэты будущего будут велосипедистами и аэронавтами. Лермонтов был хорошим танцором и лихим наездником. Природа часто видится ему «с коня». В природе он особенно любит движение: вспомним чудных его лошадей у Измаил-Бея, у Казбича[24] или Печорина (по-моему, ни Малек-Адель тургеневский,[25] ни толстовские скакуны их не превзошли), вспомним его горные реки, облака, змеи, пляску, локон, отделившийся от братьев в вихре вальса. По описаниям Лермонтова видно, что он не был ни ботаником, как Гете (у него нет этой детальности описаний), ни охотником, как Тургенев и Сергей Аксаков (у него нет в описаниях ни выжидания, ни выслеживания, — скорее что-то открытое, беззаветное). Необыкновенная гибкость и легкость движений в Лермонтове, которые бросились в глаза Боденштедту при первом знакомстве,[26] вероятно, содействовали изящной обрисовке движений.
Наконец, любви и вниманию к природе у Лермонтова содействовало его разностороннее эстетическое образование: он играл на скрипке и на фортепиано, рисовал и писал красками, лепил — с разных сторон, таким образом, подходил он к природе учиться.
Лермонтов любил день больше ночи, любил синее небо, золотое солнце, солнечный воздух. Если из 43 описаний в его поэмах дневных меньше, чем ночных и вечерних — 18 и 25, то это лишь дань романтическому содержанию. Голубой цвет неба заставляет того самого Печорина, который понимал чувство вампира, забывать все на свете. Что за описания у него голубого и свежего утра — вспомните утро перед дуэлью. Но тут было и не одно непосредственное наслаждение: синий цвет неба уносил мысль поэта в мир высший.
К чему тут страсти, желания, сомнения… Небо рождало в поэте и райские видения (Мцыри видит ангела в глубоком синем небе[27]), и мучительные вопросы: в «Валерике» поэт говорит:
Чудные сады в «Мцыри» и «Демоне», будто все пропитанные райским сиянием, рисуются поэту под солнцем и синим небом. Во всех волшебных снах (а Лермонтов любит этот мотив) над поэтом непременно день:
Таков и волшебный сон при плеске фонтана в поэтичнейшем «Мцыри» на речном дне, где:
В «Русалке» картина лунной ночи над рекой сменяется мерцанием дня на дне, где на подушке из разноцветных песков спит рыцарь.
Ночь скорей раздражает поэта. Вспомним чудную, мирную картину ночи, и потом
Человек точно хочет уйти от кошмара.
Луна у Лермонтова принадлежит главным образом периоду наивного романтизма, рано им пережитому. Даже сравнения в этой области художественно слабы: злодей, Армида с рыцарями, белый монах в черном одеянии или шуточные сравнения с блином и голландским сыром.[30]
Как певец гор, Лермонтов любил краски. Особенно любил он белую и голубую. У него встречаются разные оттенки белого — жемчужный и перловый, серебряный, снеговой, лилейный; я не встретил, впрочем, ни молочного и мелового, может быть, оттого, что поэт любит отмечать краски воздушные, солнечные. Для голубого у него является эмаль, бирюза, лазурь; часто встречаются синий, темно-синий цвет. Поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы. «Цветов» в его поэзии почти нет. Розы и лилии у него — это поэтические прикрасы, а не художественные ощущения: «бела, как лилия, прекрасна, как роза» — все это только мелкая монета поэзии. Конь поэта топчет цветы, пока сам поэт смотрит на облака и звезды. Цветы являются у него разве в виде серебряного дождя.
Но главная прелесть лермонтовских красок в их сочетаниях. Я подметил следующие, по большей части из воздушных, прозрачных или блестящих цветов:
Белый с голубым («Парус», «Тучки»)
Синий с жемчужным («Морская царевна»).
Синий с серебряным («Памяти А. И. Одоевского»: Немая степь синеет, и венцом Серебряным Кавказ ее объемлет).
Серебряный с жемчужным (волна)
Синий с золотым
Голубой с золотом (даль и золотой песок — «Три пальмы»).
Голубой с черным (твердь и черный лоскут тучи).[32]
Румяный с золотым (Румяным вечером иль утра в час златой).[33]
Розовый с голубым («1-е января»).
Поэту доставляло особенное эстетическое наслаждение соединение блеска с движением — в тучах, в молнии, в глазах; поэзия его «полна змей»; чтоб полюбоваться грациозной и блестящей змейкой, как часто прерывает он рассказ. У него змейка то клинок, донизу покрытый золотой надписью,[35] то «сталь кольчуги иль копья, в кустах найденная луною».[36] Он видит змей в молнии, в дыме, на горных вершинах, в реках и в черных косах, в тонкой талии, в тоске, в измене, в воспоминании, в раскаянии.
Но обратимся к общей характеристике лермонтовского чувства природы.
Природа не была для Лермонтова случайным отражением настроений, как в гетевском «Вертере» или в романтических балладах. Да, «Вертер» и не мог создаться на Кавказе, где человек слишком чувствует величие природы, чтобы изображать ее то смеющейся, то плаксивой, смотря по тому, в каком расположении духа царь природы встал с постели. В лучшую пору творчества Лермонтов чуждался субъективного пейзажа. Он был замечательно сдержан в этом отношении. Вот Печорин перед дуэлью:
Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз: голова чуть-чуть у меня не закружилась; там, внизу, казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
После дуэли:
У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло; лучи его меня не грели. Вид человека был бы мне тягостен — я хотел быть один.
Тут собственно даже нет субъективного пейзажа, а скорее человек просто не видит и не хочет видеть окружающего. Лермонтов не подгоняет к себе природу, — нет, он подчиняется ей, как часть целому («Горные вершины»); он завидует ее тучам и звездам,[37] он видит в природе бога,[38] вдруг уловив гармонию в сложной и пестрой картине, или, наоборот, хочет уйти от природы, если она его тяготит, лунной ли ночью («Выхожу один я на дорогу») или из-под золотых лучей и лазури («Парус»). Ему смешна мысль, что звезды принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли («Герой нашего времени», глава «Фаталист»).
Лермонтовская природа самостоятельна; прежде всего она красива; все в ней красиво: снеговая бахрома гор, звучные поля при бледной луне, лиловые степи, снеговая постель — могила Тамары — и труп казачки
Природа у него живет своей особой жизнью. Утесы простирают объятья,[40] обвалы хмурятся,[41] Кавказ склонился на щит и слушает море,[42] тучка весело играет по лазури, утес плачет,[43] а сосна грезит о пальме.[44] Больше всего привлекает поэта к природе свобода и забвение, которые ему грезятся в ней: волны, которым их воля и холод дороже знойных полудня лучей;[45] вечно холодные, вечно свободные облака;[46] звезды, которые слушают пророка и песнь ангела;[47] те светила, которые не узнали прежнего собрата;[48] люди, которые не узнают друг друга в новом мире.[49]
Природа не была для Лермонтова предметом страстного и сентиментального обожания: он был слишком трезв душою для Руссо. Быть поэтом-пантеистом, как возмужавший Гете, мешала ему гордая и своеобразная природа Кавказа, да и сам он чувствовал себя перед этой чистой природой слишком страстным, слишком грешным существом. Природа не была для Лермонтова и утомительным калейдоскопом ощущений, как для Гейне: наоборот, он любил постоянство ощущений, образы у него прочно залегают в душе и в поэзии упрямо повторяются. Фантазия его была слишком бедна для космического полета Шелли, этого создателя новой мифологии. Для Байрона он был слишком мечтателен и нежен, может быть, слишком справедлив. Но, может быть, он напоминает Ламартина?[50]
Лермонтов был безусловно религиозен. Религия была потребностью его души. Он любил бога, и эта любовь давала в его поэзии смысл красоте, гармонии и таинственности в природе. Тихий вечер кажется ему часом молитвы, а утро — часом хваления; голоса в природе шепчут о тайнах неба и земли, а пустыня внемлет богу. Его фантазии постоянно рисуются храмы, алтари, престолы, кадильницы, ризы, фимиамы: он видит их в снегах, в горах, в тучах. Но было бы неправильно по этому внешнему сходству видеть в нем Ламартина. Лермонтов не был теистом, потому что он был русским православным человеком. Его молитва — это плач сокрушенного сердца или заветная робкая просьба. Его сердцу, чтобы молиться, не надо ни снежных гор, ни голубых шатров над ними: он ищет не красоты, а символа:
Каков же был общий характер отношения Лермонтова к природе? Мне кажется, что он был
Наблюдение над жизнью любимой природы заставляло его внимательнее и глубже вглядываться в душевный мир человека. Возьмем два примера — его облака и его горные реки.
И мечта, и дума поэта часто останавливались на облаках: постоянно встречаешь в его строках: облако, облачко, тучу, тучки, особенно «тучки» с нежностью.
Каких эпитетов он им ни придавал? — молодая, золотая, светлая, серая, черная, лиловая
Интересно проследить, как изменяется психологическое содержание образа. Ребенок видел в облаках то замки, то рыцарей Армиды (эти картины повторяются потом в юношеской повести «Горбач Вадим»[52] и в «Испанцах»[53]). Позже образ освобождается от своей «мифологичности». Это уже не рыцари, а перья на рыцарском шлеме.[54] Потом — просто перья.
В стихотворении «Бой» (эскиз к «Двум великанам», 1832 г.) изображается, как столкнулись на небе два бойца: один в серебряном одеянье, другой — в одежде чернеца и на черном коне; черный побежден, и его конь падает на землю. В «Измаил-бее», написанном немного позже, столкновение черного облака с белым есть уже чисто воздушная, физическая картина, без всяких признаков грубой сказочности.
В ранней поэме, в «Демоне» облака бродят волокнистыми и вольными стадами и возбуждают в поэте зависть.[56]
В 1840 г. пишет он свои «Тучки небесные». Здесь уже не зависть, а раздумье и горечь:
В любимый образ вложена уже не мечта, а глубокая дума.
Перейдем к горным рекам.
Вот горный поток в 1832 г. в «Измаил-бее»:
Таков и романтический Терек: «воет, дик и злобен»[58] или «прыгает разъяренной тигрицей» (в «Тамаре» 1841 г. он уже только «роется во мгле»).
В 1840 г. в «Мцыри», этой последней лермонтовской дани романтизму, образ горной реки уже одухотворен:
В это время дума поэта охотнее обращалась к спокойным рекам, которые
В «Герое нашего времени» уже реки-то серебряные нити, то обнявшиеся сестры.[61]
Рано горные реки стали привлекать не только фантазию, но и думу поэта. В «Сашке» (1835–1836), где величественный образ Волги еще беден, рефлексия уже работает над образом горного потока. Поэту кажется, что от бурь юности ему остался один лишь отзыв — звучный, горький смех:
В «Герое нашего времени» поэт уже пережил юность — горные реки рождают в нем думу, даже философское размышление.
Страсти, —
В последний год жизни поэт написал свою «Отчизну» (ее обыкновенно неверно называют «Родиной»).[63] Нигде чувство любви к природе не выражалось у Лермонтова с такой простотой и правдой, не украшенное и не преувеличенное, освободившееся от романтизма юности, но свежее и бодрое.
К этой природе, спокойной и могучей (на «милый север»), — стремился поэт от пережитых им бурь и потоков Кавказа. Может быть, он открыл бы нам в ней, в нашей природе, новые художественные тайны. Но творцу угодно было отозвать его в лучший мир. Говорят, что во время дуэли, под дулом пистолета, у него было веселое лицо. Жалеть ли о нем? Может быть
(support [a t] reallib.org)