"Трижды стожалостная без слов" - читать интересную книгу автора (Абеле Инга)
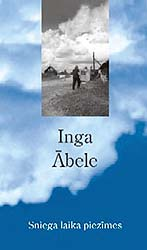 |
Инга Абеле
Трижды стожалостная без слов
То было одно видение, одно ощущение сквозь сон - словно тронуло струну и тотчас сгинуло во тьме, как выводимые дрожащей рукой бесконечные оправдывания. И безнадежные.
Она поглядела в окно. Почти свободная, лишь немного отягощенная человеком природа и те же отношения между землей и небом. Она завязала волосы высоко на затылке, подвела черным глаза, чуть размазав пальцем грань между краской и кожей, густо накрасила губы. Срезала верх у пластмассовой бутылки, поставила на донце огарок свечи, зажгла и украдкой вышла из дому.
Мгла уже там и сям сгущалась во мрак, воздух был студеный и морозно обжигал горло. Затянем трижды стожалостную, и да хранит нас Господь, говаривал ее дед. Меня зовут Синтия, твердила она зеркалу и псу, который c сопеньем ворошил тряпье в углу кухни, устраиваясь на ночлег, меня зовут Синтия, повторяла она и тому, кто крался за ней по пятам, когда она уходила со свечой по дороге.
– Тебя зовут Синтия? - спросил трижды стожалостный голос с гранитно тяжелого неба. - Ты куда идешь?
– Свечу несу, не видишь, что ли, - солгала она. Потому что видимость это одно, а правда - другое.
Голый холм холодно дышал за стеной ольшаника. Безгласно умирали, стоя, серые пучки осота, черные ошметья полыни. Желтая трава. Желтая трава. Споем трижды стожалостную, дед. Туман, как холодная простокваша, сгущался во мрак и зиму, с зеленого поля озирались косули. Казалось, еще только где-то будет большой дом с желтым светом в мутных бумажных абажурах, будут люди, которые с потными лицами хлебают щи и обгладывают сизые, подернутые черным мясом ребра скотины. Ты еще только будешь маленькой, людям по пояс, нет, собаке по холку, будешь ныть, держась за край стола, стараясь выжить в этом жарком и жирном чаду и спастись от громадных кошек, которые будут терпеливо молоть своими хищными мельничками, переминаясь на полу и запуская в него когти в ожидании поживы. Ты будешь жить быстро, чтобы щелястые балки не успели прорасти сквозь твою грудную клетку и жирная вонь не впиталась в мочки ушей, и тебе удастся бежать. Будет ночь, и отпечатки созвездий будут тихо светиться над окоемом, как останки древнего существа, когда ты, босая, вынесешь на порог миску супа, чтобы остудить.
Как ты взглянула в ту ночь и куда? Почему замерла на месте, всматриваясь в непроглядность? Что ты почувствовала в те мгновенья, что узнала?.. Почему остановилась? Почему умолкла? Все безжалостней пишется эта трепетная весть, окоченевшие пальцы выбивают ее на шкуре действительности, а почему бы и нет - тогда этот дом еще нигде не был написан, так почему бы сейчас ему не быть, хотя бы в этаком виде?
Туман где-то среди пустоты сгущается во мрак, холод и в дом.
Когда она проходила мимо соседей, собаки молчали, казалось, будто во всеохватном покое развешаны серо-черные мглистые полотна, и под ними она, не кланяясь, прошагала со своей свечкой, которую трепал ледяной ветер. Она держала над огнем прозрачную ладонь. Позванивали сережки и браслеты на голых запястьях, тонко голубели жилки. У придорожных камней были такие же жилки, как у нее, лишь ток крови не столь заметен. Когда пощекочешь их летом теплыми ласковыми ладошками, камни смеются внутрь себя, даже бока не вздрогнут, только изредка на лбу проступит капелька росы от напряжения внутренней жизни. Споем трижды стожалостную? Идет! Меня зовут Синтия, его зовут Вилнис. Или Марек. Или Эдмунд. А может, так: меня зовут Янис, а ее Дина? Только не говорите ей, она-то думает, что ее зовут Синтия. Она хихикнула, отмахнувшись на прощанье подошвами сапог от желтоватых сосед-ских взглядов из-под края занавесок. Хи-хи, Синтия, думают они, Синтия снова бродит по дороге и ждет Вилниса. Нет, нет, скажет кто-нибудь другой, может, Алма так
скажет - у Синтии свеча в руке, она идет... куда же она направляется? Куда она идет, Синтия со свечой?
Ай-я-а, Алма, Синтия идет в овраг к барону, тут уж вам не поспорить. Мокрые темные поля кругом, их рассекает белая река дороги, и по ней уходит Синтия со свечой, и пусть никто не смеет говорить, что она снова бродит по свету, поджидая Вилниса. Пусть никто больше не говорит дурного о Синтии, в темноте хорошо видна свеча в ее руке, огонек, который далеко светит, и с этим не поспоришь. В сырой мгле чернеет метелка конского щавеля. Желтая трава. Кажется, будто ты кружишь сама вокруг себя. Истлевший мешок из-под картошки повис на кустах вдоль канавы. Полная тишина и полный покой. Только ветряная мельничка, почернелая и покосившаяся, бьется на ветру за холмом. Гуденье телефонных столбов нарастает и пропадает вместе с шагами, которые ты отсчитываешь в пустоте. Шаги вырывают из тумана голые кусты шиповника, и туман многократно увеличивает их. Промеж колючек и красноватой путаницы ветвей вспыхивают, пламенеют плоды. Вспыхивает, пламенеет красно-бурое, исчерна-бурое, серовато-бурое, зеленое - цвета мха и кружевное салатовое, золотисто-оранжевое и серебристое кое-где в пазухах листьев. Белая ольха с инкру-стациями тумана. Куда же в такую пламенеющую ноябрьскую ночь идет Синтия со свечой в руке? В овраг к барону? Зачем? Чего ей там искать? Уж не бродит ли она, ожидая возвращения Вилниса? Нет, нет, вы не смеете утверждать такое, вы, все наимудрейшие в Курземе. Дед, даешь трижды стожалостную! Громче, еще громче! Музыка бешено гремит, телефонные столбы увлекают за собой все быстрее, Синтия бежит, высоко поднимая длинные ноги в резиновых сапогах, то и дело носками пристукивая в такт. Потом вдруг остановится, обернется вкруг и отвесит поклон. У Синтии не все дома, так говорят они, все мудрейшие здесь, в Курземе. Она, эта бедняжка Синтия, любит, бережет и обихаживает своих деток, мужа, дом и животных в доме, землю, растения и скотину, а по ночам порой бродит по дороге, будь ясная ночь или сплошной туман, когда и луны-то не разглядеть. Она ждет Вилниса. Не-ет, лукаво усмехнется Синтия, прежде чем бросить им в лицо слова: в овраг я иду, к барону! А зачем ты туда идешь? Приспичило свечку поставить на давно забытую могилу? Или все же тянет хоть уголком глаза поглядеть на большое шоссе? Как там с шуршаньем носятся туда-сюда сверкающие машины?.. Ну, говори, признавайся! Разве нет у тебя такой страстишки - на перекрестке больших дорог поболтать с шоферами-дальнобойщиками так, что и про время забудешь, и часы оборачиваются днями? Разве тебе не доставалось от мужа за это? Не забыла, как мы однажды летним утром приняли тебя за косулю и едва не затравили собаками, когда ты, бедняжка, донельзя вымокнув в росе, брела через ржаное поле с одурелыми глазами... Заткнитесь! Умолкните. Трам-парам, трам-парам, громче, старый, даешь трижды стожалостную сегодня в этой могильной тишине!
Запыхавшись, она останавливается и срывает с разгоряченной кожи на лбу влажную водяную корку. Сквозь тучи сочится дождь, шипит свеча, юбка колоколом бьется о ноги, ветряная мельничка знай вертится и зудит что-то надоедливое, здесь, в Курземе. Неспешно, будто несомая тьмой светящаяся гнилушка, она выскользнула из тисков привычных будней и заплыла в еле видную сквозь туман аллею.
Да она и есть иссушенная своим непокоем деревяшка, сучковатая коряга, почему она так делает, почему она так делает? Почему я так делаю? Я знаю, почему я так делаю, - я же Синтия... Нет, не то. Я знаю, почему я так делаю, - его зовут Вилнис... Нет, снова вздор. Я знаю, почему я так делаю. Там, за оврагом, - шоссе, да, большая, настоящая, живая дорога, с хрустким, словно в сахарной глазури, асфальтом и сбитыми животными. Люди ездят на машинах по этому бесконечно длинному и чистому шоссе, которое никогда и нигде не кончается, ведь в конце можно к одному присоединить другое, а где начинается другое, там кончается третье. Там ездят люди. Люди! У Синтии от восторга захватывает дух. Она потрясена собственным признанием, которое бухнуло сквозь туман, словно яблоко к ногам, она не знает, что с этим делать, в растерянности даже упустила прядь волос к пламени свечи, шр-р-р, искры взбегают кверху и выдыхаются, как небывшие, как оправдывания, выводимые дрожащей рукой. Безнадежные к тому же. Она поднимает с земли яблоко и шагает дальше, не смея откусить от него. Как ноют зубы, если укусить стылое яблоко! Споем трижды стожалостную. Желтая трава. И как только люди умудряются избегать соседских взглядов здесь, в Курземе. Те, там, на шоссе, знают ли они, как больно колет меткий, брошенный из-под занавески взгляд? Дед каждый вечер говорил - спасибо вам за все, потому что не знал, в которую ночь его не станет. Мама смотрела ТВ и спрашивала только одно останутся они вместе под конец или нет? А писать надо без расчета, и не дрожащей рукой, а молча, страстно, сильно. Меня зовут Синтия. Она стискивает свечу, пластмассовая бутылка трещит. Пластмассой не порежешься. Другое дело - стеклом.
Пес или, может, его тень, пропал. Наверное, убежал гонять косуль. Или услыхал издали, как его кличут. Кличут собачьим именем. Меня зовут Синтия. Почему я притворяюсь, будто не слышу, что меня зовут? Уже который год. Который год. По колена в листьях она брела к баронской могиле напротив оврага. Стволы деревьев вокруг - будто воткнутые в землю черные пальцы, самой ладони не разглядеть во мгле. Эта стылая плоть холодна и не дышит, я блуждаю в ее гуще, истыканной пальцами. "Heinrich von Fircks". На каменных столбах повисли черные цепи. Мороз щипал голяшки, она потерла ногой об ногу и поставила свечку к высеченному в камне кресту. Кровяные жилки в камне. Три могильных холмика поросли плющом. Меня зовут Синтия, этого нельзя забывать.
Какое-то время она стояла, немо всматриваясь в темноту, сгущавшуюся вокруг деревьев. Там, за туманом и тьмой, озеро, несколько домов, где живут люди, и летняя усадьба Хайнриха, где прогнившие полы густо проросли плауном, там болотистые луга, леса и сияние красок в небе, осенью - до самого моря там песчаная дорога, а за развилкой - сине-черный еловый бор, где зимой и летом рыщут на воле собаки лесника, добродушные и желтоглазые. Но все это она только знала, перелистывала в уме, как ребенок книжку с картинками, потому что сейчас виделось одно лишь Ничто. Большое черное Ничто проступало сквозь недвижные деревья, из тьмы сюда тянуло как бы непрерывным дыханием, словно там, в низине у озера, которого не видать, тихо спит и дышит огромное лицо, выпуская из ноздрей и рта легкие струйки холодного воздуха. Деревья потеряли свое обличье, корни и кроны, это были просто серые куцые обрубки, а не липы, дубы или ясени. Деревья растворялись во мгле, кружевно сквозили, как куски сахара в воде, сквозь них можно было разглядеть смерть. "Heinrich von Fircks geb. den. 7 Nov. 1831, gest.den. 25 Nov. 1889". Меня зовут Синтия. Ничто больше не имело своего обличья, когда начинала густеть мгла. Была надпись "Heinrich", а самого его не было. Не было озерной низины, чтобы на нее посмотреть. Быть может, она смотрела себе в лицо. Может, она дышала себе в лицо. Может, то были ее пальцы, что вогнали корни в землю? Она быстро нагнулась и потрогала эту холодную, безмерно холодную землю. И отдернула руку, как когда-то в детстве отдернула руку от мертвого коня. Конь лежал за конюшней, его уже вытащили на увоз, моросил дождь, и шкура его блестела, усеянная мелкими водяными бусинками. Взрослых поблизости было не видать. Она остановилась и стала разглядывать коня. Живой, конь равнодушно носил ее на своей старой спине, которую, будто ножом, делил надвое острый хребет. Она болтала ногами по бокам этой большой горы и с интересом следила, как из глубин теплой конской плоти рождаются шаги подобно медленному и бережному землетрясению. Когда конь останавливался, чтобы пощипать зеленых ростков, она дергала его за гриву, и он шел дальше. Как бы далеко они ни забредали, он под конец всегда находил дорогу домой. И вот вдруг конь лежит под дождем за конюшней, Боже ж мой, большая серая гора, она коснулась его и тотчас отдернулась. Коню не хватало одного измерения, которое обволакивает все живое жаркой тенью готовности двигаться. Невидимого обещания будущего или минувшего слоя времени. И вот время остановилось, конь занимал ровно столько места, сколько его плоть, даже меньше. Дыхание больше не сквозило в нем, и тепло его не могло осушить ни единой росинки, хотя прежде апрельскими утрами он ступал по полю весь в облаке, словно озеро в тумане, пот и пар не задерживались на нем, пот с его спины с шипеньем ведрами возносился по ветру, как густой дым, всходило солнце, и слышно было лишь визг плуга да голоса птиц. То, что теперь недвижно лежало на земле с окостенелыми ногами, сжавшееся в комок и залитое дождем, было только свертком, конченым делом, брошеным, выстуженным домом. На нем осталось темное пятнышко, там, где коснулись ее пальцы. Она поспешно пошла прочь. Безмерно холодный и твердый конь. Безмерно, безмерно холодная земля. Уже и свеча больше не грела руку.
Уходя, она еще раз обернулась к темноте, из которой сквозь деревья струился холод, обернулась инстинктивно, как поднимает крестьянин обслюнявленный палец, чтобы узнать, откуда дует ветер. Крохотная мысль скользнула и исчезла. Почему он выбрал такое место для своего упокоения, этот Хайнрих? В этом нигденикогдашнем овраге, где полгода царит сумрак, на краю света, среди деревьев, у которых и имени-то нет? За тысячи верст от сияющих в огнях мегаполисов, триумфальных арок и шоссе? Меня зовут Синтия, твердит она, меня зовут Синтия. А кто эти двое, что улеглись с ним рядом? Его зовут Вольфганг, а ее зовут Хилдегарде? Ее - Эмилия, а его - Карл? Может быть, кого-то из них зовут Маргарета?
Трижды стожалостная дрогнула в воздухе, как подстреленное крыло, и готова была отступить. Поднимаясь по откосу вверх, Синтия оглядывалась, и чем выше она поднималась, тем больше разрасталось пламя свечи. С каждого очередного взгорка казалось - желтый свет заливает все новые и новые площади. Вот уже загорелись все три могилы, с мощным треском пылает крест. У Синтии больше нет свечи в руке. Не валяй дурака, Синтия, почему ты свернула влево, а не обратно, как подобает порядочной жене и матери! Мы были правы, у тебя влажные подведенные глаза и ярко-красные губы. Ты хочешь идти на шоссе, Синтия. Меня зовут Синтия. Желтая трава. Ну-ка, без уверток, Синтия, не тереби в кармане стылое яблоко, возвращайся домой. Воскресный вечер, да и слишком поздно, чтобы кого-то еще увидеть на шоссе. Синтия швыряет огрызок яблока в траву и стискивает губы. А я хочу. Ну хоть самую чуть-чуть-чуточку посмотреть. Чертовский туман затянул весь мир, да и свечи больше нет у меня, вон, и трижды стожалостная отступилась, капитулировала и тащится домой, подстреленная, застреленная, поджав несуществующий хвост промеж несуществующих задних ног. Джунгли. Джунгли. Желтая трава. Для того и задние ноги, чтобы поджимать хвост. У меня нет хвоста, меня зовут Синтия. Тут непроглядные джунгли вокруг. Вершины деревьев, вросшие в туман, сосут влагу, будто огромные узловатые провода. Ну почему мне нельзя туда, где хоть что-то можно разглядеть? Она бросается бегом через яблоневый сад. Его зовут Вилнис. Я устала. Может, его зовут Юрис, а меня Марта? Или меня - Ивета, а его Валдис? Может быть, Айвар? Почему бы ему не быть там, на том большом черном шоссе, не мчаться вперед на блестящем автомобиле или скользить с горы на гору словно призрак, словно медлительная память, пока он не увидит меня, затормозит и откроет окно? Я бы позвала его, я бы крикнула, - Синтия останавливается и взволнованно прижимает руки к груди, - я бы крикнула ай-я-а, ау, Ви-и-л-ни-и-ис! И так же громко, как сейчас, забилось бы сердце, и так же радостно, как он на меня, я смотрела бы на него, Вил-ни-ис! Привет, Синтия! Здравствуй, брат, сказала бы я ему. Как поживаешь, Синтия? Ай, да все хорошо, Вилнис. Муж хорошо относится к тебе? Ай, да хорошо, только иногда, ну, ты сам знаешь, и поцапаемся. На прошлой неделе закололи большую свинью. За землю уплатили и за электричество. А дети твои здоровы, Синтия? спросил бы он и положил бы на край дверцы свои пальцы в золотых кольцах. Дети здоровы, только на крылечке, которое ты забетонировал перед уходом, недавно выкрошилась одна ступенька, и потому я боюсь за тебя. Почему ты боишься за меня, Синтия, у меня все хорошо. На шее у него была бы широкая золотая цепочка, далеко видная в тумане. У меня-то все хорошо, гляди, какие у меня золотые кольца на пальцах, какая широкая золотая цепочка на шее и большая, черная машина. Присаживайся рядом, Синтия, едем поглядеть, как ты живешь. Ай, да там все как было, смущенно сказала бы она, ты все это знаешь не хуже меня, ничего не изменилось, однако она с большим удовольствием села бы в теплый салон, где пахло бы новой машиной и ванилью. Они ехали бы медленно и долго. Наверно, у Вилниса были бы фарфоровые зубы вместо тех, что ему выбили на танцах. Они бы отпивали по глотку теплого, ужасно противного бренди, и его всегда было бы вдоволь, как всегда бывает вдоволь самогону. Вечером она постелила бы ему в маленькой комнатушке, на дедовой кровати, которая вот уже столько лет стоит пустая. Ночью она не раз прокрадывалась бы на цыпочках в комнатушку поглядеть на большое, полное жизни отражение в зеркале на стене, чтобы убедиться, что он здесь и дышит во сне, - размытое отражение в зеркале, единственное свидетельство истинности ее детства, свидетельство о времени невероятного покоя, до того, как начался этот необъяснимый непокой. Вот тут бы и пригодилась та вещь, что зовется жизнью, чтобы разделить ее с тем, кто понимает, что это значит, и кто способен оценить то, что его положили в дедову кровать.
В этот миг она и вправду увидела на дальнем холме черную низкую автомашину, которая медленно скользила по шоссе, как бы обследуя кусты. Трижды стожалостная! Ей надо подобраться ближе. Синтия, спотыкаясь, прорывалась через заросший луг, дыхание увязало в груди, в мыслях были только шоссе, машина и желтые поля по ту сторону дороги, где песок внезапно, без предупреждения переходит в черную землю, а черная земля в песок, и так без конца и без начала, потому что все охватила собой мгла.
Бух! - она свалилась в канаву, еще пересечь густой кустарник со звериными тропами, и тогда она сможет разглядеть. Словно беззвучные нетопыри, стайкой вылетели из мглы косули. Синтия вжимается в песок канавы, пока воздух над ее головой вспарывают козьи ноги. Животные, высоко взбрыкивая, пересекают канаву, далеко светят белые зеркальца на их задках и растворяются во тьме луга, словно легкие мазки светлой краски. На кусте перед ее глазами только недвижный ярко-желтый листок. Синтия тотчас вскакивает и выбирается на желтую траву, которая вспыхивает оранжевым в темноте. Она останавливается, черная точка на краю болота, и подставляет лицо, пытаясь уловить тот ветер издалека.
Вон, вон еще один выбежал, крой, пали! - говорит сидящий сзади сидящему впереди, и ствол напрягается. Когда он выстреливает, Синтии кажется, будто ей кто-то из большого далека задал два вопроса. Она удивленно смотрит на свой живот и не может ответить сразу. Меня зовут Синтия. Затянем трижды стожалостную, говорит дед. Я не могу, кричит она и валится ничком на землю. Все закружилось в бешеном танце, дед стучит кованым каблуком по полу так громко, что гремит весь дом, а она не может, она босиком выбежала на порог остудить свою миску супа. Брат тянет миску к себе, она падает и разбивается в черепки, в пальцах застревает капуста. Ай, Вилнис! Я вам новый порог отлил, и теперь я ухожу. Правда, это было позже. Такая вдруг наступает глубокая тишина, слышно, как громко задышала собака, потом замерла. Слетает тень ребенка, ма-ам, зачем нам все время идти, посмотрим тишину!.. А она все не может и не может ответить, ну что это за вопрос, от него больно. Сердце заходится все быстрее и быстрее, музыка все громче, трижды стожалостную споем, трижды стожалостную без слов, кричит дед и ужасно хохочет над своей шуткой, сердце гулко бьет вместе с их шагами по мерзлой земле, когда они подбегают посмотреть, кого подстрелили, и потом бросаются прочь, крича друг другу - ну и дерьмо, это же человек! Давай, сваливаем, живо!
Ее зовут Синтия, кто-то разрезал ее пополам, и из нее на эту мерзлую землю толчками выливается кипяток. Она не хочет отдавать и пытается пальцами удержать в себе, но все вокруг уже закипело от ее жара, мгла шипит и пеной стекает на ее губы, и обожженные пальцы отступаются. Вдоль всего шоссе желтые поля, где песок без предупреждения переходит из желтого в черный, из черного в желтый, и так без конца и без края, потому что все вокруг охвачено густой мглой.
Споем трижды стожалостную, говорит дед и разгибает спину.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |