"Ливень" - читать интересную книгу автора (Романова Наталья Игоревна)
Глава IV. Хороший заяц, который стоял в очереди
В углу стоит альбом. Он живой. Вернее, в нем, в альбоме, живут два существа, два рачка. Когда я раскрываю альбом, рачки начинают рассказывать. В воде рачки не умеют говорить. В воде они плавают, едят, любят. А здесь, в альбоме, рачки научились разговаривать. Для этого каждый день, много дней подряд умирали рачки, умирали под покровным стеклом в капле воды, умирали в разных позах, умирали для того, чтобы возродиться на бумаге. Каждый рачок отдавал черточку, точку, линию — и вот они создали двух новых рачков.
Два рачка переговариваются между собой. Я не всегда понимаю, о чем они говорят. Иногда я совсем перестаю их понимать, тогда я сержусь, и мне кажется, что они замолчали. Но я ложусь спать и утром, открыв альбом, снова слышу их речи.
В раздевалке я встретила Севу.
— Сева! Какой у тебя портфель! Модный…
Я люблю смотреть, как Сева смущается и старается скрыть свое неудовольствие от моих, как, вероятно, он считает, «бестактных реплик». Сам Сева всегда безукоризненно тактичен. Если вдруг оказывается, что я чего-то не знаю, что должна знать, Сева находит способ это сгладить. Меня такое отношение и трогает, и злит. Возможно, поэтому я нарочно стараюсь быть с ним бестактной. Сева не выносит, когда говорят о его одежде. Он всегда одет лучше всех. Но такое впечатление, словно он от этого страдает. Словно он с удовольствием носил бы совсем другие вещи, но, увы, их нет. Кто-то приобретает, кто-то покупает, а он, несчастный, должен носить. Поэтому все вещи, даже самые модные, самые красивые, на нем висят. И кажется, будто Сева движется сам по себе, а вещи сами по себе.
— Сева, ты торопишься? Я хочу тебе показать альбом. В дипломной кто-нибудь есть?
— Нет.
Мы поднимаемся на четвертый этаж. Заходим в дипломную. Давно я здесь не была. Почти полтора месяца. Писала дома первые главы: постановка вопроса, методика…
Развязываю альбом. Сева смотрит рисунки.
— Железно, — говорит Сева, и я понимаю, что альбом ему нравится.
Глубоко в земле лежат черепки. Роют землю, находят черепки и узнают, как когда-то жили люди. Я ничего не рою, не нахожу никаких черепков, я просто смотрю, как развивается обыкновенный рачок. Современный рачок. Рачок двадцатого века. А должна узнать, как когда-то, много веков назад, одно живое существо превращалось в другое.
— Сева, сейчас я тебе что-то скажу, но об этом никто не должен знать. Ты мне даешь слово?
— Конечно.
Я знаю, Севе можно довериться, на него можно положиться. Так же, как на себя.
— У меня катастрофическое положение. Установить, кто от кого произошел, я, по-моему, не смогу.
Сева очень удивлен:
— Но ведь ты давным-давно все установила.
Я не знаю, как лучше Севе объяснить, чтобы он меня понял, чтобы поверил. Ибо сейчас, когда я еще не могу привести в свою пользу никаких доказательств, мне нужно, чтобы мне поверили на слово, чтобы поверили в меня, в мою интуицию.
— Понимаешь, Сева, меня и Николая Ивановича обманули мои первоначальные рисунки. Они точно соответствовали классической схеме. Но теперь я сделала все рисунки. Казалось бы, ничто не изменилось. Новые рисунки отвечают той же схеме. С оговорками, с допущениями, но отвечают. Однако может же быть так, что факты, соответствующие определенной схеме, но имеют с ней ничего общего. Пойми, все эти рисунки сделаны мной. Для меня здесь каждая черточка и каждая точка живая. Я их физически ощущаю. И пусть все, да, пусть все считают, что я доказала, будто пресноводные рачки произошли от соленоводных, а я чувствую, понимаешь, чувствую, что ничего не доказала и доказать не смогу.
— В науке думают, а не чувствуют. Почему-то там, где надо, ты ничего не чувствуешь. А там, где не надо…
— Ну, а если мы здесь столкнулись с простым приспособлением личинок к различной среде их обитания? — говорю я Севе, делая вид, будто не поняла, что он мне только что сказал. — Личинок артемии — к соленой воде, а личинок бранхипусов — к пресной.
Сева думает. Прикусил нижнюю губу и думает. То, что он сейчас от меня услышал, — гипотеза. Но все дело в том, что если эта гипотеза верна, то она разом уничтожает все мои прежние результаты. И этого Сева не понять не может. Я жду.
— Надо все рассказать Николаю Ивановичу. — Сева что-то сегодня необычайно решителен. Даже костюм на нем перестал висеть.
— Ты же знаешь, что этого делать нельзя.
— А оставаться в такой ответственный момент без руководителя можно?
Сева, конечно, прав. Но ведь Николая Ивановича отозвали с кафедры для какой-то очень серьезной работы. Его освободили от всех дипломников. На особом заседании кафедры решалось, что делать со мной. Николай Иванович заверил всех, что мой диплом готов, и только поэтому его оставили моим научным руководителем. Мне Николай Иванович после заседания сказал: «Ира, не стесняйтесь; если нужно, приходите». Но одно дело прийти посоветоваться по поводу какой-нибудь мелочи, а другое — прийти и сказать: «Моя работа никуда не годится. Надо все начинать сначала».
— Нет, к Николаю Ивановичу я не пойду. Я не могу к нему пойти.
— Тогда нужно, чтобы тебе дали другого руководителя.
— Другого?
Сева ищет выход из положения, но то, что он предлагает, не реально. Николай Иванович у нас на кафедре единственный специалист по сравнительной морфологии. И значит, нового руководителя надо приглашать из института Северцева. Это можно было сделать в начале учебного года, но ведь сейчас уже середина февраля.
— Тогда я не знаю, что делать. Нет выхода. — Сева говорит это так, будто речь идет о нем, о его работе.
Мне очень дорого это. Сейчас, когда рядом нет Николая Ивановича, мне важна любая поддержка, даже просто сочувствие.
— Выход только один. Еще раз попробовать разобраться во всем самой.
Сева смотрит мне прямо в глаза. Это так необычно для него. Глаза у Севы все-таки очень красивые…
— Ты думаешь, я не справлюсь?
— Ирине Морозовой привет! — В комнату входит Виктор. — Ваше сиятельство назначило мне свидание — и я явился. — Рассматривает альбом. — Как жалко, Морозова, что Северцев существовал до тебя! Иначе мировая известность тебе была бы обеспечена.
— Ладно. — Я закрываю альбом.
Виктор развязен и весь дергается. Виктор вообще дергается, но сегодня особенно. Нервничает.
Сева берет со стола красивый модный портфель и уходит.
— О чем же пойдет речь? — спрашивает Виктор.
— О Тане.
— Я так и знал! Я видеть ее не могу.
— Но ведь у вас было все так хорошо.
Виктор вспыхивает:
— А ты откуда знаешь? Ты же с нами почти не виделась. Кстати, ты уже наконец поцеловалась с кем-нибудь?
Отвечаю очень спокойно:
— При чем тут я? Речь идет не обо мне.
— А при том, что я помню, для тебя это всегда был удивительно серьезный вопрос.
— Но ты же к Тане тоже относишься серьезно.
Виктор встает и начинает нервно ходить по комнате из угла в угол.
— С десятого класса ты стараешься вбить в голову мне и Тане, что я ее люблю.
— А разве ты ее не любишь?
— Да, не люблю и тянуть больше не имею права. И знаешь что — хватит об этом. Считай, что ты свою благородную миссию выполнила. А тебе я советую все-таки поцеловаться с кем-нибудь… Ведь время идет, сколько тебе уже?.. Двадцать один есть?.. Так ты со своими «открытиями» жизнь пропустишь.
Я понимаю, Виктор сейчас нарочно старается меня обидеть, чтобы прекратить неугодный ему разговор. Я терплю. Для меня сейчас Танька важнее собственного самолюбия. Только я никак не могу понять, если он никогда ее не любил, то что же это тогда было? Нет, он врет мне.
— Витька! Я тебя прошу, я тебя очень прошу: помирись с Таней.
— А я тебя прошу устраивать свою судьбу. Кстати, как поживает твой новый друг Алеша? Я что-то давно вас не видел вдвоем. А вы вместе хорошо смотритесь. Певица Люба права… Кажется, вы наконец разозлились, свет Григорьевна. Теперь я могу спокойно уйти.
Маленький, желтый, гладкий шарик плавает по воде. Поверхность шарика мелко-мелкозернистая. Но все равно кажется, что каждое зернышко шарика отражает свет самостоятельно. Слишком уж сверкает и переливается этот шарик на солнце. Шарик лопнул, и из шарика выплыл науплиус. Выплыл и запрыгал. Сначала он прыгнул вверх, потом вниз, потом снова вверх. У науплиуса есть науплиальные ножки. Он вытягивает их вдоль тельца по швам и устремляется вверх. А потом наоборот — взмахивает ими и падает вниз. Вверх — вниз, вверх — вниз, прыг-скок. Науплиус маленький и, как все маленькие, очарователен. У науплиуса есть голова, один так называемый глаз науплиуса, две антенны (это два уса) и маленькое симпатичное тельце. У науплиуса все есть. И он такой хорошенький, что хотелось бы, чтобы он навсегда остался таким и прыгал возле берега в прозрачной соленой воде. Но науплиус не может остаться науплиусом. Науплиус обязательно должен превратиться в метанауплиуса. А метанауплиус не так прекрасен, как науплиус.
В пресной воде тоже плавают шарики, только они не гладкие, как те, которые плавают в соленой. Они похожи на покрышку от футбольного мяча…
— Ира, тебе звонит Алеша. — Это голос папы.
— Скажи, что меня нет.
— Но я уже сказал, что ты дома и занимаешься.
Беру из папиных рук телефонную трубку и кладу на рычаг. Потом, словно ничего не произошло, спокойно отправляюсь на кухню за супом. Наливаю суп и сажусь к столу. Мама уже доела суп и сидит перед пустой тарелкой. Папа грызет кость. Раздается пронзительный свист — папа старается втянуть в себя содержимое кости. Свист сначала долгий, потом прерывистый, потом захлебывающийся — мозг пошел. Папа причмокивает языком.
— С интересом наблюдаю за развитием твоего романа, — говорит папа и снова принимается за кость. Папа отличается удивительной способностью — он умеет разгрызать кости любой толщины. — А тебе не кажется, что ты зря так поступаешь?
— Я не знаю, о чем ты говоришь.
— Положим, ты знаешь, но мне не трудно пояснить: только что тебе позвонил Алеша — ты бросила трубку.
— Значит, иначе было нельзя.
— Я же не спорю. Я просто высказываю тебе свои интересные наблюдения. — Папа берет салфетку и вытирает руки, — Моя тетя, как ты знаешь, она была старой девой, так вот она тоже…
Чтобы не разреветься, я встаю и выхожу из комнаты. Я слышу, как мама ругает папу, как папа оправдывается, говорит, что не понимает, почему я обиделась, ведь мне же не тридцать лет. А он не виноват, что у него тетка была действительно старой девой. И вообще все эти наши тонкости не для него. И кстати, он прекрасно знает, почему мама сейчас устраивает ему этот скандал: не из-за дочери, о которой он думает не меньше, чем она, а из-за кости.
— Да, да, из-за кости! Я прекрасно все видел по твоему лицу. Ты не переносишь, когда я грызу кости. Так будь последовательна: либо не давай мне их, либо…
Итак, я старая дева… бросаю трубки… А ведь мы вместе «хорошо смотримся», «Люба права»… Еще бы, ведь это она познакомила меня с Алешей, хотя я очень этого не хотела.
Как-то Люба позвонила мне и попросила прийти на премьеру спектакля, которую она поставила в красном уголке при ЖЭКе, где Алеша руководил кружком «Юный изобретатель». У Любы после очередного похода на концерт снова разболелось горло. И Макс решил, что она никогда не научится терпеливо слушать, когда другие поют. Поэтому они с Алешей начали уговаривать ее поступить на режиссерский. Меня Люба вызвала, чтобы я ей сказала правду: действительно ли у нее есть способности к режиссуре.
Любин спектакль мне понравился. Я сказала ей об этом, когда, переодевшись (Люба играла фею), она вышла в «зрительный зал». В ответ Люба подвела меня к Алеше и потребовала: «Скажи этому красавцу, что я гениальная женщина». Вот так я познакомилась с Алешей.
Я не люблю красивые лица. Некрасивое лицо всегда загадочнее. Неизвестно почему, оно вдруг может стать ужасно красивым. А красивое лицо всегда одинаковое. Привыкнешь к нему, и оно становится для тебя обыкновенным.
Алеша пошел меня провожать. Я шла и злилась. Ведь это ужасно, когда человек тебя провожает не потому, что ему хочется, а потому, что твоя подруга шепчет ему на ухо: «Я тебя прошу, проводи ее». А я была уверена, что что-нибудь в этом роде Люба шепнула Алеше. На своих днях рождения она всегда что-то шептала своим знакомым, после чего они меня приглашали танцевать.
Прощаясь, я спросила у Алеши:
— Почему вам дали такую маленькую роль?
Я хотела хоть чем-то досадить ему за лицемерные проводы.
Индеец, которого он играл, за весь спектакль говорил одно слово: «Ги-ги». С криком «Ги-ги!» он врывался на сцену и тут же убегал.
— Я как-то не задумывался над этим, — ответил Алеша, — по, вероятно, никому не захотелось кричать «Ги-ги».
А через несколько дней Алеша позвонил. Оказалось, ему нужна юридическая консультация и он хочет познакомиться с моей мамой.
— Ты подумай, — восторгалась моя мама после ухода Алеши, — работает конструктором, увлечен своими изобретениями и при этом не только не бросает кружок, которым руководил, когда был студентом, а старается вникнуть в судьбу каждого кружковца, готов каждому помочь.
Моя мама тоже любила помочь. И они начали перезваниваться по нескольку раз в день.
Когда Алеша приходил, он всегда приносил маме цветок. А мне — сказки. Потому что папа как-то вспомнил при Алеше смешной случай из моего детства. Это было сразу после войны. Папа попросил меня рассказать ему сказку. И сказку я начала так: «Один хороший заяц стоял в очереди».
Алеша над этой историей очень смеялся, а я оправдывалась, что мне мои родители мало рассказывали сказок.
— Но, может быть, заяц стоял в очереди за счастьем. Тогда это уже не такое плохое начало, — успокоил меня Алеша. И после этого стал дарить мне сказки.
По воскресеньям Алеша ходил по магазинам покупать для очередного занятия кружка разные проволочки, колесики. А вечером он иногда приглашал меня в кино или в театр. Но с нами обязательно шел кто-нибудь из его маленьких изобретателей в красном галстуке. Алеша теребил его, гладил… Алеша мог вдруг погладить и меня по голове или по руке. Он делал это так, будто не замечал, гладит он меня или своего ученика. И мне тоже ничего не оставалось, как не замечать. Только однажды, когда мы шли в метро и Алеша начал вдруг водить рукой по моей спине, я не выдержала и сказала «приятная шуба» (я была в шубе). Он тут же убрал руку и в тот вечер больше до меня не дотрагивался. И хотя я до этого все время про себя возмущалась его «непроизвольными движениями», но когда их не стало, мне сделалось тоскливо. И я вдруг подумала, что, вероятно, я для Алеши — просто одно из его добрых дел. Только меня ему поручил не ЖЭК, а Люба.
«…Я хочу любви». Алеша сказал это в декабре. За неделю до нового года. Это ни к кому не относилось. Просто люди шли вместе и разговаривали, шутили.
Я посмотрела на Алешу. Я не ожидала от него таких слов даже в шутку, и мне казалось, что я должна увидеть не Алешу, а кого-то другого. Но Алеша был все тот же.
И все-таки я не отнесла этих слов к себе. После истории с Кириллом я постановила: больше никаких выдумок, никаких самообманов. Когда я любила Кирилла, я была маленькая, ни в чем не могла разобраться, цеплялась за всякую ерунду. Теперь я взрослая, умудренная… Теперь я должна видеть все так, как оно есть, а не так, как мне хочется.
— О, это совсем просто, — ответила я Алеше, — познакомься с кем-нибудь, смотри, сколько симпатичных девушек кругом…
Конечно, я не думала так. Но почему-то мне казалось, что — именно так нужно отвечать в подобных случаях.
— Да, ты права — девушек много. А я вот…
Алеша не договорил, он вообще не всегда договаривал фразы. То, что он хочет сказать, я скорее понимала из его интонаций, чем из фраз. Интонации… Тоже путь, по которому опасно идти. И я не хотела по нему идти. Но он заставлял. Я хотела слов, а он выдавал мне интонации. Как-то он мне сказал: «Я должен все знать о твоих рачках. Все!» Интонация была такая: «Мне нужно все знать о тебе. Это очень важно для меня». Я и тогда не поддалась искушению. Я не подставила вместо слов «о рачках» слова «о тебе».
— Тебе кто-нибудь нравится?
Это была третья фраза, которую он сказал мне после того, как сообщил, что «хочет любви». Я ответила не задумываясь:
— Да.
— Кто?
Поворачиваюсь и показываю на деда-мороза, выставленного в витрине.
Алеша улыбается.
Потом я вдруг на что-то обижаюсь. Так, не всерьез. Но я перестаю разговаривать. Алеша дергает меня за рукав, ворошит волосы… Ничего не помогает.
— Послушай, — говорит он очень тихо, — ведь я могу сделать так, что ты сразу заговоришь…
Я молчу. Алеша нагибается и целует меня в щеку.
Это был мой первый поцелуй.
…В те дни я кончала рисовать рачков. Я сидела в университете с утра до вечера и боялась упустить стадии. Я ужасно нервничала. Почти все рисунки уже были готовы. Вечером, оставшись одна, я раскладывала их по полу от одного конца комнаты до другого в два ряда. Верхний ряд — рисунки артемий, нижний — бранхипусов. Эти рачки удивительно похожи. Но хвостовые вилки у них совсем разные.
Два года назад, когда я делала курсовую работу и просматривала под бинокуляром живых артемий и бранхипусов разных возрастов, я обнаружила, что хвостовая вилка у пресноводных рачков сначала развивается так же, как у соленоводных, а потом резко меняет свое развитие. Это могло служить прямым доказательством того, что пресноводные формы жаброногих рачков произошли от соленоводных.
Такой тип эволюционного развития был изучен Северцевым, и он дал ему название анаболии, или надставки стадий. То есть один вид превращается в другой путем надставки конечных стадий развития.
Тогда, два года назад, не было никаких сомнений — я напала на ярчайший пример анаболии. Оставалось только одно — сделать рисунки.
Сначала я зарисовала лишь несколько стадий развития хвостовых вилок у артемий и бранхипусов. А потом решила: надо сделать сотни рисунков, надо последовательно зарисовать каждый момент развития, каждый миг. Я работала два года. Тема моей курсовой стала темой моего диплома.
Если составить все мои рисунки и заснять, можно получить полную картину развития. Именно так делаются мультипликационные фильмы.
Я сделала такой фильм. И смотрела его часами.
Я шла по комнате слева направо и видела, как постепенно развиваются лопасти, щетинки, окаймляющие их внутренний скелет, «мышцы», управляющие хвостовыми лопастями и щетинками. И видела: хвостовая вилка у пресноводного рачка с самого начала развивается не так, как у соленоводного. С самого начала! Это значит — нет здесь никакой анаболии. Это значит — нельзя доказать, кто от кого произошел!
Сначала я успокаивала себя, объясняя все пугающие меня различия ранних стадий результатом «сдвига стадий».
Но в тот вечер я вдруг увидела, что вторая щетинка у артемии растет с внутренней стороны от первой, а у бранхипуса — с внешней. А это для чего? Какое это имеет отношение к конечным стадиям у бранхипуса? К «сдвигу стадий»?
Когда я это обнаружила, мне показалось, что я за что-то зацепилась. За что-то такое, за что можно будет тянуть и разматывать клубок…
В это время дверь открылась, и в нашу дипломную заглянули две девочки с младшего курса. Увидев меня, они тут же закрыли дверь, и я услышала:
— Кто это? — спросила одна.
— Морозова, — ответила другая.
— А что она тут делает так поздно?
— Как, ты не знаешь? Делает открытия! Ей же больше всех надо.
Я ужаснулась. Откуда такое отношение? И откуда им известно что-либо про меня? Это студентки с нашей кафедры. Значит, это мнение кафедры?
Вокруг на всех столах разложены записки:
«Ира, в 10.20 переложи в парафин».
«Ира, в 9.30 переложи в семидесятипроцентный спирт».
Вся моя группа оставляла мне эти записки. Они гуляли, ходили в театр, а я сидела здесь, рисовала и перекладывала их препараты из красителей в спирт, из спирта… Все к этому привыкли. Я думала… А оказывается, надо мной все смеются. «Ей больше всех надо. Делает открытия!»
…Я собрала рисунки и спустилась вниз к телефону-автомату.
С того дня как Алеша меня поцеловал, я его не видела. Впрочем, прошло всего дней пять. Наверное, он мне звонил, но ведь я все время была в университете… Сейчас я решила сама ему позвонить. Вялым голосом он мне ответил:
— Хорошо, если тебе так надо со мной говорить, приезжай.
Я приехала. Я думала, он заболел, лежит с температурой. Но его не оказалось дома: пошел прогуляться по улице. Я хотела уйти, но Алешина мама меня не отпустила.
В комнате, в углу возле шкафа, стоял мальчик из Алешиного кружка, рассматривал книги. Алешина мама усадила меня пить чай с печеньем, а сама стала рассказывать, как она выходила замуж за Алешиного папу. Целый год выходила, все спрашивала его, каждый день спрашивала, проверил ли он свои чувства. И он каждый день говорил ей… Тут Алёшина мама покосилась на мальчика у шкафа и не произнесла того слова, которое говорил ей Алешин папа, а только сказала, что это слово на букву «Л».
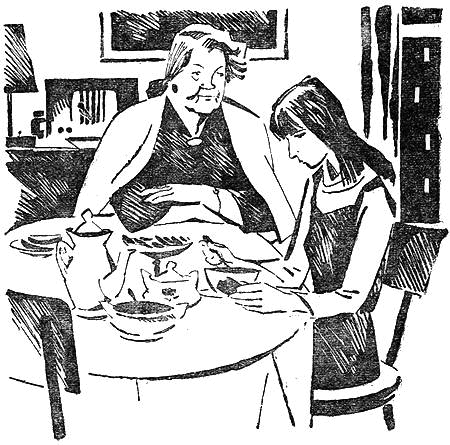 |
А потом Алешина мама пересела ко мне поближе и шепотом доверительно начала:
— Я очень беспокоюсь, что Алеша никогда не женится. У меня сегодня с ним по этому поводу был разговор. Мы даже поссорились… А ведь он пользуется успехом. Ему звонят, приглашают в компании. Но чаще всего он предпочитает сидеть дома и работать.
— И ему никто никогда не нравился? — решаюсь спросить я.
— Как сказать… — Алешина мама замялась. — Была одна. Но это было очень давно. И я приложила все усилия, чтобы не допустить там ничего серьезного. Ира, она была на четыре года старше Алеши! Он, конечно, может считать, что я разбила великую любовь, но я уверена, что поступила правильно. Сколько ночей я тогда не спала. — И уже громко Алешина мама сказала: — Да, я все забываю узнать, а у вас сон крепкий?
Я не успела ответить про сон: пришел Алеша. Подчеркнуто ласково он спросил у мальчика, какие книги тот выбрал. Потом они долго разговаривали о прошедшем заседании кружка. Когда мальчик наконец ушел и мы остались вдвоем, Алеша, зевая, проронил:
— Ну что у тебя там приключилось?
Я рассказала про девчонок с кафедры, про диплом, который не получается, и что я решила перестать морочить себе голову и просто описать хвостовые вилки у артемий и бранхипусов.
— Не понимаю, зачем ты мне это все рассказываешь, — ответил Алеша. — Я не биолог и не знаю, каким должен быть ваш диплом.
Алеша стоял ко мне в профиль. Профиль у него был, как всегда, красивый. Но только абсолютно безразличный ко всему… ко мне.
И тут я вдруг поняла, зачем мне его мама рассказала, как она целый год спрашивала у своего будущего мужа, проверил ли он свое чувство, и как тот каждый день говорил ей слово на букву «Л».
— Ты меня любишь? — спросила я у Алеши.
Алеша повернулся ко мне, глаза его засветились, но лицо осталось непроницаемо.
— Нет, — ответил он.
— Как же ты смел меня поцеловать?
— А я умею целоваться с женщинами, не любя их. Я бабочка.
Алеша поднял руки и помахал ими в воздухе, как крыльями.
Я ушла и больше его не видела. Вот уже полтора месяца.
А теперь этот звонок. Зачем? Что ему надо? В Звенигороде на практике надо мной хохотали. Я не хотела играть в игры с фактами — поцелуями. «Берегла поцелуй»! Им казалось это диким. Теперь я их понимаю. Теперь я знаю, что такое поцелуй. Ничто. Вот я сейчас подойду и поцелую шкаф. Что от этого будет шкафу или мне? Папа считает меня старой девой. Очень хорошо. Старая дева так старая дева.
Возвращаюсь к науплиусам.
Желтые шарики, плавающие в пресной воде, похожи на покрышки от футбольного мяча. Вылупившиеся из них рачки совсем такие же, как соленоводные, только они чуть-чуть меньше и чуть-чуть проворнее.
Два рачка переговариваются между собой. Два живых рачка в альбоме. Они заставляют меня чертить графики, выводить формулы, изучать целые разделы математики, термодинамики, заставляют читать книги по гидробиологии, биофизике. Заставляют…
Они заставили забыть все, что мучило меня в последнее время. Все куда-то отошло. Отступило. Об Алеше я вспоминаю только, когда он звонит. Тогда я беру трубку и кладу ее на рычаг. Я не хочу с ним разговаривать. Я только не понимаю, как он может мне звонить? Кто же он такой? Бабочка? Нет, в то, что он бабочка, я не верю. Бабочкой он назвался, чтобы отделаться от меня. Понял, что не любит, и решил отделаться. За то, что не любит, обижаться нельзя. Но если уж он порвал, то зачем звонить?
А Танька уверена, что у меня с Алешей не все кончено. Таня с Севой приходят почти каждый вечер. Свой диплом Сева закончил еще в середине года, успел даже напечатать статью и теперь вместе со мной разбирается в сложных задачах по физике и математике. Он говорит, что это ему тоже полезно. Официального распределения еще не было, но Сева добивается, чтобы его послали на Белое море. Там он решил заняться моделированием гидробиологических процессов. Мне тоже хочется куда-нибудь уехать. Хочется оказаться вдруг одной в чужом городе… А Танька говорит, что слышала, будто меня и Севу хотят оставить при кафедре. Никому и в голову не приходит, что я могу завалить диплом.
Прошел февраль. Прошли март и апрель. И вот я уже твердо знаю, что не смогу доказать, кто от кого произошел: соленоводные рачки от пресноводных или наоборот. Не смогу потому, что причина их различия все-таки не анаболия, а ценогенез, то есть приспособление личинок к разным условиям: личинок бранхипуса к пресной воде, артемии — к соленой. Разница между соленой и пресной водой тем сильнее должна влиять на строение организма, чем этот организм сложнее. Поэтому-то маленькие артемии и бранхипусы так похожи друг на друга и все-таки уже отличаются. Это отличие возрастает от стадии к стадии. Формулу возрастания я вывела.
На кафедре, наверное, будут острить: «Морозова сделала открытие, что открытия сделать нельзя». Даже, может быть, в поговорку войдет: «Чтобы не случилось с тобой, как с Морозовой!»
А что скажет Николай Иванович?.. Сейчас он в Звенигороде. Работу я ему пошлю с Севой. Сама не повезу. Не могу.
Все это время я Николаю Ивановичу врала. Врала, что все хорошо, что помощь мне не нужна, что… В общем, врала.
И теперь мне очень страшно. Ведь для Николая Ивановича будут полной неожиданностью мои новые выводы. Выводы, зачеркнувшие всю мою работу.
Сева поедет в Звенигород в следующий четверг. Надеюсь, я успею. Мне осталось составить библиографию и все перепечатать… Прошлым летом мы вместе с Севой возили на биостанцию оборудование на машине нашего завкафедрой. Николай Иванович всегда нас встречал на Верхних дачах с сыном. Его Сережке было четыре года, но он командовал отцом. Как-то, когда Николай Иванович наконец вышел из терпения и пригрозил Сережке, что оставит его одного в лесу, тот ответил: «Давай, давай еще, как интересно!» Вот уж кто знает своего отца.
А вдруг Николай Иванович, несмотря на свою доброту, не простит мне лжи. Он ведь может не понять, почему я его обманывала. И может не поверить, что я не хотела ему мешать. Решит, что я так поступила просто от самонадеянности. Я же сама слышала, как девчонки с младшего курса смеялись: «Она совершает открытия!.. Ей больше всех надо!» Нет, Николай Иванович не может так подумать. Он самый умный, самый тонкий, самый чудесный человек на свете. Николай Иванович знает меня со второго курса. За четыре года он потратил на меня столько времени, души, сил…
Только теперь, наверное, он разочаруется во мне: ведь я не оправдала его надежд.
Если когда-нибудь у меня все-таки выйдет какая-нибудь книжка, я надпишу ее: «Моему первому и единственному учителю». И подарю Николаю Ивановичу.
Сама же придумываю какие-то дурацкие ситуации и сама же реву.
«Ну давай, давай еще. Как интересно!..»
А рачки продолжают говорить, и я никаким способом не могу заставить их замолчать. Сначала я не могла заставить их говорить, а теперь они не хотят молчать.
Шепчут и шепчут мне что-то в ухо.
«Молчите», — говорю я рачкам и включаю радио, чтобы не слышать их. «Молчите!» — кричу я на них и иду в кино, показывая им, что они больше меня не интересуют, что они мне надоели… надоели… надоели! Нельзя сказать, чтобы я была несправедлива к ним. Не злилась же я на них, когда месяцами они доказывали мне, что мой диплом никуда не годится. Наоборот, я ловила каждое их слово. А теперь я хочу от них только одного — пожалеть меня и оставить в покое.
Но мне ничего не помогает. Рачки продолжают говорить. Они обещают мне открыть тайну. Я не хочу никаких тайн. Я хочу, чтобы они дали мне спокойно защитить диплом. Таким, какой он есть. Но рачки продолжают говорить. Они уверяют меня, что эту тайну знают только они одни, и больше никто. «Мы очень особенные, — говорят рачки, — мы одинаковые и в то же время разные. Эту разницу можно выразить математически. И тогда тебе откроется тайна, гораздо важнее той, которую не удалось открыть. Тайна формообразования».
Рачки гипнотизируют меня, и я за три дня пишу новую главу.
Как возникает форма? Форма живого тела? Что ее определяет? Почему она такая, а не иная? И как из одной формы образуется другая форма?
Можно рассчитать корабль. А можно рассчитать рачка? У корабля задан объем, задан материал, из которого делается корабль, а у рачка — задан сам рачок, скажем, рачок, который живет в соленой воде, и этот рачок, предположим, попадает в пресную воду. Из одной формы должна родиться другая.
Какая разница должна быть в строении органов движения у рачков в соленой воде и пресной? Можно это рассчитать и сравнить с тем, что есть на самом деле. И тогда, может быть, удалось бы установить, почему ножка такая, а не другая; почему соотношение развивающихся органов в пресной воде одно, а в соленой другое; почему хвост у соленоводного рачка маленький, с десятью щетинками, а у пресноводного огромный, со ста щетинками.
…Рачки продолжают гипнотизировать меня, и, перепечатав новую главу, я пишу письмо Николаю Ивановичу.
Я прошу его понять меня и помочь на год отложить защиту. Отложить для того, чтобы я могла сделать работу, которая была бы действительно по-настоящему ценной, — работу о формообразовании…
Я тороплюсь дописать письмо. За дипломом Сева должен заехать сегодня.
В комнату кто-то входит. Оборачиваюсь. В дверях — Алеша! Я не слышала звонка. Почему мама не сказала, что меня нет? Продолжаю писать. Алеша останавливается за моей спиной. Продолжаю писать.
— Может быть, ты прервешь свой труд? Мы все-таки не виделись довольно долго.
Алеша нагибается над моим альбомом. Алешины волосы касаются моего лица.
— Алеша, отойди.
Алеша садится в кресло и опускает голову на руки. Его лица больше не видно, а волосы падают на пальцы, которыми он подпирает лоб.
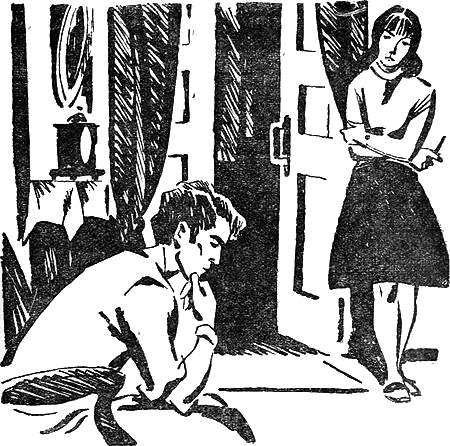 |
— Моя мама меня извела. Требует, чтобы я женился. На какой-нибудь интеллигентной девочке. Как ты смотришь на то, чтобы помочь осуществить мечту моей мамы?
Встаю, подхожу к двери, открываю ее:
— Я тебя очень прошу — уйди.
Сейчас он уйдет, и эта комедия кончится.
— Ты меня не любишь!
Каким тоном он это сказал! Словно сделал открытие. Он не в состоянии себе даже представить, что это возможно!
— Да, Алеша, я тебя не люблю.
— Я понимаю, Ирочка, ты сердишься… Но в тот день я поссорился со своей мамой. Моя мама, как ты знаешь, очень хорошая, но она любит торопить события. И когда она начинает обсуждать со мной мои личные дела, мне сразу хочется сделать все наоборот.
Я смотрю на Алешу. Так вот, оказывается, в чем дело!
— Значит, в тот вечер ты со мной так разговаривал… Назло своей маме. А теперь не можешь успокоиться, как это я без тебя не умерла, не заболела — сижу занимаюсь. Только поэтому ты и пришел.
— Это неправда, Ира, я тебе много раз звонил — ты бросала трубку. И я просто не решался прийти. А вот сегодня почему-то решился…
— Уходи.
Алеша молчит. Потом встает, идет к двери.
Я не провожаю его.
Входная дверь хлопнула.
…Звонок. Неужели вернулся?
В дверях Сева.
— Я пришел раньше, потому что хочу засветло приехать в Звенигород.
Молча я пропускаю Севу в комнату. Случайно ловлю его взгляд. Взгляд тревожный и одобрительный. Наверное, Сева встретил Алёшу и по его виду понял, что мы не помирились.
Сева открывает портфель и кладет туда мой диплом.
— Сева, сегодня утром я решила: я не буду защищаться в этом году. Человек не должен идти на компромиссы ни в чем.
Я смотрю на Севу. Никогда его таким не видела.
— Я тебя очень люблю, Ира. Понимаешь — очень.
Я опускаю глаза и смотрю в пол. Обычно Сева так смотрит, а сейчас я. На полу в щели лежит иголка.
…Поднимаю глаза — Севы нет. И портфеля его нет. Он ушел, а альбом остался на столе. И письмо Николаю Ивановичу я не успела дописать. Выбегаю на лестницу, кричу: «Сева!» Ответа нет! Бегу на улицу. Машины с нашим оборудованием нигде не видно. Может, Сева оставил ее за углом?.. И за углом ее нет.
Теперь Николай Иванович уже совсем ничего не поймет из моей работы. Только, может быть, он не станет ее читать? Увидит в тексте ссылки на рисунки, а рисунков нет.
Без рисунков в моей работе разобраться очень трудно. Даже, наверное, невозможно.
Таня сидит на кровати вся зареванная. Она ходила к Витьке. Я ой вчера сказала по телефону, что у меня был Алеша, и она вдруг решила сама пойти к Витьке и наконец выяснить с ним отношения. А теперь ревет.
— Ты, оказывается, еще зимой разговаривала с Витькой обо мне? — спрашивает Таня.
— Пыталась.
— Почему же ты мне ничего не сказала?
— Потому что он плел всякую ерунду. Посоветовал сначала поцеловаться с кем-нибудь, а потом вести такие разговоры.
— Кретин какой! Ты не обижайся, — вдруг начала меня утешать Танька. — Ладно, давай заниматься дипломом.
Танька достает схемы, текст, но сосредоточиться на своем дипломе она, конечно, сейчас не в состоянии. И вот она уже требует от меня точно разработанный план поведения по отношению к Витьке. Требует, чтобы я сказала ей, что надо делать завтра, послезавтра, через месяц. И чтобы сказала, чем все кончится! Я не удивляюсь ее требованиям. Я сама ее к этому приучила. Что ей сказать: что я стала дурой и перестала что-либо понимать? Или наоборот, наконец поумнела и поэтому больше не могу давать советов? А может быть, рассказать ей продолжение сказки про хорошего зайца, которое вчера придумала?
…Один хороший заяц стоял в очереди за счастьем. Зайцев было много-много, очередь была длинная-длинная, а счастья было мало. И не всем оно могло достаться. Для очень хороших зайцев очередь сокращалась: она была ведь волшебная очередь, а для плохих — она раздваивалась. И тогда заяц попадал не в ту очередь и получал счастье, которое оказывалось ненастоящим…
Вероятно, мы с Танькой просто плохие зайцы и попали не в ту очередь. Вот и все…
— Ладно, Танька, давай лучше действительно заниматься твоим дипломом.
Таня слушается. У Тани просто рефлекс слушаться: с детства, с пятого класса, я толкаю Таню в бок и требую: не спи, учи, повторяй за мной.
Я читаю Танин диплом, делаю замечания. Мы редактируем текст.
— Почему ты не Витька? — вдруг говорит мне Таня и целует меня в локоть. — Мне с тобой так хорошо.
Я иду от Тани домой. Начинается дождь. Но за зонтом возвращаться не хочется. И так поздно. Весь день мы с Таней просидели над ее дипломом. У Тани диплом хороший. Иногда лучше поставить перед собой маленькую задачу и решить ее, чем большую, и…
Меня, конечно, лишний год никто в университете держать не будет. Ну и что? Ведь можно пойти работать, а диплом делать по вечерам… Я хотела об этом посоветоваться с Севой, а он…
Я всегда чувствовала, что нравлюсь Севе, хотя он мне никогда прямо этого не говорил. А в этот раз… Может быть, потому что он теперь уезжает совсем. Добился — его посылают на Белое море.
Должно быть, ему сейчас очень больно. Ведь я ему ничего не ответила. А что я могла сказать? Объяснить ему, что лучше дружбы ничего на свете не бывает?.. Теперь я это поняла.
Кроме Таньки, только Сева был мне настоящим другом. Мне всегда хотелось ему все рассказать. Его откровенность я тоже очень ценила. Как-то он мне сказал уныло: «Я все еще выгляжу, как школьник». Я тогда, помню, начала его убеждать, что люди развиваются по-разному. И в пример почему-то привела превращение головастика в лягушку. Самое смешное, что именно пример с лягушкой его и убедил.
А потом к дню рождения Севы я сделала «наглядное пособие»: развитие травяной лягушки. Оно было удивительно красивым. Пять головастиков — от крошечного, в несколько миллиметров, до большого, в несколько сантиметров, — прикрепленные к стеклянной пластинке, вставленной в тубус со спиртом, отсвечивали серебром (заднюю стенку тубуса я оклеила серебряной бумагой). Но это было не все. Самое главное — был футляр, обшитый черным бархатом и расшитый бисером. Я делала пособие целую неделю. Это было на практике в Одессе. Мы жили в общежитии, и чтобы скрыть от девчонок свой подарок, я шила футляр по ночам. Но девчонки все-таки его увидели, и Галя сказала: «У тебя один свет в окошке — Сева». Севе подарок очень понравился. Развитие лягушки — это же символ нашей кафедры!
Вечером Сева повел нас в ресторан. Там мы ели что-то неслыханно вкусное, а потом Сева по очереди приглашал всех танцевать. Танцевать Сева не умел. Извиняясь перед каждой, что он лишь практикуется, Сева беспрерывно спотыкался о ноги партнерши. Всем было ужасно неудобно. И только ради дня рождения терпели. Когда очередь дошла до меня, я как-то сумела подчинить его движения своим… А Севу тут же обвинили в притворстве, потому что никто уже не верил, что он не умеет танцевать.
Дождь. Нет, это уже не дождь. Это уже ливень. Зря я не вернулась за зонтиком. Надо переждать в подъезде… Завтра, наверное, все зазеленеет…
А в ушах у меня все время Севины слова. Он сказал и ушел, а я думаю… Сегодня утром звонила Севина мама, она очень беспокоится, что Севы до сих пор нет. Я помню, когда мы с Севой возили оборудование, то обычно возвращались на следующий день. Наверно, его задержал Николай Иванович, попросил в чем-нибудь помочь.
А вдруг Сева возвращается сейчас? В такой ливень… Вообще-то Сева водит машину хорошо. Я люблю смотреть, когда он за рулем. Сева держит руки как-то по-особенному, почти не сгибая пальцы. В пальцах чувствуется и напряжение и легкость.
Град пошел. Град вместе с дождем. Хорошо, что я стою в подъезде. Отсюда так все красиво! Белый град бьет по разноцветным зонтикам и отлетает от них в разные стороны…
…Когда-то это все уже было. Такой же ливень. Только тогда не было града, а было солнце. Я шла по улице Горького и пела: «Битая, тертая, сто двадцать четвертая…» Это было в девятом классе. У меня была победа. Сейчас победы нет, а настроение почему-то вдруг стало удивительное…
На тротуаре белая пена из тающего града.
Как хочется скорее увидеть Севу! Скорее сказать ему, как это прекрасно, что мы с ним такие друзья, что мы так понимаем друг друга, что мы можем никогда друг в друге не сомневаться. Когда Сева уедет на Белое море, я буду писать ему длинные письма. И пусть он чувствует, что есть человек, который всегда хочет, чтобы ему было хорошо.
В последнее время он заходил ко мне каждый день. Он знал все. Знал, как с каждым днем я все больше и больше развенчиваю свой диплом. Он уходил и, придя домой, тут же звонил мне, и я понимала, что он живет моей работой. Он приучил меня к этим звонкам… И мы говорили, говорили…
А теперь он уедет. Уедет? Нет, я но представляю себе дня без голоса Севы. Мне нужен его голос, мне нужно его видеть. Мне нужен он. Он!..
Я люблю его!
Я замираю. Боюсь пошевельнуться. Может быть, это пройдет? Может быть, мне это только почудилось? Ведь еще минуту назад я ничего об этом не знала. Нет, я люблю его!
Я иду домой. Иду очень быстро. Потоки воды несутся по мостовой. Вода бурлит возле железных решеток и падает в подземные колодцы.
Если Сева приехал, он должен позвонить мне, и я ему скажу… Я ему все скажу… Все.
Во дворе очень темно… Бегу по лестнице… Открываю дверь.
На моем столе письмо. На конверте Севиным почерком написано: «Ире». Я письмо не распечатываю. Я сажусь на стул и долго смотрю на конверт.
Потом беру ножницы и осторожно надрезаю край. Письмо от Николая Ивановича.
…Открываю альбом… Два рачка переговариваются между собой.
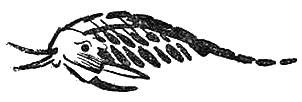 |
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |